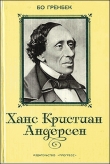Текст книги "Андерсен"
Автор книги: Борис Ерхов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Речь в ней идет об отношениях между садовником и его работодателями, хозяевами родового поместья, где он трудится, причем активной стороной в возникшем между ними конфликте выступают хозяева, садовник лишь делает свое дело, – но настолько хорошо, что господа начинают ему завидовать. В самом деле, о подобном таланте, вкусе и профессионализме в своей области они не могут даже мечтать. В первый раз господа попеняли садовнику на то, что у них в саду не растут замечательные яблоки и груши, которыми их угощали в гостях. Оказалось, однако, что замечательные яблоки и груши, которые хозяевам так понравились, куплены у их же садовника, это он их вырастил. Но убедил он господ в этом только при помощи справки – ведь господа ему не поверили. Во второй раз господа были приглашены на прием во дворец, где им подали великолепные дыни – таких они в жизни не пробовали! Неужели садовник не знает их сорта? Пришлось ему сказать, что семена дынь королевский садовник брал у него. А поскольку сезон у его коллеги выдался неурожайный, пришлось ему приобрести у него и сами дыни. В третий раз хозяева подарили навестившей их принцессе плававший у них в вазе прекрасный «индийский лотос», который ей безумно понравился. Каково же было их изумление и негодование, когда Ларсен, так звали садовника, сообщил им, что это был вовсе не лотос, а насаженный им на лист водяной лилии голубой цветок артишока. Хозяева поместья тут же побежали извиняться перед принцессой за то, что подарили ей обыкновенный овощ. И получили от нее выговор: они должны благодарить своего садовника, ведь он открыл для них красоту там, где никому не приходило в голову ее искать.
Еще один подвиг истинного художника и специалиста Ларсен совершил, когда на месте поваленных бурей высохших старых деревьев в саду – сам-то он давно покушался их выкорчевать, да хозяева не давали, они считали деревья данью старой дворянской традиции – посадил обычные лесные и полевые растения. Вместо деревьев он поставил две мачты: на одну водрузил датский флаг Данеброг, а на другую повесил сноп овса, чтобы «птицы небесные» лакомились им на Рождество. Этот уголок его сада настолько всем понравился, что в одной копенгагенской газете появились статья о нем и гравюра с его изображением.
Хозяева Ларсена недоумевали: неужели им придется гордиться тем, что Ларсен на них работает?
Гордости за Ларсена они не испытывали. «Они чувствовали себя господами, которые вполне могли уволить старика-садовника, но они этого не делали, они ведь были неплохие люди, – много таких, как они, среди господ – и в этом счастье всех Ларсенов(курсив мой. – Б. Е).
Вот и вся история о садовнике и господах.
Поразмысли как-нибудь над ней!» [206]206
Пер. А. Нестерова. Там же. С. 574.
[Закрыть]
Содержание и форму этой сказки я не могу назвать иначе как подстрекательскими.
Впрочем, у Андерсена было много лиц. И одно из них – лицо Домового из сказки «Домовой у лавочника» (1852), содержание которой было бы нелишне напомнить.
Если очень коротко, то домовому в ней пришлось выбирать между рождественской кашей лавочника и дивной книгой, озарявшей все неземным светом, которую Студент, обитавший на чердаке, выкупил у жившего внизу лавочника и тем самым избавил ее от превращения в оберточную бумагу. Сердце домового принадлежало чудесной книге, и он спас ее при пожаре, но, когда пожар потушили, понял, что без каши ему тоже не обойтись.
В результате он решил, что придется ему жить на два дома. Он не может бросить лавочника… и кашу.
«И это было так по-людски! Мы ведь тоже ходим к лавочнику – за кашей!» [207]207
Пер. Н. Киямовой. Там же. Т. 1. С. 580.
[Закрыть]
Как замечал не один биограф, Андерсен не только каждую неделю по очереди обедал у своих друзей, но еще и каждый год гостил у своих состоятельных друзей и знакомых в их поместьях в Дании и за границей. Он, естественно, приезжал только по приглашению, даже некоторые под благовидными предлогами или же вынужденно отвергая. Список усадеб, замков и загородных домов, в которых ему доводилось гостить, занимает не одну страницу (по данным Центра Андерсена в Оденсе, в Дании их 55 и девять в Швеции, Германии и Португалии). Он привык в них не только развлекаться, но и работать – взращивать, по совету Вольтера, свой собственный сад. К тому же в поместьях и замках, в отличие от Копенгагена, большей частью было тихо и несуетно. Вспомним, как начинается сказка «Гадкий утенок»: «Хорошо было за городом!» Андерсен сам писал, что большинство своих сказок создал в деревне. «У тихих озер, в глубине лесов, на зеленых лужайках, где из кустов то и дело взлетала и выпрыгивала дичь, где важно разгуливал красноногий аист, никто не говорил ни о политике, ни о полемике, не рассуждал о Гегеле. Я слышал лишь голос природы, говоривший мне о моей миссии» [208]208
Пер. О. Рождественского. Там же. Т. 3. С. 238.
[Закрыть]. Писатель искренне любил хозяев загородных домов и поместий, людей, как правило, образованных – с другими он общался только по принуждению. И он по-сыновнему относился к хозяйкам, опекавшим его с материнской нежностью. Хотя господа тоже бывали разные. А простолюдин в Андерсене сидел крепко.
И в 1830-е, и в 1840-е, и в 1850-е, и в 1860-е годы поэт писал сказки и истории очень разные – о смысле жизни, о богатстве, о любви, о Божьем наказании и искуплении грехов, об искусстве, сказки серьезные и пародийные, иногда же и вовсе юмористические и бездумные. Его сатира могла быть легкой, когда он смеялся над простительными человеческими слабостями и недостатками – чаще всего заносчивостью и высокомерным хвастовством: «Воротничок» (1848), «Навозный жук» (1861). И та же сатира могла быть ироничной и горестной, когда он шутил над самим собой: «Мотылек» (1861), «Чайник» (1865), или просто шаловливой: «Что муженек ни сделает, то и хорошо» (1861), «Домовой и хозяйка» (1868), «Блоха и профессор» (1873).
В первой из перечисленных сказок Воротничок терпит в своих жениховских притязаниях одно поражение за другим. Его не хочет знать женская подвязка, строящая из себя недотрогу, а утюжная плитка обзывает «ветошью». Его изрезала в сердцах балерина из высокого рода ножниц, а гребенка отказала ему, потому что была уже помолвлена. Но Воротничок не терял куража и, прежде чем его искромсали на бумагоделательной фабрике, успел похвастаться перед другим тряпьем. У него было множество невест! Они не давали ему проходу! Накрахмаленный, он был кавалер хоть куда! Грациозная, нежная и прелестная подвязка бросилась из-за Воротничка в корыто с водой. А одна вдова до такой степени к нему воспылала, что вся почернела. Еще была одна танцовщица, которая от страсти его порезала. И его же собственная гребенка до такой степени его полюбила, что от сердечной тоски потеряла зубы.
С горькой усмешкой Андерсен дает сказке следующее, почти гоголевское, окончание:
Если недотепа и хвастунишка Воротничок в чем-то еще может вызывать у нас сочувственную симпатию, то герой сатирической истории «Навозный жук» – только насмешливое презрение. Этот самодовольный фанфарон, обосновавшийся при королевской конюшне, требовательно протягивает кузнецу свои тонкие лапки, чтобы тот подковал их золотыми подковами. Причина – скакун из этой же конюшни спас в сражении жизнь самому императору, за что и был награжден. Хотя, по мнению навозного жука, его награда несправедлива. Ведь при этом обошли его, Жука! В знак протеста он покидает конюшню и отправляется в дальний путь.
Пролетев совсем немного, он оказывается в прелестном благоухающем цветнике, где божья коровка восторгается окружающей обстановкой. Но навозный жук не согласен с ней: в цветнике нет ни одной навозной кучи! Чуть поодаль он встречается с гусеницей, ползущей по стеблю левкоя. Она тоже в восторге от солнечной погоды и сейчас находится в радостном ожидании того, что еще немного, и превратится в бабочку. Но навозный жук перечит и ей: она много о себе воображает, о такой судьбе не смеет мечтать даже любимый конь императора, донашивающий сейчас золотые подковы, которыми в свое время наградили его, навозного жука. Полетав еще немного, жук шлепнулся на зеленую лужайку, вымок на ней под дождем, но кое-как пережил непогоду. Иного мнения о сырости придерживаются встретившиеся ему лягушки. Они называют ее благословением Божьим. «Кто не радуется такой погоде, – говорят они, – тот не любит свое отечество». (Последнюю фразу Андерсен явно приписывает своим недоброжелателям, много прохаживавшимся на тему его увлечения путешествиями и заграницей.) С этим навозный жук, следуя своей природе, не согласился, он искал крышу над головой и лучше всего какой-нибудь парник.
Благополучно пережив еще несколько приключений, он влетает в одно окно и… оказывается на королевской конюшне, на мягкой и длинной гриве коня. Наконец-то он оседлал любимого скакуна самого императора.
Андерсен приводит в «Сказке моей жизни» историю возникновения этой истории:
«В одном из номеров „Домашнего чтения“ Диккенс напечатал подборку арабских пословиц и поговорок и в примечаниях к одной из них написал: „Когда пришли подковывать коня паши, таракан тоже протянул свою лапку. (Из арабского.) Изысканнейшая штучка! Надо обратить на нее внимание Ханса Кристиана Андерсена“. Я хотел было написать соответствующую сказку, но из замысла ничего не вышло. Только теперь, через девять лет, как раз в предпоследний день года в имении Баснес, когда я опять случайно наткнулся на журнал с записью Диккенса, сказка сложилась у меня будто сама собой» [211]211
Пер. Б. Ерхова. Там же. Т. 3. С. 582.
[Закрыть].
Среди юмористических сказок Андерсена есть и вовсе беззлобные. В духе добродушия и лукавства он переделал, в частности, одну из народных, которую, как он сообщает в ее начале, слышал еще в детстве. Толчком к написанию, как предполагает один из исследователей творчества Андерсена Ханс Брикс, мог явиться невыгодный обмен денег, о котором писатель упоминает в дневнике 4 декабря 1860 года: на каждом из золотых наполеондоров он потерял в тот день 15 датских скиллингов. На следующий день Андерсен записал в том же дневнике: «Вечер провел дома и написал старую историю о том, как один человек поменял лошадь на корову и т. д. и т. д.» [212]212
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Andersen H. C.Dagbøger. København, 1974. Bd. 4. S. 471.
[Закрыть]. Писатель имеет в виду сказку «Что муженек ни сделает, то и хорошо» (1861), получившуюся у него очень жизнеутверждающей.
Конечно, смешно и грустно читать, как бедный крестьянин, меняя лошадь на корову, корову на овцу, овцу на гуся, гуся на курицу и, наконец, курицу на мешок гнилых яблок, раз за разом совершает бессмысленно невыгодные сделки, усугубляя и без того свое незавидное положение. Но за все глупости ему воздается сторицей. Он, по-видимому, слепо верит жене, а она готова простить ему что угодно и старательно выдумывает доводы, оправдывающие его сумасбродные сделки. И муж, и жена от них только выигрывают. Восхищенные взаимной преданностью супругов богатые англичане, поспорившие, что жена крестьянина заругает, безропотно выплачивают им свой проигрыш – четверик золотых монет.
Насколько узнавал читатель Андерсена в герое сказки «Мотылек» (1861), наверное, останется неизвестным. У писателя определенно не было столь широкого выбора невест, как у его сказочного героя. Выбирая ее среди цветов, мотылек посчитал, что анемоны для него «горьковаты, фиалки показались ему слишком мечтательными, тюльпаны – слишком эффектными, нарциссы – простоватыми, липовые цветы – чересчур маленькими, да еще и с бесчисленной родней; цветы яблони, правда, похожи на розы, но сегодня они есть, а завтра подует ветер и они облетят. Очень уж коротким окажется брак с ними» [213]213
Пер. Т. Чесноковой. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 2. С. 283.
[Закрыть]. А потом наступила осень. Но мотылек все-таки нашел прибежище на зиму, он залетел в дом, там его увидели, восхитились им и, насадив на булавку, поместили в ящик с редкими бабочками. Андерсен не раз сравнивал себя с мотыльком в «Книге жизни» и в письмах: от 1 августа 1834 года Хенриетте Вульф: «Я – поэт-бабочка» и от 1 декабря 1837 года Хенриетте Ханк: «Хаух пишет мне: „Не отгоняйте от себя Вашей тоски; она-то и придает Вашим творениям высший блеск“. О Господи! Так, значит, мне быть бабочкой на булавке, чтобы доставлять людям удовольствие красивым зрелищем!»
В своей переписке Андерсен не раз упоминает о том, что хотел бы жениться, но неизменно связывает возможность брака с твердым материальным благополучием, которого он пока еще не достиг. Одной пылкости чувств, как считал поэт, для брака недостаточно (тут он неизменно был реалистом). На обратном пути из Италии 9 апреля 1834 года Андерсен писал брату Риборг Войт Кристиану, с которым сохранял дружеские отношения:
«Я часто думаю, если бы я был красив, богат и имел какую-то должность, тогда бы я женился, работал, ел и наконец улегся бы на кладбище – какая это была бы приятная и счастливая жизнь! Но поскольку я безобразен и никогда не избавлюсь от бедности, никто не пойдет за меня замуж, потому что девушкам нужна обеспеченность, в чем они совершенно правы. Так что придется мне стоять одиноко, как стеблю чертополоха, и ловить плевки на мои острые колючки».
Осенью 1837 года после выхода в свет романа «Всего лишь скрипач», обнадеженный обещаниями графа Ранцау похлопотать о назначении ему писательской стипендии, 25 ноября Андерсен с некоторым скепсисом пишет Хенриетте Ханк, что Ранцау очень уж напоминает ему графа из его романа (опекуна Наоми) и что стипендия в любом случае не решит его материальных проблем:
«Допустим, что я получал бы столько же, сколько профессора Хойн и Херц, по 400 ригсдалеров в год. Какое невообразимое счастье! Тем не менее меня такой заработок не осчастливил бы, мне требуется 1000, чтобы я мог только влюбиться, и 1500, чтобы жениться, и к тому времени, когда это полуневозможное произойдет, девушку у меня уведут, а я так и останусь старым, высушенным холостяком».
Пессимизм этих строк еще иронически наигран, более серьезный подход к этой же теме звучит в доверительном тоне письма Хенриетте Ханк, посланного ей 1 декабря 1837 года, в момент, когда Андерсен уже начинал пожинать плоды настоящего литературного успеха:
«Вы пишете, что я, конечно, не стану таиться от Вас, если сделаюсь женихом. Конечно нет! У меня, Господи Боже мой, и в мыслях такого нет! В городе, по свойственной людям манере заниматься людьми известными, меня женят то на одной, то на другой особе, но уверяю Вас, я не помышляю о них и вообще о браке. На столько-то у меня ума хватит, чтобы не делать неразумного шага. И дай мне Бог всегда рассуждать так же здраво! Я едва обеспечил себе сносное существование и не имею видов на будущее. А между тем жене моей понадобилась бы такая же обстановка, к какой она привыкла в родительском доме, – так как мне жениться? Я так и умру одиноким, как мой бедный Кристиан из романа. Не думайте, что я преувеличиваю, сгущаю краски. Нет, я, как сестре, чистосердечно открываю Вам свою душу. Да, будь я богат и имей надежду зарабатывать в год тысячу-другую, я бы влюбился! Здесь есть одна девушка, прекрасная, умная, добрая, милая, принадлежащая к одному из интеллигентнейших семейств города. Но у меня нет состояния, и я – даже не влюбляюсь» [214]214
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1895. Т. 4. С. 356, 357.
[Закрыть].
Говоря о девушке, Андерсен, скорее всего, имеет в виду шестнадцатилетнюю Софи Эрстед, дочь своего ученого друга, которую знал еще маленькой девочкой. Вряд ли он не понимал фантастичность такого матримониального плана, в который, по сути, не верил. К тому же, как это отмечено в его дневнике, незадолго до Рождества Софи уже была помолвлена.
Выше говорилось о нескольких увлечениях Андерсена. Можно упомянуть еще об одном, предшествовавшем ухаживанию за Йенни Линд. Оно касается Матильды Барк, дочери шведского графа, с которым Андерсен познакомился в усадьбе шведского барона Карла Густава Врангеля, пригласившего его погостить у него в поместье в Сконе (южная провинция Швеции, на протяжении нескольких веков служившая причиной раздора между двумя странами). На пароходе, направлявшемся через пролив в шведский город Мальмё, Андерсен встретил среди пассажиров ненавистного ему критика Кристиана Мольбека, с которым, согласно его письму Хенриетте Вульф от 3 июля 1839 года, обменялся несколькими словами:
«„А, это вы, господин Андерсен, – ворчливо сказал Мольбек, – вы тоже в Сконе?“ – „Да, – ответил я, – еду к барону Врангелю“. – „Ну, мне все равно, к кому вы едете“, – ответил тот и широко осклабился».
В том же письме Андерсен сообщает Хенриетте, как хорошо его принимали в шведских поместьях, по которым его возил Врангель: «Ах, какое благотворное чувство испытываешь, когда тебя встречают с любовью. Одна из графинь Барк долго жила в Париже, она молода, жива и красива. Были бы у меня деньги, я бы влюбился, несмотря на мой престарелый возраст».
Андерсен вновь посетил Сконе весной следующего года, когда студенчество Лундского университета устроило в его честь праздник. Писатель, несмотря на «престарелый возраст» – ему было всего 34 года, – воспользовался этим случаем, чтобы возобновить знакомство с сестрами Барк – Лувисой и Матильдой. Они неплохо провели время, и сестры провожали его на пристани, когда он отплывал обратно в Данию. Между Матильдой и Хансом Кристианом завязалась переписка, которая, однако, вскоре оборвалась. В последнем, немного обиженном письме Андерсену (он долго не отвечал) от 29 января 1841 года фрекен Барк сообщала, что часто вспоминает о нем и что теперь, когда Андерсен уехал из Копенгагена, она не собирается посещать этот город: без него он потерял для нее привлекательность. Адресат в тот момент находился в Риме и получил письмо только через три года в Копенгагене, когда был увлечен Йенни Линд. Матильда послала ему письмо в Рим со своей приятельницей, которая просто о нем забыла. Шведская графиня вскоре обручилась с бельгийским дипломатом, а потом в возрасте всего двадцати двух лет скоропостижно умерла.
Но довольно о печальном. Андерсен был здоровым и крепким мужчиной, и ничто человеческое не было ему чуждо. Иное дело, что, подчиняясь велениям лютеранской этики и полученным в детстве запретам, он, можно сказать, почти противоестественно обуздывал свои чувства, о чем свидетельствуют многочисленные заметки в его дневнике. Так, например, 16 февраля 1834 года он упоминает, как горячили его, а также его спутников всевозможного рода предложения сексуальных услуг на улицах Неаполя во время первой поездки в Италию, а 11 июля 1842 года, находясь в гостях в датской усадьбе Брегентвед, записывает: «Чувственно настроен, ощущал почти звериную страсть в крови, яростную потребность в женщине, желание целовать и обнимать ее, точно как я жаждал того на Юге» [215]215
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Andersen H. C.Dagbøger. København, 1973. Bd. 2. S. 276.
[Закрыть]. Андерсен несколько раз в сопровождении друзей, как было принято в те времена, бывал в публичных домах, платил женщинам причитающееся им, но так и не смог переступить через моральные запреты и ограничивался с женщинами лишь разговорами. Вот одна наиболее полная запись из дневника о посещении публичного дома в Париже, помеченная 17 мая 1868 года:
«Там я только сидел и разговаривал с турчанкой по имени Фернанда, в то время как Э. развлекался в другой комнате. Впрочем, она была из всех самая хорошенькая; мы разговаривали о Константинополе, ее родном городе, об иллюминации, устраиваемой в честь дня рождения Магомета; она была очень настойчива в отношении „pour fair lʼamour“, но я сказал ей, что зашел сюда, чтобы поговорить и только. Заходите еще, пригласила она, но не завтра, у меня завтра выходной. Бедная женщина» [216]216
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Andersen H. C.Dagbøger. København, 1975. Bd. 8. S. 69–70.
[Закрыть].
И добавим: бедный писатель! Будем тем не менее уважать его волю. Что касается женитьбы, Андерсен предельно полно объяснил нам свою ситуацию в сказке. Он слишком долго медлил, пока не понял, что она, как он считал, уже потеряла смысл. «Мотылек выбирал слишком долго, а это не дело» [217]217
Пер. Т. Чесноковой. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 2. С. 283.
[Закрыть].
И еще одна ироничная и немного грустная сказка «Чайник» (1865) – о смысле творчества и доле художника. Главный герой ее гордился собой и фарфором, из которого был сделан. И еще длинным и изящным носиком, которого ни у одной вещи, кроме него, в чайном сервизе не было (как не вспомнить при этом о выдающемся, почти гоголевском носе Андерсена!). Сахарница и сливочник – это всего лишь слуги приятного вкуса, в то время как чайник своими китайскими листьями в кипятке дарит жаждущему человечеству благодать. Но вот случилось несчастье. Изящная рука, державшая чайник, дрогнула, уронила его, и носик, ручка и крышка того разбились, после чего его отдали одной бедной женщине. Как ни странно, но у чайника после этого началась новая и лучшая жизнь. Его набили землей, а внутрь посадили луковицу, проросшую мощным и прекрасным цветком. Чайник был счастлив, хотя счастье его продлилось недолго. Кто-то сказал, что такой красивый цветок заслуживает горшка получше, после чего чайник разбили надвое, а черепки выкинули во двор. Там они и легли без дела, но «с воспоминаниями, которых никто у них не отнимет!» [218]218
Пер. Н. Федоровой. Там же. С. 351.
[Закрыть].
Символическое иносказание было любимейшим инструментом Андерсена, но он мог прекрасно обходиться и без него. Особенно характерно это для его чисто юмористических сказок, главную роль в которых играли фантазия и преувеличение. В качестве примера приведем остроумнейшую сказку «Домовой и хозяйка» (1868).
Семинарист Киссеруп, гостивший у своей тети, жены садовника, высоко ценил ее поэтический дар. Он утверждал, что у нее есть талант к поэзии, в то время как садовник говорил, что главное для женщины – это вальяжное тело и еще ей следует следить за горшками в печке, чтобы каша не пригорала! Как-то семинарист погрузился в разговор с хозяйкой о ее поэтическом таланте. Особенно нравилась ему одна строка: «Земля прелестна в праздничном уборе!»
Их разговор тем временем подслушивал домовой, который на хозяйку сердился, потому что считал: она в его существование не верит. Она ведь называла его не более чем абстрактным понятием! То есть не признавала его. В отместку он дул в очаг, отчего пламя вспыхивало и каша у хозяйки убегала. И еще ему нравилось дразнить пса: домовой сидел на поленнице и болтал ногами: псу на цепи все равно его не достать. Он также проделывал дырки в носках хозяина, добавляя его жене хлопот, и открывал дверь в кладовку, пропуская кошку, которая лакомилась там кипячеными сливками. При всей начитанности не худо бы садовнице выказать ему немножко внимания и уделять в сочельник хоть ложечку каши. Кошка, прочитавшая его мысли о сливках и каше, облизнулась.
Между тем домовой все внимательнее вслушивался в разговор о поэзии. Садовница как раз излагала свои принципы сохранения языка, руководствуясь которыми, избегала иностранных слов и вместо «бульон» и «филей» использовала родные «навар» и «вырезка». Она мельком коснулась своего стихотворения «Малютка-домовой». Как раз о его проказах. Семинарист прочитал стихотворение вслух. Домовой навострил уши, он не ожидал услышать о себе ничего хорошего, но, когда узнал из стихотворения о силе и величии домового и о его власти над хозяйкой – это был, конечно, всего лишь поэтический образ, но домовой воспринял его буквально, – расплылся в довольной улыбке и признал, что был к садовнице несправедлив. Так закончились для кошки счастливые денечки в кладовке садовницы.
Еще более смешную и изобретательную по манере исполнения сказку Андерсен написал в предпоследнем году своей жизни. Это – «Блоха и профессор» (1873).
В этой сказке и блоха – не блоха, и профессор – не профессор, так они просто называются. Блоха, наделенная человеческими чертами, постоянно то увеличивается, то уменьшается, а профессор получил свое имя благодаря импозантному виду и тому, что выступал с блохой в цирке.
Он был сыном настоящего воздухоплавателя, которому не повезло: его шар лопнул на высоте и он разбился, однако успел выбросить из корзины своего маленького сына, который спустился на парашюте и остался цел и невредим, а потом выучился и узнал о воздухоплавании столько, что свободно мог бы управлять шаром. Только денег на покупку шара у него не было.
Со временем из мальчика получился стройный и видный молодой человек, который умел говорить, не шевеля губами, то есть заниматься чревовещанием. Он умело использовал свой талант и стал разъезжать по городам и весям, показывая фокусы в цирках вместе со своей молодой женой. Любимым из них был фокус с исчезновением жены, которая на самом деле пряталась в потайном ящике тут же на сцене. Так продолжалось долгое время, пока в один прекрасный день жена по-настоящему не исчезла. Профессор не нашел ее ни в потайном ящике, ни на сцене, ни за сценой. А без нее Профессор приуныл, представления у него не получались, одежда обветшала, сборы прекратились. И он бы пропал, если бы не блоха, доставшаяся ему в наследство от жены. Она его утешила, выучилась искусству и стала выступать вместе с ним, отчего сборы на спектаклях сразу же выросли. Она и Профессор договорились, что никогда не расстанутся, блоха останется незамужней, а Профессор вдовым. Вдвоем они объездили все страны мира, кроме Страны Дикарей, но наконец приехали и туда. Страной Дикарей тогда правила маленькая принцесса, отобравшая власть у отца и матери. Увидев, как блоха берет ружье на караул, она тут же в нее влюбилась, посадила на свою ладошку и решила, что теперь страной они будут править вместе. А Профессора они оставили лежать в гамаке и отдыхать. Кормили его вкусно и сытно свежайшими птичьими яйцами, глазами слона и седлом жирафа, пока ему это не надоело, и он решил бежать, вызволив, конечно, из плена свою напарницу. Пообещав отцу принцессы сделать ему пушку, от выстрелов которой птицы падали бы на землю жареными, он выпросил у него материалы для ее строительства: шелк, канаты и желудочные капли для раздувания, чтобы выстрел из орудия гремел громче. Изготовив из материалов воздушный шар и хитростью посадив в него блоху, Профессор благополучно улетел из Страны Дикарей, и с тех пор артисты ездили из города в город и из страны в страну по железной дороге первым классом, вместо четвертого. «Теперь у них был хороший заработок и большой воздушный шар. И никто не спрашивает, как они его раздобыли, откуда он у них, ведь блоха и Профессор – почтенные, всеми уважаемые господа» [219]219
Пер. А. Нестерова. Там же. С. 578.
[Закрыть].
«История „Калека“ – одна из последних, – пишет Андерсен в „Примечаниях“ к пятому тому прижизненного собрания „Сказок и историй“, – я думал даже, что она будет самой последней – и так как принадлежит, на мой взгляд, к числу лучших, и к тому же является своего рода прославлением сказки, то годилась бы, пожалуй, для заключения всего собрания» [220]220
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1894. Т. 2. С. 521.
[Закрыть].
Герой этой сказки (1872) – подросток из бедной крестьянской семьи, старший из пятерых детей, был живым и подвижным ребенком, пока не заболел и у него не отнялись ноги, и вот уже пятый год он лежал в постели. В остальном Ханс был смышленым и умным мальчиком, очень любившим читать.
Молодые хозяева поместья, в саду которых работали родители Ханса, ежегодно на Рождество собирали у себя бедных детей местной округи, угощали их и раздавали им подарки. И поскольку Ханс в имение сам прийти не мог, они прислали ему книжку сказок и легенд, из которой мальчик прочитал своим родителям, постоянно роптавшим на то, что богатым достается все, в то время как работники не получают почти ничего, две сказки-притчи. В первой из них дровосек и его жена кляли Адама и Еву за то, что те, ослушавшись Божьей воли, съели яблоко, в результате чего род людской был обречен на муки. Случилось так, что мимо проезжал король, который, зная о их недовольстве, пригласил их пожить у него во дворце. Но он поставил перед ними условие. Каждый день им будут приносить обед из семи блюд, к которому прибавлялось еще одно – в закрытой чаше. Крышку с нее нельзя было снимать ни в коем случае. Прошло какое-то время, и любопытная жена дровосека все-таки чуть-чуть, но приподняла крышку. А из-под нее юркнули наружу две мыши, тут же скрывшиеся в щели. После этого король отправил дровосека и его жену домой: пусть живут, как знают, и не клянут впредь Адама и Еву. В них такая же тяга к ослушанию и неблагодарность!
Но и сильные мира сего далеки от счастья. Об этом поведала родителям Ханса вторая прочитанная им история. Жил-был король. И на него напала хворь, излечить которую можно только с помощью рубашки, изношенной человеком, который мог бы сказать о себе, что он не знает ни скорби, ни печали. Король разослал по всем странам и весям гонцов с наказом отыскать такого человека. Но тот никак не отыскивался.
Как-то, проезжая по дороге, король заметил на обочине веселого свинопаса. В ответ на заданный вопрос тот сказал, что в жизни не знал ни скорби, ни печали. Тогда король попросил свинопаса отдать ему свою рубашку, пообещав за нее полкоролевства. Свинопас засмеялся и ответил, что с удовольствием отдал бы ее, если бы она у него была.
Родителям Ханса прочитанные истории очень понравились. Тут мимо их дома проходил учитель и они рассказали ему, как развеселил и утешил их сын. С тех пор учитель стал чаще заходить к ним и беседовать с мальчиком. Он рассказал о Хансе молодым хозяевам поместья, и те прислали ему в подарок певчую птичку в клетке. Родители были недовольны. Мало им забот, так теперь еще за птичкой ухаживай! Ее непременно задушит кошка! Так почти и случилось. Однажды, когда родители ушли из дома, она зашла в комнату и нацелилась, чтобы схватить птичку. А Ханс ничего поделать не мог, он ведь не передвигался без посторонней помощи. Кошка все ближе подбиралась к клетке и, наконец, прыгнула. И тут неожиданно для самого себя Ханс метнулся, схватил клетку и выскочил за дверь. Так он обнаружил, что может ходить и даже бегать. В тот же благословенный день он решил стать переплетчиком, чтобы читать много-много книг, о чем рассказал учителю. Тот в свою очередь передал все помещикам, и те решили за свой счет послать мальчика учиться за границу. Отец Ханса до такой степени обрадовался, что подумал: нет, такого в жизни вообще не бывает, такое случается только в книжке, которую для них читал сын.
Сказка Андерсена недвусмысленно призывала к социальному миру. И тому были свои причины. В Копенгагене назревало недовольство рабочих, и политики-социалисты стали вести среди них пропаганду, рабочий класс начал организовываться. Андерсен чутко улавливал настроения населения. Осенью 1858 года к нему обратились с просьбой прочитать в недавно организованном Рабочем союзе лекцию, и он первым среди писателей выступил с лекцией о литературе и чтением сказок. Хотя, как писал он в «Сказке моей жизни», людская толпа неизменно вызывала у него страх и, как бы отуманивая рассудок, лишала воли. «Тем не менее встречают меня всегда с радостью и провожают с шумными аплодисментами». Приведем начало его лекции, процитированное в автобиографии: