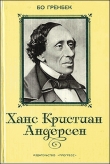Текст книги "Андерсен"
Автор книги: Борис Ерхов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Роман «Быть или не быть» вышел, чтобы предупредить пиратские издания, в мае 1857 года почти одновременно в Дании, Англии и Германии. Он начинается, как и многие другие произведения Андерсена, с детства героя, которое тот провел в копенгагенской Круглой башне – как раз той, с которой сравнивает автор сказки «Огниво» глаза самой большой из трех волшебных собак. Неудивительно, что мальчик много думает и фантазирует. Весь верхний этаж башни, в которой он живет, представляет собой обсерваторию, ради которой, собственно, здание в 1642 году и построено – с научной, а не военной целью! – датским королем Кристианом IV. С башни по сей день открывается широкая панорама центральной части Копенгагена, а на фасаде ее выписана сокращенная надпись, своего рода ребус или эмблема, составленная королем-строителем. Если верить путеводителям, она разгадывается так: «Да ниспошлет Господь учение праведное и справедливость в сердце короля Кристиана IV. 1642». На чугунной решетке смотровой части башни также прочитываются монограмма короля и латинская надпись «RFP» – сокращение девиза «Regna Firmat Pietas» – «Благочестием держава сильна». Там же, на площадке, установлен памятник великому датскому астроному Тихо Браге. Существует распространенное мнение, будто башня была построена для него, но это неверно: знаменитый ученый умер за 41 год до завершения строительства. Ныне Круглая башня – одна из интереснейших достопримечательностей Копенгагена, в ее обсерваторию (сейчас она обслуживает туристов) ведет не спиральная лестница, а настоящая дорога длиной 210 метров. По ней, согласно легенде, в 1716 году в обсерваторию верхом на коне проскакал Петр I, а за ним в запряженной шестеркой лошадей карете – его супруга. В наше время в Круглой башне ежегодно проводятся велосипедные гонки.
А в годы отрочества героя романа в Круглой башне работали серьезные ученые и студенты, ведь она построена в центре университетского комплекса рядом с церковью Святой Троицы, и на нескольких ее этажах располагалась библиотека. Малолетний герой романа смотрел из обсерватории в телескоп на Луну, до которой мечтал долететь, что конечно же, как объясняли ему студенты, которым он чистил сапоги, было невозможно: путешествие на Луну заняло бы не менее ста лет.
Очень способный герой романа Нильс – подростком он уже знал наизусть несколько од Горация – был сыном привратника Круглой башни и, как другие герои Андерсена, рано осиротел. Его мать умерла от апоплексического удара (инсульта), а отец погиб из-за нелепого случая – однажды, выходя из башни, вместо того чтобы пойти направо, он пошел налево, и на голову ему с третьего этажа обрушилась выпавшая из рук служанки оконная рама.
Осиротевшего мальчика берет к себе на воспитание пастор прихода из Ютландии Иапет Мёллеруп, и из столичного Копенгагена он переезжает в пасторскую усадьбу, расположенную во внутренней части Ютландии в довольно уединенной местности, на высоком берегу озера Лангесё (буквально – Длинное озеро). Неподалеку от усадьбы расположены деревня Виннингдаль и развалины древней крепости Силькеборг, имя которой потом перешло к выросшему за годы пребывания юноши у священника промышленному городку. И в прошлом, и в настоящем Силькеборг – реальный город, и построил его реальный человек, промышленник Микаэль Древсен, с которым Андерсен познакомился через старшую дочь Йонаса Коллина, Ингеборг, жену Адольфа Людвига Древсена, сводного брата отца промышленника. Ингеборг, которая любила над Андерсеном подтрунивать, не раз приглашала его в Силькеборг, и он хорошо знал местность, где потом развернется действие романа, и людей, ее населяющих. Примером тому может служить выразительный образ Портняжки, странствующего мастера, страдающего от патологической честности, к которой его принуждает не только лютеранская этика, но и необходимость жить у клиентов. Портняжка страдает при одной только мысли, что его могут заподозрить в краже или ином нечестном поступке. Так, например, случайно брошенные слова лавочника о том, что монетами он расплачивается уж очень блестящими, глубоко ранят его: он думает, что в нем подозревают фальшивомонетчика. В другом случае, когда в доме пастора Иапета пропадает серебряная ладанка, он места себе не может найти, хотя никто в семье и не думает, что он мог ее украсть. Пасторша почти уверена, что ладанку взял Нильс, отчего и тот тоже впадает в истерику. Когда же выясняется, что ладанку сбросил со стола котенок, Нильс в ярости швыряет его об пол, а дочка пастора пишет уже покинувшему усадьбу Портняжке, что ладанка нашлась. Однако письмо ее запоздало. Мастера заподозрили в другой краже, которая случилась в доме у местного судьи, где пропали деньги. Денег у Портняжки не нашли, зато в его сундучке обнаружили кольцо, явно ему не принадлежащее. Портной от подозрений яростно отпирался (действительно, как потом выяснилось, кольцо в его сундучок положил другой человек), и его отпустили. Тем не менее, терзаемый проявленным к нему недоверием, Портняжка сходит с ума.
Когда Иапет Мёллеруп привел в свой дом Нильса, его жена расстроилась. Но не оттого, что семья увеличилась еще на одного едока. Пасторша мечтала о приемном сыне с недостатками, которые она могла бы в нем исправить и получить за то благодарность не только на земле, но и благодать небесную. Юноша ее разочаровал: он оказался усердным работником и учеником, и пастор через некоторое время решил заниматься с ним древними языками и другими предметами, чтобы подготовить к поступлению в университет. Но один недостаток – горячность – пасторша в юноше все-таки обнаружила, что, помимо эпизода с котенком, подтвердил произошедший через несколько лет случай.
Еще одной оригинальной фигурой в округе была Цыганка, приходящая в деревню каждый год, чтобы отыскать потерянный амулет, с помощью которого она хочет снять порчу со своего ребенка-имбецила, которого повсюду таскает с собой в котомке за плечами. Как-то, услышав игру на гармошке местной музыкантши Греты, ее дитя стало подавать признаки разумного поведения, и Цыганка гармошку у бедной Греты, вся жизнь которой сводилась к служению музыке, недолго думая выкрала. Догадавшись об этом, Нильс в ярости выхватил у Цыганки ее уродца и пообещал отдать его только тогда, когда она вернет Грете гармошку. Нильс очень рисковал, ведь пасторша появлению в усадьбе дефективного ребенка не обрадовалась бы. Но гармошку музыкантше Грете Цыганка вернула.
Пастор, обучавший Нильса всем школьным предметам, остался его познаниями доволен, и через три года юноша переезжает в Копенгаген, где сдает экзамены на аттестат зрелости и поступает в университет, чтобы впоследствии стать священником.
Наступило самое время упомянуть, что Нильс, по воле автора книги, носит фамилию Брюде – это слово в глагольной форме означает «ломать», «раскалывать», то есть на русском языке она звучала бы как Раскольников. Серьезно занимаясь науками, молодой человек все более усваивает рационалистический подход к явлениям жизни и все менее полагается на христианское вероучение. Нильс скоро осваивается со столичной жизнью. Он подружился со своим крестным, господином Сване (именно он рекомендовал в свое время Мёллерупу взять Нильса на воспитание), одаренным, но безвольным интеллектуалом (некоторые из современников Андерсена усматривали в нем карикатуру на Сёрена Кирке гора), способным на многое, но из-за паралича воли живущим лишь на легкие и случайные литературные заработки. Он вводит крестника в богемное общество Копенгагена, но оно не увлекает Нильса, который все серьезнее занимается естественными науками. Он также много общается с почтенной и богатой еврейской семьей своего университетского товарища Юлиуса Аронса, и через некоторое время его отец отправляет их обоих в ознакомительную поездку по Германии и Италии. А с сестрой Юлиуса Эстер у Нильса завязывается интеллектуальная дружба: девушка серьезно увлекается творчеством Гёте, ее волнуют вопросы религии и церкви; она много читает Новый Завет и собирается отказаться от веры своих отцов. Эстер дарит Нильсу щенка Вапса, которому суждено сыграть едва ли не судьбоносную роль в его жизни.
По прошествии двух лет в летние каникулы Нильс, взяв с собой Вапса, едет повидаться с приемными родителями. И тут он опять демонстрирует характер и волю. На пароходе Вапс падает за борт, Нильс просит капитана остановить судно, но тот отказывается это делать из-за пустяка. Тогда Нильс недолго думая прыгает в воду, капитан останавливает пароход, и хозяин спасает своего пса.
Пасторская семья радушно встречает Нильса, но через некоторое время между ним и ортодоксальным лютеранином Напетом возникают принципиальные разногласия. Однажды интеллектуальный спор между ними перерастает в ссору, в которой пастор гневно заявляет воспитаннику, что тот не видит в человеке создание Божье, а в таком случае уж лучше ему стать фельдшером, чем пастырем человеческих душ. Напет как священник не может благословить своего воспитанника на служение Господу! После возвращения в Копенгаген Нильс принимает его слова к сведению. В нем самом уже созревало решение, что самой подходящей для него, теперь уже почти законченного атеиста, стала бы профессия врача. И он начинает изучать медицину, но продолжает свой интеллектуальный спор с приемным отцом, переведя его в плоскость долгих интеллектуальных разговоров с религиозной Эстер, в которых молодые люди разбирают вторую часть «Фауста» Гёте (в период работы над романом в июне 1856 года Андерсен побывал в гостях у великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского, посетил в Веймаре театральную постановку обеих частей Фауста, познакомился с внуком Гёте композитором Вальтером фон Гёте и еще раз перечитал вторую часть знаменитой трагедии).
Скоро, однако, в мирную атмосферу интеллектуального спора вторгаются примитивные и жестокие реалии внешнего мира. В марте 1848 года датчане начинают военные действия против шлезвиг-гольштейнских повстанцев и поддерживающих их прусских войск. Нильс Брюде призван в армию младшим военным врачом. Во время отступления из Ютландии на остров Альс он узнает, что брат Эстер, заразившийся в армии тифом, умирает неподалеку. Он спешит к нему на помощь, но застает друга уже в агонии. На его вопрос, есть ли жизнь после смерти, Нильс отвечать не хочет, а когда Юлиус спрашивает его об этом опять, уклончиво отвечает, что так считают все христиане. Вернувшись в Сеннерборг, Нильс участвует в наступлении у деревни Сунневеде и получает тяжелое ранение. Атака датчан отбита, и Брюде остается один во рву. Он истекает кровью и прощается с жизнью, но не молится, а серьезно размышляет о том, что вещества, из которых состоит его тело, скоро опять распадутся на природные естественные элементы и мир для него исчезнет. Неожиданно он скорее чувствует, чем видит, устремленный на него взгляд. Это смотрит на Нильса нашедший его Вапс. Пес кладет лапы на плечи своего хозяина, скулит и бегает вокруг него.
«Он лежал неподвижно, тихо; пес скуля сидел у его головы, а ясная луна сияла над полем битвы большим круглым листком с нарисованным на нем иероглифом смерти, спрашивающим: „Быть или не быть?“».
Пес вывел Нильса из забытья, на секунду в раненом пробуждается чувство наивной детской веры в жизнь, которое тут же проходит, он теряет сознание.
Утром, увидев на поле боя крутящуюся беспокойно собаку, Брюде обнаруживают вернувшиеся солдаты, его отправляют в госпиталь, рана его не смертельна, он лишь потерял много крови.
Героя долго разыскивают, его считают погибшим или взятым в плен, но он наконец возвращается. Судьба, однако, подвергает его еще одному испытанию. В Копенгагене молодой врач еще больше сближается с Эстер, которая наконец обратилась в христианскую веру. Гибель Юлиуса еще теснее сплотила дружную семью Ароне, и глава ее, правоверный иудей, из любви к дочери простил ей отступничество. Однажды вечером Брюде наконец решается, он понимает, что любит Эстер, и на следующий день собирается сделать ей предложение руки и сердца. Велико же его отчаяние, когда утром его вызывают к Аронсам с известием, что Эстер заразилась холерой. Надо сказать, что и в этом эпизоде Андерсен остался верен исторической правде: летом 1853 года в Копенгагене действительно случилась эпидемия холеры, и писатель, избегая риска заболеть, до августа жил в поместьях у своих знакомых.
Эстер умерла, но перед ее смертью Нильс, отчасти под влиянием разговоров с ней, да и своего внутреннего голоса тоже, снова поверил в Бога. Читатель прощается с ним, когда он снова стоит на пороге дома Иапета Мёллерупа, где его ждут пастор, пасторша и их дочь Будиль, его будущая невеста.
«Быть или не быть» – очень своеобразный и неровный роман. В нем великолепны главы, прослеживающие изменения в судьбе главного героя. Если бы автор ими ограничился, книга могла бы восприниматься как классический «роман воспитания», становления Нильса из мальчика в зрелого мужчину со сложившимся у него четким мировоззрением (напомним, что именно его требовал Киркегор от Андерсена в романе «Всего лишь скрипач»). Но, наверное, нельзя требовать от автора того, что не входило в его намерения. Чрезмерно затянутые главы, в которых разбирается содержание «Фауста», и бесконечные, хотя и умело изложенные интеллектуальные диалоги между Нильсом и Напетом и Нильсом и Эстер по вопросам веры, неверия и бессмертия утяжеляют роман, хотя и добавляют дополнительные, иногда очень броские штрихи к портрету героя-искателя, воспринимающего философские идеи как жизненно важные. Судя по всему, образ Нильса Брюде в немалой степени повлиял на создание характера Нильса Люне из одноименного романа (1880) Йенса Петера Якобсена. Герой-богоборец Якобсена устоял перед превратностями судьбы и умер от раны, полученной на датско-прусской войне 1864 года (продолжении Трехлетней войны 1848–1850 годов), несломленным стоиком. С другой стороны, Нильс не похож на прежних автобиографических сирот Андерсена – Антонио, Отто и Кристиана. Автор добавил ему воли и мужества, позаимствовав его, по-видимому, у баронессы Доротеи из предыдущей книги. И возвращение Нильса к христианской вере обусловлено не только ударами судьбы. Отчасти оно было запланировано в самом начале романа, о чем свидетельствуют авторские суждения, высказываемые по ходу его действия.
Роман «Быть или не быть» успеха у читателей не имел. Более чем сдержанно отнеслась к нему и критика. Газета «Отечество» в июле 1857 года напечатала разгромную статью обозревателя Клеменса Петерсена, который посчитал книгу лишенной стройного построения, саму задачу, которую ставил перед собой автор, невозможной, приводимые в ней диалоги чересчур абстрактными и наукообразными, а язык вялым. Тогда еще начинающий критик (впоследствии он создал себе громкое имя) Петерсен нашел для себя легкую добычу. Всеми перечисленными недостатками роман страдал, только вот представлены они были в статье в преувеличенном виде. Именно критику Петерсена, по-видимому, имел в виду Андерсен, когда писал в «Сказке моей жизни» о той подавленности, которую испытал, ознакомившись с крайне резким высказыванием о романе в июне – июле того же года, когда находился в Англии, в загородном доме Гэдсхилл, в гостях у Чарлза Диккенса:
«Я особо помню одно резко критическое высказывание в адрес моей последней книги „Быть или не быть“, оно привело меня в тяжелейшее расположение духа, которому я малодушно поддался. И все же, признаться, именно то дурное настроение и раздражение – своего рода испытание, посланное мне свыше, – позволили мне вкусить радость, с которой я воспринимал утешения Диккенса, порожденные его поистине бесконечной сердечностью. Узнав от семьи, насколько я подавлен, он разразился целым фейерверком шуток и выдумок. Когда же он убедился, что и этот блестящий прием не в силах развеять тьму, окутавшую мою страдающую душу, он сменил шутливый тон на серьезный, окрашенный в такие тона сердечности и теплого сочувствия, что я ощутил настоящий прилив сил, наполнивший меня необоримым желанием стать достойным его. Глядя в излучающие нежное участие глаза друга, я понял, что должен благодарить „жестокосердную критику“. Ведь именно благодаря ей я испытал одно из самых прекрасных мгновений в моей жизни» [244]244
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 3. С. 543.
[Закрыть].
Конечно, процитированный отрывок больше говорит о самом Андерсене, чем о его книге или даже об отношении к нему со стороны Диккенса, которому датский писатель, по-видимому, к этому времени несколько надоел (в июне и июле 1857 года Андерсен гостил у Диккенса в его загородном доме более месяца, отклонив ради общения с ним и его семьей даже предложение датского посла похлопотать для него об аудиенции у королевы Виктории). Вместе с тем Андерсен не всегда был сосредоточен исключительно на себе самом, даже когда речь шла о его произведениях. В письме Хенриетте Вульф от 5 июля того же года, заявив о своем недовольстве английской критикой, он всего в нескольких строчках набросал портрет ее любимого писателя:
«Журнал „Атенеум“, всегда относившийся ко мне положительно, на этот раз на мою книгу напал. Конечно, „она написана очаровательно“, но, в конечном итоге, „опасна“! Как глупо и несправедливо! И в том же тоне – отзыв в другом журнале. Я расстроился и чуть не заболел. „Атенеум“ я прочитал на железной дороге; на следующий день приехал Диккенс, я объяснился с ним, он обнял меня, поцеловал в щеку и проникновенно заговорил: неужели я не чувствую, сколь бесконечно многим одарил меня Бог? И каким он меня наградил призванием? – я повторяю его слова. Диккенс попросил меня больше не читать критики. „Через восемь дней она забыта, а ваша книга живет!“ – Мы шли к Гэдсхиллу. Он провел ногой по песку: „Это – критика! – сказал он и провел ногой сверху. – Где она? А то, что дал вам Господь, останется“».
Подтверждая его слова, известный датский философ и писатель XX века Вилли Сёренсен (1929–2001) в своей работе «Ни то, ни другое» (1961) писал об этом произведении Андерсена как о первом интеллектуальном романе в датской литературе [245]245
Sorensen W.Hverken – eller. København, 1961. S. 157.
[Закрыть]. Впрочем, резко критиковать произведения Андерсена к этому времени и в 1860-е годы уже никто, кроме начинающего выскочки Петерсена, из датских критиков не решался. Для писателя наступила пора пожинать плоды. Во время пребывания в Париже в 1863 году скандинавское сообщество литераторов и художников устраивает в его честь во дворце Пале-Рояль праздничный прием, а в 1867 году указом короля Фредерика VII ему присваивается чин государственного советника. Тогда же по инициативе властей Оденсе он был объявлен почетным гражданином города, а еще через два года 6 сентября в Копенгагене в честь пятидесятилетнего юбилея вступления сына башмачника в датскую столицу был устроен большой праздничный обед.
А писатель Андерсен тем временем продолжал работать. В 1860-е годы он выпускает девять сборников «Новых сказок и историй» (1859–1866) и первые два сборника «Сказок и историй» (1862–1863) из их итогового пятитомного собрания. В театре ставятся новые и старые его пьесы и оперы по написанным им либретто, а за границей выходят издания сказок (иногда даже без упоминания имени автора), о которых надо хотя бы знать (авторское право в большинстве стран еще не узаконено). Вот почему, кроме естественного и неизбывного у Андерсена любопытства, путешествовать ему было необходимо. Некоторые свои сказки он сначала издавал в переводе (и получал за них деньги) и лишь потом печатал их на родном языке.
И еще Андерсен теряет друзей. Их скорбный список начался в 1842 году, когда умер композитор Вайсе, первый покровитель Андерсена, для которого он написал либретто оперы «Праздник в Кенилворте». Вайсе и Андерсен были людьми одинокими, но чрезвычайно разных темпераментов и характеров: первый считался домоседом, в то время как Андерсен называл себя в «Сказке моей жизни» перелетной птицей, летавшей по всей Европе. «Самым далеким полетом Вайсе были поездки в Роскилле. Там жило одно знакомое ему семейство, там он чувствовал себя как дома и импровизировал на соборном органе; в Роскилле его и похоронили. Ему и в голову никогда не приходило путешествовать, и я помню шутливое замечание, с которым он обратился ко мне, когда я посетил его раз, вскоре по возвращении из Греции и Турции. „Ну, вот и ваш вояж окончился там же, где мой! И вы теперь, как и я, на улице Кронпринцессегаде смотрите на Королевский парк, а сколько денег-то потратили! Нет, коли уж хотите путешествовать, поезжайте себе в Роскилле; довольно и этого, а нет – так подождите, пока можно будет летать на Луну и планеты!“» [246]246
Пер. О. Рождественского. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 3. С. 252.
[Закрыть].
Через четыре года после Вайсе, 10 декабря 1845 года, 39 лет от роду от тяжелой болезни умерла Хенриетта Ханк, внучка оденсейского издателя Иверсена, с которой молодой Андерсен вел оживленную переписку, поверяя ей свои поэтические устремления и делясь самыми сокровенными чувствами. За полгода до смерти она трогательно писала о своем к нему отношении: «В каждодневной и реальной жизни, когда я урывками вижу Вас во время краткосрочных здесь появлений и когда мне кажется, что любой из Ваших друзей имеет на Вас большее право, я совсем не могу с Вами разговаривать. Но тот человек, которому я сейчас пишу, это только мой Андерсен, друг моей юности, которому я обязана лучшими воспоминаниями, ведь это он, когда я впервые его увидела, своей оригинальностью, игрой духа и импровизацией зажег в моей душе новый свет».
В 1851 году умер тезка Андерсена Ханс Кристиан Эрстед, мягкий, самый ученый и умный из всех его друзей, с которым у писателя никогда не было серьезных размолвок. За ним в мир иной уходит жизнелюбивая и ироничная супруга композитора Хартмана, их семья некоторое время жила в Нюхавне в одном доме с Андерсеном, и они много общались. И поистине страшный удар нанесла Хансу Кристиану в 1858 году гибель Хенриетты Вульф, до этого потерявшей родителей, столь много сделавших для Ханса Кристиана в годы его бесприютной юности. Хенриетта была чрезвычайно способной девушкой, она знала несколько европейских языков, и ее литературные вкусы отчасти совпадали с андерсеновскими, что позволяло им легко и непринужденно общаться. Кроме того, сама страдавшая от физического недостатка, она хорошо понимала странности поведения своего друга, ведь, несмотря на всю свою общительность, зачастую он чувствовал себя ущемленным жизнью и одиноким. Хенриетта, пожалуй, единственная среди друзей Ханса Кристиана, не одобряла его стремления к общению с коронованными особами и мягко, но серьезно порицала его за это. Как и Андерсен, она много путешествовала одна или со своим братом, отставным морским офицером, и, когда он умер, отправилась на его могилу в Соединенные Штаты через океан, собираясь поселиться в пригороде Нью-Йорка, куда ее звали социалист и филантроп Маркус Спринг со своей женой Ребеккой. Пароход с эмигрантами «Австрия», на котором она плыла в Америку, в пути загорелся и затонул, спасшихся с него было немного, и Хенриетта, скорее всего, задохнулась в своей каюте. Неудивительно, что после случившегося Андерсен ехать в США не хотел, сколько его тамошние издатели ни заманивали.
За смертью Вульф в самом начале следующего десятилетия последовали еще три потери: в 1860 году насмешливого доброжелателя и критика Йохана Людвига Хейберга, в следующем году – старшего наставника и самого верного покровителя, названого «отца» Йонаса Коллина и, наконец, в 1862 году ближайшего литературного советчика, друга и учителя Бернхарда Северина Ингемана. Круг друзей и покровителей Ханса Кристиана, теперь уже почтенного писателя, заметно редел. Умер в 1857 году и его «гонитель», каким считал Андерсен критика и долгое время директора Королевского театра (1830–1842) Кристиана Мольбека.
Писатель по-прежнему много ездил и заводил новые знакомства. Он знал лично почти всех выдающихся деятелей литературы и искусства того времени в Европе, был вхож в королевские и аристократические гостиные, а во время своей первой поездки в Англию летом 1847 года выступал в высшем свете чуть ли не в роли «льва» и почти все вечера проводил на светских приемах.
Впрочем, утомительная светская жизнь не помешала Андерсену разглядеть обратную сторону Англии:
«Я воочию убедился, что значит в Лондоне „высший свет“ и „бедность“, – о них я впоследствии вспоминал как о двух противоположных полюсах здешней жизни. Бедность предстала передо мной в образе бледной изголодавшейся девушки в заношенной и потертой одежде. Я видел ее, ютившуюся в углу омнибуса. Она была воплощением безнадежности, не решающейся, однако, проронить ни слова мольбы, ибо попрошайничество в Англии запрещено. Я помню также других нищих, мужчин и женщин, носивших на груди большие листы картона с надписями: „Умираю от голода! Сжальтесь!“ Они не смели вслух обратиться за помощью, подавать им строго возбранялось, и поэтому они проскальзывали мимо бессловесными тенями. <…> Я видел много нищих, хотя, как мне говорили, в квартале, где я жил, их почти нет, а в богатых кварталах их нет и вовсе – представителей несчастного племени париев туда попросту не пускают» [247]247
Там же. С. 398.
[Закрыть].
Но вернемся к великосветским приемам. Как раз на одном из них Андерсена познакомили с Чарлзом Диккенсом. Кстати, мнение, что Андерсен поехал в Англию вслед за гастролировавшей там в то время Йенни Линд, неверно; он отправился туда по просьбе издателей, но, конечно, свою хорошую знакомую посетил. Все остальные поездки по Европе совершались уже по знакомым местам и были своего рода повторениями. Исключение составляют лишь путешествия в сентябре – декабре 1862 года в Испанию и в мае – августе 1866 года – в Португалию.
Понемногу у Андерсена стало ухудшаться здоровье, и он все чаще задумывался о подведении итогов. Первым шагом к этому стала работа над продолжением «Сказки моей жизни» за 1855–1867 годы: оно было заказано американским издательством «Хэрд энд Хэмптон» и включено в издание «Сказки моей жизни» на английском языке, которое вышло в 1871 году. А годом раньше, в ноябре 1870-го, у Андерсена выходит новое художественное произведение – маленький роман «Счастливчик Пер», написанный или, может быть, лучше сказать, записанный им одним духом – всего за три недели – в поместьях Хольстейнборг и Петерсхой в июле 1869 года.
Еще до выхода романа в августе Андерсен читал из него отрывки госпоже Хейберг и трем ее приемным дочерям, и прославленная актриса одобрительно отметила выдержанный в нем сказочный тон. Она не ошиблась. Хотя главная тема романа была все той же – о карьере мальчика из народа, достигающего признания в высшем обществе, однако художественные средства изображения были иными, чем прежде. «Счастливчик Пер» ближе к сказке и предшествовавшим ему двум оптимистическим «историям» 1865 и 1866 годов: «Золотое сокровище» и «Сын привратника».
В первой из них описывается, как жена войскового барабанщика, зайдя помолиться в церковь, увидела на новом расписном алтаре ангела с красивыми золочеными волосами и до того восхитилась им, что родила своему мужу огненно-рыжего сыночка. Он вырос и тоже стал играть на отцовском барабане и брать уроки игры на скрипке у городского музыканта, вызывая у всех удивление своими способностями. Потом началась война, рыжего сынка взяли в армию, но и на службе он бил в барабан, как его отец, хотя однажды ошибся и, вместо того чтобы подать сигнал к отступлению, пробарабанил «в атаку». И что же? Отряд победил в сражении! Но Серебряного креста, как о том мечтал отец, ему за подвиг не дали. Хотя он вернулся с войны цел и невредим, что само по себе уже было наградой, и учил бургомистрову дочку игре на фортепиано. Правда, в женихи юноша все-таки не вышел: девушку выдали замуж за сына статского советника. Тогда, признав за ним выдающиеся способности, юношу послали учиться музыке, и он стал знаменитым скрипачом, «играл императорам и королям», и заслужил свой крест, но не Серебряный, а Рыцарский. Как-то, приехав домой к матери, он ударил в барабан с такой силой, что его порвал, чему барабан – а это он время от времени бодро ведет повествование – только обрадовался.
Во второй истории сын бедного привратника, наделенный блестящим талантом рисовальщика, послан, благодаря покровительству высокородного, но скромного своим поведением графа, учиться в Рим. Он становится знаменитым архитектором, принятым даже в королевской семье, и женится, в отличие от сына барабанщика, на своей возлюбленной, дочери важного генерала, жившего в том же доме, только в апартаментах на втором этаже. Сказка интересна комическими портретами: генерала, который по поводу и без повода умеет выразительно произносить на французском «Прелестно!» (никаких других побед за ним не числится), и его юной жены, всю жизнь мучающейся от головной боли из-за того, что она вышла замуж по расчету, а не по любви. Впрочем, сатира на обитателей апартаментов беззлобна и, скорее, даже добродушна. Высмеивается главным образом их спесь – неотъемлемое свойство нуворишей, в отличие от старой родовой аристократии, представителем которой выступает граф, покровительствующий юному художнику.
«Счастливчик Пер» – это тоже оптимистическая история, хотя она и заканчивается смертью героя. В ней описываются детство и юность двух персонажей: Пера, родившегося на чердаке роскошного особняка в центре Копенгагена в семье простого носильщика, и Феликса, сына богатого коммерсанта, который живет на втором этаже этого же дома. В раннем детстве Пер ездит на палочке верхом, а Феликс (его имя означает на латыни «счастливый») – на настоящем пони. Самое интересное, между детьми нет соперничества. Более того, Феликс временами бедному Перу даже завидует, как, например, в тот момент, когда того берут в балетную школу Королевского театра, на сцене которого его иногда используют в костюмированных ролях херувимчиков, вампирчиков и подобных им персонажей. И еще Феликс завидует талантам Пера: у того прекрасный голос, и, кроме того, наслушавшись водевильной музыки, он легко сочиняет мелодии, а заодно и слова песенок, которые посвящает своим родным и знакомым. Перу вообще везет. Счастливчиком, неосознанно следуя народной традиции (в скандинавском фольклоре есть такой везучий герой – отсюда, кстати, и Пер Гюнт у Ибсена), его назвали уличные мальчишки, разгребающие мусор в канавах. В отличие от всех Пер находит в отбросах настоящие ценности: то серебряное кольцо, то янтарный кулон в виде сердечка.
Но вот в подростковом возрасте голос у Пера ломается и пропадает. И тут на помощь ему и его матери (отец Пера к тому времени уже погиб на войне) приходит неизвестный доброжелатель. Он отправляет Пера за свои деньги в частный загородный пансион, где юноша получает образование. Хозяин пансиона Габриэль и его жена удивительно напоминают Мейслингов в их добродушно-комическом и незлобивом варианте.