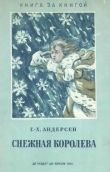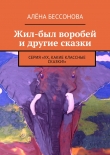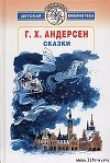Текст книги "Андерсен"
Автор книги: Борис Ерхов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Историческая тема не стала любимой в творчестве писателя. Выше уже говорилось о попытке написать роман «Карлик короля Кристиана II», который был начат им еще во время учебы в Слагельсе. После первых успехов на литературном поприще в 25-летнем возрасте Андерсен предпринимает путешествие по Дании, чтобы собрать для романа необходимый материал и побывать в местах, где должно было разворачиваться действие. Тем не менее книга не сложилась, хотя историческая тема свой след в творчестве писателя все-таки оставила.
К ней он обращается в истории-легенде «Епископ Бёрглумский и его родич» (1861), во фрагментарной хрестоматии по истории Копенгагена «Книга крестного» (1868) и в повести «Предки птичницы Греты» (1870) о судьбе Марии Груббе, женщины с необычайно сильным характером и необыкновенной судьбой, реально жившей во второй половине XVII века.
В первом из этих произведений после путешествия по Ютландии летом 1859 года и посещения прибрежного Бёрглумского монастыря Андерсен воссоздает, как пишет он в «Примечаниях» к сказкам, «историческое предание о мрачной и жестокой эпохе, которая до сих пор, однако, считается многими прекрасной и желанной» [189]189
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1894. Т. 2. С.515.
[Закрыть]. В качестве источника он использует запись из родовой дворянской хроники (приблизительно от 1600 года) об убийстве епископа Олуфа Бёрглумского его родственником Йенсом Глобом, которое произошло, согласно легенде, в рождественскую ночь 1260 года в Видбергской церкви, находящейся неподалеку от монастыря. Согласно хронике и точно следующему ей повествованию, епископ, живший в монастыре и промышлявший, помимо всего прочего, ограблением и убийством моряков и торговцев с разбившихся у берега кораблей, решил отнять землю у вдовы его родственника, единственный клочок в округе, который он еще не прибрал к рукам. Вдова упорствовала и сопротивлялась, и тогда епископ написал на нее донос римскому папе и через полтора года получил бумаги, предающие ее анафеме. Кроме того, он вынес свое дело на суд тинга (местного вече). Тогда отчаявшаяся вдова, взяв с собой верную старую служанку, отправилась на двух последних волах в Италию. И случилось так, что по дороге она встретила молодого рыцаря в сопровождении двенадцати оруженосцев, в котором узнала родного сына, посланного в детстве на обучение в южные страны. Далее события развиваются стремительно. Договорившись о поддержке со стороны своего дальнего родственника, Йенс Глоб напал во время рождественской службы на епископа и безжалостно убил его и всех его слуг. В хронике не говорится, чтобы он понес за это хоть какое-то наказание.
Андерсен подчеркивает жестокость происходящих событий. В имущественных отношениях между родственниками нет места для компромиссов. Все поступки персонажей до предела прямолинейны. Пришедший на помощь к Йенсу Глобу родственник, которому, чтобы добраться до места, пришлось переплыть фьорд и потерять из-за непогоды десяток своих людей, при известии о том, что Йенс «помирился» с епископом, набрасывается на него с мечом и едва не закалывает его, прежде чем узнает, в чем состояло «примирение». Сюжет хроники (и истории Андерсена) очень напоминает балладный, он так же деловит в своей жестокости и скуп на излияния чувств. Впрочем, многие скандинавские баллады основываются как раз на подобного рода преданиях. Андерсен, безусловно, на стороне справедливости: вдова сохраняет свои земли в неприкосновенности, а после кровавой расправы над епископом грабежи и убийства потерпевших кораблекрушение моряков прекращаются. И все-таки в эпилоге рассказа мотив правосудия отходит на второй план. Андерсен рассматривает случившееся суммарно: приветствует новое время и надеется, что на его светлом фоне «поблекнут мрачные предания суровых и жестоких времен» [190]190
Пер. Т. А. Чесноковой. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 2. С. 330.
[Закрыть].
Не менее трудные времена царили и в крепостническом XVII веке, против нравов и установлений которого восстала Мария Груббе, реальное историческое лицо, дочь знатного вельможи, наделенная своевольным и властным характером, ломающим рамки привычного тогда поведения женщин. Она смолоду больше любила охоту и скачки, чем традиционные женские занятия, и умела укрощать жестокий нрав отца, который не мог не баловать ее. Так продолжалось до тех пор, пока отец не выдал ее замуж за престарелого сводного брата датского короля – Ульрика Фредерика Гюльденлёве, королевского наместника в Норвегии, с которым, однако, согласно истории Андерсена, она почти сразу же отказалась жить и, согласно историографическим данным, развелась в 1670 году, получив от мужа 12 тысяч ригсдалеров отступного, которые растратила в последующие два года вместе с мужем своей сестры в путешествиях по Европе (надо сказать, что об этой странице ее жизни Андерсен в повествовании умалчивает). Расставшись с мужем, Мария вернулась домой в Орхус (ее мать к тому времени умерла) к отцу, но и с ним тоже не поладила и поселилась в старой родовой усадьбе, где через некоторое время вышла замуж за дюжего соседа-помещика Палле Дюре, такого же, как она, заядлого охотника. Через некоторое время Мария сбежала и от него. Почти у самой немецкой границы на берегу, согласно версии Андерсена, ее спас от смерти рыжий матрос, в котором Мария узнала товарища ее детских игр Сёрена, разорявшего по ее капризным повелениям птичьи гнезда в усадьбе ее отца. С достоверностью известно, что Мария примерно в это же время сошлась с кучером Сёреном Сёренсеном Мёллером и в 1691 году вышла за него замуж после очередного развода (на этот раз с Палле Дюре). Далее Андерсен рассказывает, что история Марии Груббе стала известна ему из сочинений Людвига Хольберга, который, еще будучи студентом, в 1711 году бежал из Копенгагена от эпидемии чумы на остров Фальстер, где остановился в доме паромщика Мёллера, посаженного в ту пору в тюрьму за убийство. Приняла Хольберга в доме жена паромщика, работавшая за мужа, по имени Мария Груббе, и это она рассказала студенту подробную историю своей жизни. Только теперь она была вполне счастлива.
Драматичная судьба Марии Груббе заинтересовала не одного только знаменитого сказочника. Позже ее образ воссоздал в своем социально-психологическом романе «Фру Мария Груббе» (1876) замечательный датский писатель Йенс Петер Якобсен (1847–1885), творчество которого имело еще не одну точку соприкосновения с андерсеновским, о чем будет рассказано дальше.
Историческое прошлое не импонировало Андерсену, вероятно, еще по одной причине. В описаниях места действия своих произведений, если речь не шла о целиком вымышленных, сказочных царствах-государствах, он стремился к конкретности. И, по сути, именно впечатления от конкретной местности и людей, которых Андерсен хорошо знал, или же оригинальное осмысление тех или иных качеств знакомых и привычных в быту предметов порождали у него художественные замыслы. Современную ему действительность и жизнь простого народа Андерсен, в отличие от большей части людей искусства его времени, среди которых он вращался, знал как никто – и не понаслышке. Опыт бедного детства и голодной юности многому научил его. Он, например, хорошо понимал, что предыдущее поколение датчан жило в гораздо большей бедности и зависимости от сильных мира сего, чем то, к которому принадлежал он сам. В его пору еще здравствовали многие из отошедших от дел государственных чиновников, священнослужителей и просто богатых людей, усилиями которых в Дании было отменено крепостничество, дававшее помещикам власть и право применять к провинившимся пытку «скачки на деревянной кобыле» (эта изуверская процедура состояла в том, что наказываемого сажали верхом на ребро доски таким образом, чтобы пальцы его ног, к которым привязывались тяжелые камни, едва касались земли). О распространенности пытки свидетельствуют упоминания о ней в творчестве Андерсена, по крайней мере в трех его произведениях: сказке «Скрыто – не забыто» (1866), повести «Предки птичницы Греты» (1879) и романе «Две баронессы» (1848). Писатель очень хорошо видел, что жизнь народа, несмотря ни на что, со временем все-таки становится лучше. Проводимые высшими классами общества реформы, распространение образованности и научно-технический прогресс делали свое дело. Благодаря пароходам морские путешествия стали надежнее (а это очень важно для Дании, расположенной на побережье и островах). Железная дорога также позволяла обходиться без пыльных и медлительных дилижансов. Андерсен-путешественник восторгается шлюзами на каналах и поездами, которые сокращали время в пути и преодолевали настоящие горы, о чем он писал в главе «Железная дорога» из путевых записок «Базар поэта» (1842) и в главах «Тролльхэттан» и «Поэтическая Калифорния» из книги эссе «По Швеции» (1851). Люди могут успешно преобразовывать землю – таков был смысл тоста, который писатель провозгласил однажды на обеде копенгагенских инженеров, обсуждавших проект строительства, которое должно было соединить большой остров Зеландию с маленьким островом Глен. Чуть позже писатель преобразовал его в коротенькую историю о двух соседних братьях-островах «Вен и Глен» (1867). Вен исчез, его смыло морским ураганом. Согласно преданию, он позвал за собой брата – остров Глен. И тот исчез тоже. Но он не пропал, а превратился, благодаря усилиям многих людей, в присоединенный дамбами к Зеландии полуостров.
Весной 1867 года Андерсен отправился в Париж, где несколько раз посетил проходившую там Всемирную выставку. Впечатления от нее отразились в его сказке «Дриада». В чем-то схожая с Русалочкой, мистическая Дриада, составляющая одно целое с пересаженным в Париж каштаном, за счет сокращения своей жизни отделяется от дерева и наслаждается полной свободой передвижений и превращений. Она самостоятельно приобщается к современному великолепию мира, образцы которого свезены в столицу Франции и всех уголков мира, и добровольно и блистательно уходит из жизни, узнав все, что та может ей предложить.
Еще в одной своей поздней истории «Прадедушка» (1870) писатель рассказывает о старике, мыслящем привычными для прошлого понятиями: «Вот раньше было хорошо! Всё было солидно, разумно. А теперь жизнь несется галопом, всё кувырком. Зеленые юнцы держат речи и задевают даже самого короля, словно он им ровня. Любой человек без роду без племени может извозить тряпку в луже и полить дворянина грязью». Правнук резко отвечает ему: «Да дикость сплошная была! Слава богу, что все это осталось в прошлом». Автор истории придерживается того же мнения: «Никто не спорит, в те времена происходило много плохого, даже омерзительного: все эти колесования, виселицы, четвертования», – хотя и ему тоже прошлое чем-то мило, даже в «зверствах» он усматривает для себя «нечто завораживающее» [191]191
Пер. О. Дробот. Там же. С. 534–538.
[Закрыть].
Правда жизни опровергает устаревшие представления. Когда правнук героя возвращается из Америки, шторм выбрасывает его судно на прибрежную отмель, но молодого человека и других пассажиров удается спасти, доставив к ним спасательный канат при помощи ракеты. После этого прадед жертвует значительную сумму на памятник Эрстеду, провозвестнику изобретательства и прогресса.
Чрезвычайно интересна также своим юмором и воспеванием завоеваний науки и техники поздняя сказка писателя о трансконтинентальном телеграфе, связавшем Европу и Америку, «Большой морской змей» (1871). В ней о кабеле, странном морском чудовище на дне океана, появившемся еще при жизни Андерсена, судачат, как кумушки на завалинке, рыбы и морские животные. Добавим еще, что уже в первом своем романе «Путешествие на Амагер», а также в нескольких сказках и историях Андерсен предсказывал появление воздушных пассажирских лайнеров, на которых американские туристы будут посещать старушку Европу. Хотя писатель, конечно, сильно ошибся, посчитав, что это произойдет только через три столетия.
Принято считать, что начиная со второй половины 1840-х годов творчество Андерсена становится более серьезным, философски-углубленным и религиозно насыщенным. Безусловно, так считал сам поэт. В 1847 году он пишет «мировую» драматическую поэму «Агасфер», своего рода историю злоключений человечества, восходящего к познанию истинного Бога, а в 1848 году печатает социально-психологический роман «Две баронессы» о современности и недавнем прошлом страны. Еще через девять лет Андерсен публикует роман под громким и ироничным названием «Быть или не быть», в котором совершает амбициозную попытку исследовать интеллектуальные проблемы веры и неверия, идеализма и материалистического практицизма и делает это пусть не блестяще, но весьма небезуспешно. Вместе с тем почти до конца жизни параллельно с романами, а также пьесами различного жанра писатель продолжает выпускать очень разные по содержанию и тональности сказки: от философских до бездумно легких и юмористических, работая в самом широком диапазоне тем и настроений – от восторга и умиления перед таинством жизни до глубокого и беспросветного отчаяния, из которого выбирался, изыскивая разрешение проблем либо в религиозно-христианском духе, либо с помощью сарказма, иронии, юмора, а то и прямой сатиры. Андерсен оставался верен себе и своему переменчивому характеру. Он оставил нам причудливую мозаику сказок и историй, общий рисунок которой выделить практически невозможно – так стихийно разбросаны они на жизненном и творческом пути поэта. Хотя попытаться сгруппировать их по отдельным, пусть и случайным признакам, наверное, можно.
В ряде сказок Андерсен пишет о положении и доли простых людей. В той или иной мере он неявно, словно мимоходом, касается в них социальных и политических вопросов. Такова сказка «Девочка со спичками» (1846) – о ребенке из бедной семьи, которого в морозный вечер накануне Нового года посылают на улицу продавать спички. Пытаясь согреться, голодная и замерзающая девочка зажигает их одну за другой и в колеблющемся свете видит праздничный стол и слезающего с него и ковыляющего к ней жареного гуся с торчащей из него вилкой. В последние мгновения жизни перед замерзающей девочкой предстает ее добрая покойная бабушка, призывно протягивающая к ней руки. Этой сказке, как представляется, в русских переводах не повезло, слишком много в них слов с русскими уменьшительно-ласкательными суффиксами, придающими ей излишнюю сентиментальность, в то время как стиль оригинала намного строже; автор сказки позволяет себе в ней единственную эмоциональную вольность, называя всего в одном месте свою героиню «бедняжкой». Другую исполненную сочувствия к бедноте историю «Пропащая» (1852) Андерсен написал, как сообщает он в «Примечаниях», в связи с воспоминанием о том, как его мать защищала женщину-прачку, целый день полоскавшую белье в холодной воде речки Оденсе. Сынишка нес ей бутылку водки, чтобы она могла согреться, а окружающие порицали за это и самого мальчика, и его мать, называя ее пьяницей, и предрекая ему такую же судьбу. Несомненно, что в этой истории Андерсен немного лукавит – он косвенно, как мог, защищал память о своей матери.
За всю свою жизнь Андерсен не сказал против существовавшего в его стране общественного и государственного строя ни одного слова. Он был принципиальным противником революций и сторонником монархии, в которой видел основополагающее начало государственности, а значит, как он считал, и порядка. В этом он следовал за Людвигом Хольбергом, на комедиях которого был воспитан, приверженцем абсолютизма, «видевшим в союзе между монархом и третьим сословием идеальную основу для стабильного общественного устройства» [192]192
Andersen J. Kr.Ludvig Holberg. Forfatterportræt // http://www.adl.dk>Arkiv for Dansk litteratur
[Закрыть]. Характерно его отношение к общественным волнениям, возникшим в Дании в 1848 году как по внутренним причинам (необходимость демократических перемен), так и под влиянием сепаратистских тенденций – немецкое население Шлезвига и Гольштейна требовало широкой автономии и вхождения в Германский союз, то есть практически отделения путем революционного самоопределения. В «Сказке моей жизни» Андерсен вспоминает:
«Волны европейского шторма докатились и до нас [193]193
Имеются в виду революции 1848 года в странах Европы.
[Закрыть]. В Гольштейне произошло восстание…В большом зале театра „Казино“ собралось невообразимое множество людей, и на следующий день к королю Фредерику VII направилась депутация. Я стоял тогда на Дворцовой площади и видел эту большую толпу…
Я был свидетелем того, как по-разному встречали события представители различных сословий. Толпы народа, выкрикивая лозунги и сопровождая свои шествия патриотическими песнопениями, двигались по улицам с утра и до позднего вечера. Никаких чрезвычайных происшествий во время таких шествий не происходило, но встречаться с этими ордами, состоящими сплошь из незнакомых, дотоле никогда не виданных мною лиц, было неприятно, создавалось ощущение, что на свет божий появился совершенно иной, чуждый мне род людей. Понемногу, однако, к этой человеческой стихии присоединялись сторонники дисциплины и порядка, они не дали массам свернуть на неверный путь. Комитет порядка даже меня привлек к содействию в поддержании дисциплины, что, в общем-то, было довольно нетрудно» [194]194
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 3. С. 430.
[Закрыть].
Изменения к лучшему должны происходить естественно и постепенно, путем работы на будущее и самосовершенствования общества и отдельных людей. И залогом тому, по мысли Андерсена, должны быть не стихийные выступления, а осуждение как социальных беспорядков, так и людской непорядочности в рамках социального мира. Политические взгляды или, точнее, отношение писателя к политической жизни отражено в его нравоучительной истории под выразительным названием «Ребячья болтовня» (1859), в которой он описывает своего рода «детский сословный парламент». В гостиной богатого дома встречаются девочки-подростки, хвастающиеся друг перед другом своими отцами и их положением. Одна девочка, камер-юнкерская дочка, похваляется «хорошей», благородной кровью: ведь, как ни старайся, если в твоих жилах нет благородной крови, ничего путного из тебя не выйдет; поэтому из тех, у кого в фамилии окончание «сен», означающее простонародное происхождение, ничего в жизни не получится. Дочка коммерсанта, чья фамилия заканчивалась на «сен», на ее слова обиделась: ее богатый отец может накупить сколько угодно конфет и бросать их в толпу народа. Еще одна девчушка, дочка редактора газеты, чья фамилия тоже заканчивалась на «сен», заявила на это свое: ее папа может напечатать в своей газете об отцах подружек все, что ему заблагорассудится, поэтому его все боятся.
У двери, которая выходила в гостиную, стоял паренек, завистливо наблюдавший за девочками, – на кухне в этом доме он помогал поворачивать вертел. У его бедных родителей не было капиталов, и даже подписаться на газету они не могли. Фамилия его отца тоже заканчивалась на «сен», но именно этот мальчик через много лет построил на свои и народные средства в центре Копенгагена здание, в котором были представлены его творения. Там же, во внутреннем дворике музея, его и похоронили – всемирно известного в XIX веке скульптора Бертеля Торвальдсена, с которым Андерсен познакомился во время своей первой поездки в Италию и дружил потом вплоть до его смерти.
Однако смысл этой истории не в эффектном сообщении о том, что мальчишка носил фамилию Торвальдсен, а в ее названии и концовке:
«А как же те три девчушки? Дети благородных кровей, больших денег и тщеславной гордыни? Все они вполне стоили друг друга, дети есть дети, что с них возьмешь? И вышли из них хорошие, добрые люди, основа-то у всех была хорошая, а тогдашние их мысли и слова не более чем ребячья болтовня» [195]195
Пер. Н. Федоровой. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 2. С. 107.
[Закрыть]. В некоторых сказках Андерсену не отказать в тончайшем исполнении замысла.
Но несправедливость, зло и неравенство существуют не только на бытовом уровне. В сказке-легенде «Злой правитель» (1858) они представлены перед читателем в обобщенном, «тоталитарном» виде в образе короля, который одолел всех своих соседей, счел себя непобедимым и повелел ставить свои золотые статуи в церквях. Священнослужители стали противиться этому. Тогда король объявил войну самому Господу и снарядил против него стальной воздушный корабль, снабдив его тысячью глаз – ружейных стволов, стрелявших беспрерывно, стоило королю нажать кнопку. Но тогда Бог послал против него всего одного архангела, и капли его крови оказалось достаточно, чтобы придавить воздушный корабль к земле. Король, однако, не унимался: он построил великий воздушный флот и собрал для него огромную рать со всех покоренных земель. Солдаты уже грузились на корабли и король направлялся к своему флагманскому судну, когда Господь выслал ему навстречу рой обыкновенной мошкары. Король обнажил меч, но рубил он им просто воздух, не поражая мошек. Тогда он закутался в бесценные шелковые покровы, но одна мошка забралась и под них, заползла ему в ухо и ужалила. Укус жег короля огнем.
«Он сорвал с себя покровы, в клочья разодрал одежды и голый метался в безумной пляске перед жестокой, грубой солдатней, а та насмехалась над потерявшим рассудок правителем, желавшим победить Господа и побежденным одной-единственной крохотной мошкой» [196]196
Там же. С. 58.
[Закрыть].
Андерсен ненавидел войну и насилие, но в сложном конфликте с датскими немцами Шлезвига и Гольштейна, требовавшими самоопределения, он был всецело на стороне интересов родины. Один из чиновников обратился к нему с просьбой объяснить позицию датчан по Шлезвигу и Гольштейну в английской прессе, на что писатель немедленно отозвался и написал патриотическую статью в британскую «Литературную газету», обрисовав «истинную картину настроений и положения в Дании». Статья вскоре была перепечатана в ряде зарубежных изданий. Заканчивалась она в примирительном тоне:
«„Нациям – их права, работящим и праведным – процветания!“ Таков девиз всей Европы, или, во всяком случае, таким он должен быть: лишь это позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее. Немцы – честный и трудолюбивый народ, они поймут истинное положение вещей, и их непримиримое к нам отношение обязательно превратится в уважение и дружелюбие. Дай Бог, чтобы это поскорее осуществилось! И тогда лик Господа просияет над всеми странами!» [197]197
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 3. С. 433.
[Закрыть]
В «Сказке моей жизни» Андерсен пишет, что война принесла ему немало огорчений и настоящего горя:
«Во мне была жива мысль о доброй Германии, о признании в ней моего таланта и о многих немцах, которых я любил и которым был благодарен. Я невыносимо страдал! Вот, наверное, почему многие озлобленные войной датчане, как бы интуитивно ощущая во мне эти чувства и мысли, изливали свой гнев и горечь именно против меня, что превосходило меру горечи, которую я мог перенести!» [198]198
Там же. С. 434.
[Закрыть]
В конце военных действий в сражении при Истеде погиб хороший знакомый Андерсена полковник Фредерик Лэссё, с матерью которого писатель дружил много лет еще со времен своего успешного театрально-драматургического дебюта – спектакля «Любовь на башне церкви Святого Николая», который с восторгом обсуждался молодежью в ее доме.
Свою Трехлетнюю войну, как датчане называли датско-прусскую войну 1848–1850 годов, они выиграли, хотя немалую роль в успешном ее окончании сыграла позиции Швеции, отрядившей к своим южным соседям добровольцев (правда, в военных действиях участия не принявших), Англии и России, дважды посылавших в датские воды свой военный флот.
Тем не менее шлезвиг-гольштейнский вопрос война не решила, ассимиляция немецкоязычного населения герцогств продолжалась, в результате чего после принятия новой датской конституции 1863 года (первая была обнародована еще в 1848 году) разразилась еще одна война 1864 года с коалицией Пруссии и Австрии, в которой Дания потерпела сокрушительное поражение. Шлезвиг отошел к Пруссии, Гольштейн – к Австрии.
Андерсен тяжело переживал неблагоприятно складывавшийся ход военных действий. Он не забыл, как писал в автобиографии, «сколько любви, признания и дружеских чувств снискал себе в Германии и скольких друзей и подруг обрел там». И все-таки между ним и его прежними друзьями «теперь лежал обнаженный меч» [199]199
Там же. С. 623.
[Закрыть].
Впрочем, отношение писателя к своей родине, и особенно к образованной прослойке ее населения, которую он называл «копенгагенцами» и обвинял в злостно-ироническом зубоскальстве, бывало разным.
В свое время, раздраженный тем, что постановку «Агнете и Водяного» в Копенгагене освистали (она выдержала всего два представления), 29 апреля 1843 года Андерсен писал из Парижа Хенриетте Вульф:
«Глаза бы мои не видели больше родины, где считают только мои недостатки и ничего из того, что даровано мне Богом! Если они меня ненавидят и презирают, так и я их! Ведь всякий раз, что меня из-за границы обдает холодным леденящим ветром, он дует с родины! Они плюют на меня, смешивают с грязью! А я все-таки поэт, и такой, каких Бог дал им немного! Пусть же Он больше не даст им ни одного! <…> Если мне даже придется отвечать за каждое сказанное мной слово, я все-таки скажу: Датчане могут быть злыми, холодными до безобразия! Они точно созданы для обитаемых ими сырых, заплесневевших островов, откуда послали в изгнание Тихо Браге [200]200
Тихо Браге(1546–1601) – датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения, представитель знатного датского рода. Первым в Европе проводил в своем замке Ураниборг высокоточные астрономические наблюдения, на основе которых разработал собственную модель мира. Результаты его наблюдений легли в основу законов движения планет, разработанных Иоганном Кеплером, ближайшим его сотрудником в Праге, куда в 1598 году по приглашению императора Священной Римской империи Рудольфа II он вынужден был переехать, лишившись покровительства короля Фредерика II. Похоронен в католическом Тынском соборе, событие в то время беспрецедентное, поскольку он был протестантом.
[Закрыть], где заточили в темницу Элеонору Ульфельдт [201]201
Леонора Кристина Ульфельдт(1621–1698) – дочь датского короля Кристиана IV (годы правления 1596–1648) и супруга Корфица Ульфельдта, вельможи и авантюриста, который впал в немилость при наследнике Кристиана IV Фредерике III, бежал из страны вместе с супругой и скитался за границей, принимая участие во всевозможных заговорах против датской короны. В 1663 году в Англии, куда Леонора Кристина отправилась, чтобы взыскать с английского короля Карла II денежный долг, была выдана англичанами датским властям и препровождена на родину, где ее немедленно заключили в тюрьму, так называемую Синюю башню, королевского замка и продержали там без суда и следствия более двадцати двух лет. Леонора Кристина не пошла на предательство своего мужа и вышла из тюрьмы несломленной. За время своего заключения и после него написала «Скорбные воспоминания», замечательное литературное произведение и ярчайший человеческий документ, изданный при жизни Андерсена в 1867 году.
[Закрыть], сделали шута из Амбросиуса Стуба [202]202
Амбросиус Стуб(1705–1758) – датский поэт, сын крестьянина с острова Фюн, больше десяти лет учился в Копенгагенском университете, но так и не смог закончить его. В поэзии проявил себя как мастер музыкального ритма и красочного изображения живой природы. Творчество поэта при жизни по достоинству оценено не было, первое собрание его стихов вышло только в 1771 году.
[Закрыть]и где еще многим придется претерпевать всякие злополучия. <…> То-то обрадовались бы копенгагенцы, если бы это письмо появилось в печати! – Глаза бы мои больше не видели этого города! Пусть там никогда больше не родится поэт, как я! Они меня ненавидят, и я плачу им тем же! Молитесь за меня, молитесь, чтобы я поскорее умер и не увидел бы больше этих мест, где я чужой, как нигде, даже на чужбине! <…>P. S. <…> Милая Йетте Вульф! Вчера вечером, когда я писал письмо, я страдал, страдал ужасно! Пусть оно не попадет на глаза никому постороннему! Вполне доверяюсь Вам!..» [203]203
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Х. К.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1895. Т. 4. С. 372.
[Закрыть]
Признанный писатель, известный к 1871 году всей Европе, в разделе «Дополнений» к «Сказке моей жизни» за 1863 год выражает иные взгляды и чувства:
«Путь поэта – не путь политика, у него свое предназначение в жизни, поэт служит прекрасному, но и он, когда земля начинает сотрясаться у него под ногами, так что все вокруг рушится, не может не думать о политике; она затрагивает его жизнь, благоденствие его самого и всей страны, он не может стоять вне происходящих событий… Поэт, как дерево, накрепко укоренен в почве родины; здесь расцветает и дает плоды его талант, и как бы потом ни распространялась его поэзия по всему миру, корни древа его творчества неразрывно связаны с родной почвой, и поэт неизменно чувствует ими, если какие-то силы расшатывают ее или замораживают убийственным холодом, превращая в мертвую глыбу» [204]204
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 3. С. 621, 622.
[Закрыть].
Как видим, в своем отношении к родине Андерсен ничуть не отличается от среднестатистического образованного и неполитизированного гражданина любой европейской страны наших дней. Он костерит ее на чем свет стоит, когда она его обижает, и готов грудью встать на защиту, когда само ее существование поставлено под угрозу. Возможно, одна из причин популярности Андерсена у широкого читателя как раз в том, что он был необыкновенно обыкновенен?
В следующем году после проигранной датчанами войны Андерсен написал волшебную (и отчасти политическую) историю о своих взаимоотношениях с жанром сказки. Полное ее название необычно длинно – «„Блуждающие огоньки в городе!“ – сказала Болотница». Герой произведения – человек, знавший ранее много сказок, которые у него кончились. Сказки «больше не стучались к нему в дверь». Персонажи их, аисты и ласточки, вернулись из дальних странствий и обнаружили, что их гнезда уничтожены, они выгорели дотла вместе с домами людей, а древние могилы их родины вытоптаны вражеской конницей. Наступили тяжелые мрачные времена, но человек, сочинявший сказки, упрямо твердил, как заговор, что «сказка никогда не умрет!». Так прошел год. Сказочник приуныл. Сказка так и не постучалась в дверь. Многие из них хранились у него в памяти, но новые все не приходили. Тогда человек взялся за книги: может, сказки скрываются в них? Он был сильно разочарован: в книгах с научной строгостью доказывалось, что ни Хольгера Датчанина, витязя, обещавшего выйти из горы, чтобы защитить родину в лихую годину, ни знаменитого швейцарца Вильгельма Телля на самом деле никогда не существовало. После этого разочарованный человек пошел искать сказку за город. В лес, на берег моря!
Там, на побережье, в поместье Баснес, где неоднократно гостил Андерсен, глубокой ночью ему явилась ведьма-болотница и повела его на влажный луг, в центре которого стоял мшистый пень, служивший ей книжным шкафом. Здесь в бутылках хранилась поэзия, в том числе сказки самого сказочника. Ведьма отыскивала в природе нечто родственное тому или иному поэту, заливала это нечто в бутылку, добавляла к содержимому капельку чертовщины и, таким образом, запасалась поэзией на будущее. В разных бутылках было разлито разное: бутылка с майской поэзией, бутылка со скандальной поэзией (на вид просто грязной водой), бутылка с набожной поэзией в духе псалмов, бутылка с обыкновенными историями на немецкий манер «с кровяными разбойничьими фрикадельками, жиденький датский супчик, сваренный из надворных советников, английский гувернантский суп, французский суп „канкан“». В бутылке из-под шампанского хранилась драматическая поэзия: трагедии с выхлопом пробки, а также комедии, схожие с мелким песочком, которым застят глаза. Но главное, уверяла Болотница, не в бутылках с поэзией. Гораздо важнее и опаснее огоньки, вспыхивающие на болоте. Они вселяются в людей и полностью их развращают. «Опишите их! – предложила Болотница. – Или оставьте свое писательство!» У автора, однако, были сомнения: может, лучше их все-таки не описывать? «Но вы поняли, что случилось?» – спросила Болотница.
«Блуждающие огоньки в городе! – воскликнул сказочник. – Я услышал и все понял! Но что мне, по-вашему, делать? Меня засмеют, если я скажу людям: „Смотрите, вон идет блуждающий огонек во фраке…“ Они ходят и в юбках, уверяла его Болотница. Хотя зачем она обо всем этом писателю разболтала, скоро об огоньках узнают в городе все. И ее осудят.
„Городу все равно! – сказал человек. – Никто не встревожится, просто подумают, что я сочиняю сказку, если предупрежу людей: Болотница говорит, что блуждающие огоньки в городе! Берегитесь!“» [205]205
Пер. Т. Чесноковой. Там же. Т. 2. С. 315.
[Закрыть].
По сути, смысл сказки в том, что писатель, так или иначе, все равно занимается политикой. Произведения сказочника, по его витиеватой и осторожной мысли, можно и нужно воспринимать как иносказание, предупреждение об опасности, хотя большинство людей считают их всего только развлечением.
И еще одной сказкой, где речь идет даже не о политике, а о самых настоящих классовых противоречиях, является история «Садовник и господа». Писатель создал ее уже на склоне лет – в 1872 году, за три года до смерти. Значит, тема, раскрываемая в ней, преследовала его всю жизнь.