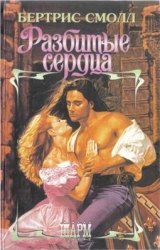
Текст книги "Разбитые сердца"
Автор книги: Бертрис Смолл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
– Проклятия, – продолжала Беренгария, – были совершенно ужасны!
– Беренгария, дорогая, – вмешалась я снова, – выбрось это из головы. Я по-прежнему считаю, что ты видела сон. Подумай – все это было у тебя в мыслях, когда ты преклонила колени, чтобы помолиться. Святые, явленные в истинном видении – а я читала о сотнях таких случаев, – всегда приносят людям некое откровение, то, что человек не может постигнуть собственным умом ни во сне, ни на яву. Ты понимаешь, что я имею в виду? В том, что тебе привиделось, нет ничего нового, ничего такого, о чем ты не могла бы подумать сама – вплоть до проклятий. Ты, вероятно, чувствовала себя несколько виноватой в том, что просишь ребенка, и на некоторое время уснула, когда молилась, и тебе приснился один из тех коротких «живых» снов, которые часто снятся, когда человек засыпает в непривычном месте… а чувство собственной вины трансформировалось в услышанные тобой во сне проклятия.
– Я хотела бы в это поверить, – тихо сказала она, замедляя шаги. – Но, Анна, это еще не все. Видишь ли, она сказала нечто такое, до чего, могу поклясться, я не додумалась бы и за сто лет. В середине своей тирады она запнулась и рассмеялась, таким грубым, отвратительным смехом… Я могла бы поручиться за то, что живая Петронелла Толмонтская была торговкой рыбой! Она сказала, указав на свою могилу: «Ни одна женщина никогда не преклоняет здесь коленей и не просит тщетно ребенка. Я горжусь своим могуществом и своей репутацией, и ради самой себя, а не ради тебя – ты, обманув мир, замышляла обмануть и небеса – дам тебе один совет. Ты никогда не получишь ребенка от Ричарда, но если сумеешь обмануть и его… У тебя красивое лицо, а вокруг много рослых рыцарей, не так ли?» Анна, совершенно независимо от этой мысли, которая, как ты знаешь, не могла бы родиться в моем мозгу, ее слова убедили меня в том, что Петронелла была реальна. Она была очень обыкновенна, и когда говорила о моем красивом лице, голос ее прозвучал, как голос ревнивой женщины. А слова «много рослых рыцарей вокруг» она произнесла так, словно засиделась на пирушке, глядя на то, сколько людей собралось вокруг той, что еще красивее. О, дорогая, возможно, мне не следовало говорить об этом – она может услышать и разгневаться на меня еще больше.
– Вздор, – отрезала я, а потом задумалась над вопросом: может ли это действительно быть откровением?
Я объяснила Беренгарии, что святая Петронелла не сказала ничего особенного – все это таилось в ее сознании. Она возразила. Но может быть, видение и вправду было? Ведь о некоторых вещах мы думаем, допускаем их в свое сознание, а есть и другие. Запретные, которые прячутся в нашем мозгу и остаются скрытыми даже от нас самих. Было ли это предложение действительно идеей святой Петронеллы, или же о такой возможности, решив обмануть мир, подсознательно подумала сама Беренгария? Вероятно, это просто ее смутная мысль, заползшая внутрь и спрятавшаяся там, а затем при благоприятных обстоятельствах выползшая на поверхность, как червяк из земли после теплого дождя.
– Скажи мне, – спросила я, – ты читала что-нибудь о святой Петронелле?
– Анна, ты же знаешь, что я никогда ничего не читаю! Я знала только то, что ее считают способной делать младенцев. Я вообще впервые услышала о ней от Бланш.
Когда у меня нашлось время прочитать житие святой Петронеллы, я узнала, что она провела молодость в Толмонте, занимаясь потрошением и засолкой сельди и упаковкой ее в бочонки. Я узнала также, что однажды работавшая рядом с нею женщина вышла из себя во время какой-то перебранки и набросилась на нее с ножом. Только прямое вмешательство Бога, как было сказано в этой книге, спасло глаз святой. Но шрам остался до конца ее жизни. В перечне многочисленных достоинств Петронеллы упоминается «честная прямота речи» и «отвращение к обману в любой форме». Это заставило меня засомневаться, кроме того, я, как ни странно, разделяла чувства женщины, которая набросилась на святую Петронеллу с ножом для потрошения селедки!
15
Со всех точек зрения, то Рождество было очень веселым. Новые придворные дамы представляли собою веселую, оживленную толпу, и этому вполне соответствовало поведение дворян и рыцарей. Даже сам Ричард с легким сердцем принимал участие в увеселениях. Изменился он очень мало, несмотря на годы, жестокое разочарование с Иерусалимом и долгое заключение. Он по-прежнему оставался красивейшим мужчиной христианского мира и в свои сорок лет сохранил неистовый мальчишеский дух. Но при этом отличался тонким умом, прямотой суждений, громадным тактом – и непростительной грубостью. По окрашенной веселой неразберихой традиции Двенадцатого дня придворный шут Эдди был назначен Князем Беспорядка. (В прошлые годы этот обычай, как мне было известно, приводил к недоразумениям, хаосу, а порой и к кровопролитию, но в последнее время князья беспорядка точно знали границы, которых нельзя было переступать, и неприятные инциденты случались очень редко.) Ричард был назначен придворным менестрелем, и когда он, взяв в руки лютню, заиграл и запел – то мелодичные романтические песни, то какие-нибудь остроумные импровизации – я думала о том, что редкая женщина не влюбилась бы в него. Это, разумеется, не относилось ко мне, но даже я ловила себя на том, насколько он привлекателен и как жаль, что… – и так далее.
К тому времени слухи о нем распространились вдаль и вширь. Кое-кто из епископов счел своим долгом напрямик поговорить с ним о его поведении, и, вдохновленные сознанием долга, они редко проявляли необходимую осторожность. Хью Линкольнский однажды подошел к нему во время обеда, взял его за рукав и прямо в лоб прочел целую лекцию о его многочисленных грехах, которую невольно услышали все присутствующие в церкви. Можно было подумать, что Хью выражал Ричарду недовольство по поводу меховой мантии, но речь шла вовсе не о грехе алчности.
Однако в Ричарде Плантагенета, особенно когда он находился рядом, было нечто, подавляющее этот слух. После того как Рэйф Клермонский давно умер в Акре, фактически никого нельзя было назвать преемником его отношений с Ричардом. И, кроме того, он теперь жил с королевой – разве не так? Бездетность – да, увы, но в то время в этом обычно винили женщину. Слухи на сей счет порой бурно разрастались, подхватывались, в них верили, а потом – подобно аппетитной на вид, но неперевариваемой пище – исторгались из сознания людей. Людям было трудно признать такой порок за столь храбрым, мужественным, энергичным, талантливым человеком – каким и должен быть настоящий мужчина. И каждая женщина, буквально каждая одинокая женщина, в чьем поле зрения он оказывался хоть однажды, чувствовала, что на месте Беренгарии легко сумела бы превратить его в пылкого любовника, веселого отца рослых мальчиков с золотисто-рыжей шевелюрой и выпуклыми голубыми глазами.
Я знаю, что это было именно так, потому что провела все те рождественские праздники, слушая разговоры придворных дам, которые часто велись на английском языке, а к тому времени я уже прекрасно понимала его. Все они соглашались с тем, что Беренгария прекрасна, но… Эти «но» варьировались по-разному, и если оценивать их беспристрастно, могли служить пищей для отвратительного злословия: но она была холодной, жесткой, глупой; не хотела выходить за него замуж. Зять чьей-то тетки много лет назад проводил время в Италии, где тогда жила Беренгария Наваррская со своей теткой Лисией. Там был один молодой дворянин – разумеется, не пара Беренгарии; Санчо пришел в ярость и тут же устроил ее брак с Ричардом. Ах, но разве сама Беренгария не странная? А Иоанна Плантагенет? Именно поэтому Ричард, впав в ярость, уехал в Палестину с каким-то мужчиной, таким изощренным, остроумным способом отомстив Беренгарии. И, заметьте, забрал ее только после того, как Иоанна вторично вышла замуж за графа Иджидио.
Действительно, как странно… двое мужчин… две женщины… Что? Как? Почему? – это продолжалось непрерывно, неустанно, как некая бессмысленная работа.
И я подумала: «Боже мой! Если бы вы только знали, вы, бестолковые, болтливые, слепые дуры, в какую злую шутку все это может превратиться, как вы будете одурачены и какой получите урок, если…» Но здесь я вынуждена остановиться, потому что мое чувство юмора так же остро и не менее беспристрастно, чем у святой Петронеллы.
Во время праздников Ричард, вынужденный находиться в обществе Беренгарии, вел себя по отношению к ней безупречно: он был учтив, внимателен и добр. Но легкости в их отношениях не чувствовалось, не было даже того поверхностного, наводящего скуку приятия друг друга, которое связывает так много супружеских пар. Моему наблюдательному взору они всегда представлялись невестой и женихом – возможно, довольно давно помолвленными, возможно, желающими понравиться друг другу, – но только-только начавшими притираться, настороженными, подозрительными и неуверенными. Когда он шутил с нею за столом, она неизменно выглядела встревоженной: «Ну, полно, перестаньте, я вас не понимаю. Ах да, слава Богу – в самом деле, как забавно!» И смех ее всегда запаздывал. Когда он бывал внимателен и добр, выражение ее глаз говорило: «Ах, если бы это было правдой!» Она могла притворяться перед всем миром, а со мной вести гневные речи о фальшивом колье, о гордости и о поддержании видимости – но теперь, когда я видела их вместе, мне было ясно, что она действительно все еще по уши влюблена в него и что ее любовь почти фатально обречена.
Однако в целом праздники проходили приятно, как и всегда, пока не наступила Двенадцатая ночь. Мы занялись очень живой и веселой игрой в фанты. Весь смысл игры состоял в том, что Князю Беспорядка – который уже завтра вернется к своему обычному положению в жизни – дозволялось тиранить всех, как ему вздумается, диктуя свою волю каждому и выбирая такие задания, которые покажутся всем наиболее смешными. Например, застенчивый юный оруженосец должен был поцеловать самую высокомерную из дам, самый тучный или самый величественный из мужчин – пройти по зале на четвереньках, и все в таком роде. Я никогда не участвовала в этой игре, потому что мое участие смущало бы всех гостей, и сидела за спинкой временного трона, с которого Князь Беспорядка отдавал приказания. Я то и дело, как часто бывало и раньше, подсказывала ему какие-нибудь особенно забавные и веселые фанты, приходившие мне в голову.
Веселье достигало апогея. Каждый из гостей как следует наелся хорошего мяса и напился крепкого вина, намереваясь завершить праздники в лучшем виде. Придворный шут Эдди оказался превосходным Князем Беспорядка, всегда умевшим рассмешить и достаточно тактичным. Одной из дам – мне довелось слышать ее высказывания на английском языке – было приказано поцеловать короля, исключительно с той целью, чтобы посмотреть, действительно ли прикосновение ее губ обладает той магической силой, какую им приписывали. Он ответил ей горячим поцелуем и под общий хохот усадил себе на колени.
Потом пришла его очередь, он скромно представился и спросил:
– Милорд Князь Беспорядка, что я должен сделать?
И Эдди, который, возможно, был в сильном подпитии, или, может быть, подкуплен, или просто слишком осмелел, тихо проговорил:
«Сделайте Англии наследника престола».
Кроме Ричарда, эти слова могла слышать одна я, и здесь не было ничего странного, потому что в зале стоял шум, а задания произносились шепотом, в особенности если касались кого-то из присутствующих, чтобы захватить того врасплох. И только я, сидевшая за троном Эдди, могла видеть лицо Ричарда. Оно мгновенно почернело от гнева. Он поднял руки, схватил Эдди за горло и начал трясти его, как терьер трясет крысу. Веселая, подвыпившая компания, не слышавшая слов Эдди и не видевшая лица Ричарда, приняла это за часть игры, и разразилась смехом с новой силой. Я встала с места, рванулась вперед и изо всех сил стиснула руку Ричарда со словами:
– Милорд, прекратите! Вы убьете его. Он просто пошутил.
Но Ричард словно не слышал. Весь мой вес, оттягивавший его руку, мог лишь слегка ослабить хватку Ричарда, но никак не оторвать его пальцев от шеи несчастного. Я, не задумываясь, инстинктивно, как животное, вытянула шею вверх и впилась зубами в мягкую часть его руки. Пробормотав ругательства, Ричард шевельнул рукой, чтобы стряхнуть меня, словно хорька, а Эдди, хотя был худеньким и неловким, оказался шустрым, чтобы суметь от него увернуться.
К этому моменту гости уже стали стягиваться толпой в наш конец залы, желая понять, что происходит. Полуминутой позже все пришло в равновесие. Эдди быстро овладел собой и с блестящим остроумием, в свое время превратившим его из пастуха овец в королевского шута, провозгласил:
– Мой добрый народ, это была самая грандиозная шутка во всей игре. «Прикажите герцогине Апиеты укусить вас», – сказал я этому добряку, и он хитрейшим образом так и сделал!
– Откуда я могла это знать? – громко вскричала я в притворном смятении. – Я думала, что спасала вашу жизнь, милорд Князь Беспорядка.
Заговорил, опомнившись, Ричард:
– А как иначе я мог склонить ее к этому, когда она даже не участвовала в игре? Милорд Князь Беспорядка, я требую привилегии. Эта кошечка сидела в стороне, уклоняясь от фантов, но, как вы сами видите, разделяла общее веселье. Назначьте ей фант – пусть она перевяжет нанесенную мне рану.
– Справедливо, – заметил Эдди, снова усаживаясь на свой трон в диктаторской позе. – Вы, женщина, ступайте с этим парнем и перевяжите ему руку, да получше!
Такой приказ граничил с неприличием, но был вполне в духе игры. Мы с Ричардом вышли под взрыв веселого смеха, перекрывшего зычный голос Эдди:
– Люди добрые, кто следующий? Игра продолжается!
– Не будь вас, я убил бы его.
– Я видела. Иначе я плохо подумала бы о своих манерах… и о том, что предпочитаю хорошо сваренное мясо.
– Вы проявили большое присутствие духа. Я всегда говорил, что у вас самый острый ум из всех когда-либо встречавшихся мне женщин.
– И самые острые зубы? Право, Ричард, мне очень жаль, – сказала я, глядя на два полукруга отверстий, оставленных моими зубами на его руке.
– Пустяки, – возразил он. – Во всем виновата неожиданность, внезапность упрека. Вы, как я полагаю, слышали, что он сказал.
– Хороший совет часто представляется одиозным. – Я набрала в легкие воздуха, собралась с духом и добавила: – Вы сами знаете, это был хороший совет.
Он молча задержал на мне взгляд и, словно оживившись, вымолвил:
– Пойдемте же, перевяжите мне руку.
Когда я это сделала, он приподнял другой рукой мой подбородок и, внезапно нагнувшись, поцеловал меня – не напоказ, как среди всеобщего веселья, но нежно, тихо, почти как любовник.
– Я охотно расцеловал бы всех этих женщин, лишь бы они убрались отсюда, прежде чем настанет ночь, – сказал он, словно в объяснение. – Но это – поцелуй мира.
– Благодарю вас, милорд, – ответила я, силясь придать голосу непринужденность. Отец – правда, очень редко – бывало, потрется о мой лоб бородой, но до этой минуты меня не целовал ни один мужчина.
16
Двенадцатая ночь положила конец веселью. Несколько лордов и леди уехали, и я стала подумывать, почти ностальгически, об Эспане, но при каждом моем упоминании о намерении уехать из Манса, Беренгария находила какой-нибудь предлог, чтобы меня удержать. Наконец, после нескольких праздных дней, я сказала:
– Но ведь ты же сама вот-вот уедешь в Руан.
– Не раньше чем привезут сокровище Шалю. Ричард ждет только этого. Ты так любознательна, Анна, тебе будет интересно взглянуть на шахматную доску и фигуры из чистого золота, пролежавшие в земле пятьсот лет. По слухам, эти шахматы принадлежали Карлу Великому.
Она говорила о сокровище Шалю так, словно о нем знали все и каждый. Но я никогда ничего о нем не слышала и была вынуждена уточнить:
– Что оно собой представляет?
– Я же сказала, золотая шахматная доска и фигуры. Неужели ты ничего о нем не знаешь? Какой-то крестьянин пахал землю в полях Видомара, и его плуг выворотил из земли клад. Все фигуры из золота, но чтобы как-то их различать, в одни вставлены рубины, а в другие изумруды, одни квадраты доски инкрустированы небольшими бриллиантами, а другие сапфирами.
– Это, вероятно, выглядит замечательно, – заметила я. Возможно, у Карла Великого действительно была такая игрушка, но об этом не написано ни в одной хронике его времени, а я перечитала их все. Предполагается, что он относился к таким вещам с презрением.
– Вот и хорошо, – сказала она. – Подожди до завтра или до послезавтра и увидишь сама.
Впоследствии я упомянула о сокровище Шалю в разговоре – уж не помню с кем, – и мне сказали, что тот видомарский пахарь обнаружил дверь в подземный тайник, в котором нашли шесть гипсовых кувшинов, до краев наполненных драгоценностями. Соединив оба рассказа, я поняла одно: какой-то пахарь выкопал из земли что-то интересное, а возможно, ценное. И решила, что стоит подождать пару дней и увидеть, что это такое, тем более что Беренгария никак не хотела меня отпускать.
По-видимому, я была единственным человеком, проявившим какой-то интерес к прибывшему «сокровищу». Это был кувшин из грубой красной керамики, с носиком с одной стороны и ручкой с другой, и на обеих его боковинах был виден процарапанный когда-то на еще не высохшей глине знак в виде рыбки, которым изобиловали римские катакомбы. Я узнала в нем один из тех светильников, которые проливали свет на самых ранних христиан, когда они собирались под землей на богослужение, – вместе с Нероном, его львами, его второй женой Поппеей, знаменитой своим любопытством, и с Трахусом и его шпионами. Кто-то из верующих или просто сентиментальный человек унес его на север и в какой-то критический момент закопал в землю. В кувшине было двенадцать монет – шесть серебряных и шесть из неблагородного металла, совершенно стершихся от употребления и поэтому ничего мне не говоривших.
Ричард отказывался – или, вернее, был совершенно неспособен – поверить, что неказистый керамический горшок с несколькими не имевшими никакой ценности монетами в действительности и был сокровищем Шалю.
– Если Видомар рассчитывал таким образом одурачить меня… – проговорил он и выдохнул совершенно невероятные угрозы, как дракон выдыхает огонь.
Похоже, он больше верил в золотую шахматную доску, нежели в керамический кувшин с драгоценными камнями, потому что в письме, отправленном Видомару, писал: «Угодно ли вам передать мне золотые шахматы или я должен явиться за ними сам?»
Беренгария сказала мне:
– Пока Ричард не получит ответ, он не сможет думать ни о чем другом. Не поехать ли мне с тобой, не провести ли несколько дней в Эспане? Я с удовольствием снова посмотрю на него и на твоих женщин.
Это было хорошим знаком – Беренгария начинала проявлять интерес к чему-то другому кроме отношений с Ричардом. Настроение у нас обеих улучшилось. У меня ненадолго зародились сомнения по поводу того, как повлияет ее приезд на душевный покой Блонделя, но со времени его возвращения и до дня, когда Ричард прислал за нею, мы все трое жили так дружно и спокойно, что подобные сомнения показались мне запоздавшими и неуместными.
Они встретились тепло и радостно, что, несмотря на различие в их положении, свидетельствовало об устойчивой привязанности. Во время этого визита Беренгария часто просила его играть ей, потому что никто из музыкантов – а она слышала в Руане и Пуату многих – не умел играть и вполовину так же хорошо и приятно, как он. Она похвалила внешний вид и планировку дома, который за время ее отсутствия значительно вырос, и высказала восхищение его работой. Я смотрела, слушала и вспоминала, как однажды слово ее похвалы вызвало краску стыда, волнение и готовность к самоуничтожению. Теперь же Блондель слушал и улыбался и был явно доволен, но без малейшей тени жалости к себе.
Когда мы остались одни, она сказала:
– Каким старым выглядит Блондель, Анна… И каким больным!
– Он постарел, – согласилась я. – Все мы постарели. Кроме того, он очень много пьет.
– А что у него с рукой?
– Высыхает. Как надломленная ветка. Разве ты не помнишь? Ее почти отрубили в битве за Арсуф.
– Да, конечно, – кивнула она, но я поняла, что Беренгария об этом либо не знала вообще, либо забыла о таком пустяке.
Она стала старше, добрее и менее эгоцентричной. И каким-то странным, зловещим образом, несмотря на тщательно причесанные волосы, дивное платье, остроносые туфли и сияющие драгоценные камни, отлично вписывалась в спокойную, однообразную, не от мира сего жизнь Эспана, прибежища для невостребованных женщин. Неделя ее пребывания с нами была радостной и спокойной. Потом пришла весть о том, что лорд Шалю, Видомар, ответил на письмо Ричарда: «Я понимаю, милорд, что, требуя от меня то, чем я не располагаю и чего у меня никогда не было, вы решили поссориться со мной. Я послал вам единственный драгоценный клад, на который вы имеете право как мой сюзерен, а все остальное мое имущество, которое вы пожелали бы получить, вам действительно придется забрать, явившись лично».
Оценив прямоту этого ответа, Ричард был восхищен твердостью духа приславшего его человека, рассмеялся и ответил остроумным, дружеским письмом. Но и он тоже постарел, и под личиной добродушной пылкости скрывались разочарование и подозрительность. Он искренне поверил в существование золотой шахматной доски с фигурами, помеченными драгоценными камнями, и, не долго думая, подготовился выступить против Видомара и подвергнуть осаде замок Шалю.
– Я должна отправиться с ним, – в сильном возбуждении сказала Беренгария. – Теперь больше когда-либо чем я должна быть там, где находится он. – Она очень серьезно посмотрела на меня. – Анна, я хотела бы, чтобы ты поехала со мной – ты мой единственный «друг» на всем свете, – но я не могу требовать от тебя этого, потому что мы будем все время в движении, а Эспан такое тихое, уютное место… Я могу понять, почему ты его полюбила. Но, Анна, если ты мне когда-нибудь понадобишься, будешь необходима, ты приедешь?
– Конечно, приеду. Да, здесь спокойно, это верно, и мне не слишком нравится компания твоих утонченных придворных дам, но строительство закончено, Эспан, похоже, начинает мне надоедать, и если ты пришлешь за мной, я поеду куда угодно.
Сразу же после ее отъезда я переключила все внимание на Блонделя. Я послала за ним, и он пришел и встал передо мной. Был еще час до полудня, но он уже успел заглянуть в кувшин. Блондель не шатался и не падал, как в Акре – эта стадия давно миновала, – но тем не менее был пьян. Я смотрела на него, на его лицо с мешками под глазами, на одутловатость под нижней челюстью, на пьяный румянец на скулах, на волосы, теперь безжизненно седые, слишком длинные и неухоженные. Его туника, купленная к Рождеству, была мятой и в пятнах, штаны – грязными и требовавшими штопки. Высыхающая маленькая правая рука теперь была всегда прижата к переду туники.
Он стоял передо мной, а я с поразительной ясностью вспоминала поющего юношу, улыбнувшегося мне на рыночной площади в Памплоне, – упругая, стройная фигура, мягкая грация, красивое, умное лицо…
– Блондель, – заговорила я, – зачем вы это делаете?
– Делаю – что, миледи?
– Пьете, – грубо сказала я. – Одурманиваете себя этим проклятым вином. Вы только посмотрите на себя! Вы, еще молодой мужчина, выглядите как старый солдат на углу улицы.
– Так я и есть старый солдат, разве нет? – по-дружески возразил он. – Подайте милостыню, леди, добрая леди, подайте монетку старому солдату, вернувшемуся со Святых войн. – Он великолепно сыграл эту роль, а под конец рассмеялся.
– Мне не смешно, – отрезала я. – Я очень озабочена вашим состоянием, Блондель. Может быть, я была невнимательной и ничего не замечала, но ее величество совершенно потрясена и сказала мне о том, каким больным и старым вы ей показались.
– Правда? – спросил он и мотнул головой с веселым, как прежде, видом. И снова засмеялся, но уже не так горько и сардонически, словно услышав шутку, понятную ему одному. – Миледи так сказала? И грязным? Она сказала, что я грязный?
– Нет, – возразила я, чуть отступив от него.
– Она сказала правду, но, наверное, грязи не заметила. А я действительно грязный.
– Но почему? – пылко спросила я, готовая кричать от боли. – Почему вы себя разрушаете? Вы молоды, здоровы и одарены огромным талантом. Может быть, ваша жизнь в каком-то аспекте пошла не так, как надо, и, возможно, не в одном, – я поспешно продолжала, боясь невольно выказать симпатию, – но это вполне обычная судьба. Только слабый и глупый… – Я опять поколебалась. Хотела сказать «ведет себя, как вы», но что-то в его глазах заставило меня умолкнуть, и я попыталась подыскать более общее и менее обидное окончание фразы.
– Я слаб и глуп. Видите ли, у каждого свои привычки.
– Вы не глупы, – нетерпеливо возразила я, понимая, что разговор ни к чему не приведет.
Мы стояли около маленького застекленного окна моей комнаты, окна, которым я так гордилась, и хотя пронизываемый ветром сад за окном был унылым, а деревья в нем окостеневшими и по-прежнему голыми, я слышала пение птиц, пронзительно чистое, исполненное веры в приход весны. И старалась поймать какую-то ускользавшую мысль.
Потом я сказала:
– Впрочем, Блондель, я послала за вами не для того, чтобы читать вам нотации. Я имела в виду лишь то, что мне невыносимо выдеть… Но оставим это. Дом построен, и я хотела бы направить вашу энергию в другое русло, поставить новую задачу. – И это действительно было так! Занятый строительством, Блондель оставался разумно-трезвым, его ничто не интересовало, кроме работы, он был искрение увлечен ею.
Но произнося слова «новая задача», в голове у меня не было ни малейшего намека, ни самого хрупкого зернышка идеи, которую я могла бы ему предложить. Однако глядя на него, на его высыхавшую правую руку, я вспомнила, что он может писать левой – писать… писать… Битва при Арфусе… да, именно это.
– Факты говорят о том, – начала я, – что монахи, никогда не оставляющие свои кельи, и светские авторы, никогда не переступающие порога своей комнаты, строчат хроники об этом крестовом походе с такой скоростью, с какой могут писать. Вы, может быть, единственный писатель с опытом участия в крестовом походе, участия в сражениях. Если бы вы написали о пережитом лично вами, со всеми мельчайшими подробностями, которые никому другому и в голову прийти не могут, такой труд представлял бы большую ценность. Могли бы вы осилить такую задачу? Например, вы стояли прямо за спиной королевы в тот вечер, когда маркиз де Монферра рассказывал нам о письме и о торте, полученных им от Старика с Горы. Вы слышали все собственными ушами. Теперь в Хагенау говорят, что этот Старик – чистая фантазия, и писаки, которые ничего не знают, пишут о том, что его вообще не существует, – понимаете? Вы смогли бы опровергнуть многие из их сентенций, если бы только захотели взвалить на свои плечи эту задачу.
Его глаза засияли под припухшими веками.
– Я мог бы записать то, что видел, что знаю. Но сомневаюсь, что из этого получится исторический труд.
– Он отлично выдержит сравнение с хроникой Сельвина Турского. Он хромой, и для переписки рукописей его приходится переносить из монастырского помещения в трапезную, а оттуда в опочивальню, но по какому-то праву он считает себя достаточно опытным, чтобы писать в самом поучительном стиле о Третьем крестовом походе и о причинах его неудачи. Скорее всего, Сельвин – ну, разумеется, он же монах – осуждает женщин, сопровождавших армию и подрывавших нравственные устои солдат.
Блондель рассмеялся.
– Он лает на то дерево, на которое нужно, но не с той стороны. Ричард Английский как-то сказал – и я склонен с ним согласиться, – что в женщинах коренятся все неприятности. Но одну женщину следует упрекать больше, чем других, и эта женщина – ее милость герцогиня Анна Апиетская.
Я в изумлении разинула рот и переспросила:
– Я? Хотелось бы знать, как вы пришли к такому выводу.
– Ну-у, это очень просто… Вы послали меня в Вестминстер. Ричард не женился на Алис, в результате Филипп стал его врагом. Исаак Кипрский оскорбил принцессу, которая ему отказала, и за это Лидия Комненсус была взята в плен, что задело Леопольда Австрийского, так как она была его племянницей. Мы с вами, миледи, хотя и не фигурируем в хрониках, мы… как это называется? – мистические фигуры! Третий крестовый поход развалили мы с вами!
– Вы пьяны! – сказала я. – Бога ради, если вы решите писать, то пишите совершенно трезвым, без подобных фантазий и вздора, навеянного винными парами.
– Я буду писать, и буду писать правду.
– По-моему, что-то подобное сказал Понтий Пилат.
– Ах нет! Вы стереотипно мыслите. Пилат спрашивал: «Что есть истина?» и отвечал: «Я написал то, что написал».
– Сдаюсь. Ну, так как же? Приметесь сразу?
– После полудня, – ответил Блондель.
Несколько недель спустя он продолжал старательно писать, когда за мной прислала Беренгария. «Анна, пожалуйста, приезжай. У меня Бланш, она серьезно больна. Ты мне нужна», – гласила короткая записка.
Был конец марта. Стояла сухая и ветреная погода, и пересохшая грязь на дорогах превратилась в пыль, в облаках которой я быстро доехала до поместья в Лиможе, где жила Беренгария, пока Ричард проводил осаду Шалю, в двадцати милях отсюда. Шалю оказался более твердым орешком, чем рассчитывал Ричард, и на помощь к нему прибыл муж Бланш, Тибо. Бланш приехала с ним, тоже верхом на лошади, надеясь на то, что ей будет хорошо в обществе Беренгарии. Святую Петронеллу Бланш посетила в сентябре, и я искренне пожелала ей получить хорошего, крупного мальчика. Но, после трудного трехдневного путешествия верхом на восьмом месяце беременности, в ночь после прибытия она родила семимесячного ребенка, намного крупнее обычных младенцев. Женщины и акушерки сделали все, что могли: тщательно зашили черными нитками ее разорванное тело, положили под простыню раскрытые раковины устриц, а на подушку – пучок веточек лещины. Но она умерла на следующий день после моего приезда в Лимож, и общее горе снова связало нас с Беренгарией.
Мне чаще всего вспоминалось, с каким серьезным видом Бланш сидела у моего камина и давала мне советы по управлению Эспаном. Память Беренгарии возвращала ее к тому времени, когда обе они были еще стеснительными девочками и на прогулках в компании других детей Бланш всегда брала ее за руку и вела вперед.
– Помню, рука ее была холодная и не очень сильная, но она успокаивала меня. Бланш шагала вперед, как солдат, – обливаясь слезами, вспоминала Беренгария.
– Если бы она не была такой отчаянной, ей следовало прервать путешествие. Бывают обстоятельства, при которых излишняя самоуверенность может повредить женщине, – заметила я.








