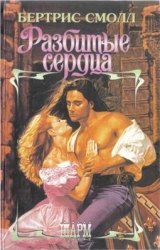
Текст книги "Разбитые сердца"
Автор книги: Бертрис Смолл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
6
Однако операция против Акры началась не сразу, потому что Ричард слег – его свалила болезнь, которая в лагере никогда не прекращалась и которой переболели почти все вновь прибывшие. У него разрывалась голова, его мучила неутолимая жажда, ноги то сводило судорогой от холода, то они горели в жару. Ричард был самым худшим пациентом на свете и двадцать раз на дню пытался бороться с болезнью, вставая с постели. Иногда ему даже удавалось доходить до двери, и он стоял там, покачиваясь и опираясь на косяк или же вцепившись в плечо стоявшего рядом. Потом, ругаясь последними словами, он на какие-нибудь полчаса позволял уложить себя и накрыть одеялом, после чего возобновлял свои попытки. Бывало, что он лежал навзничь, а иногда вставал и гонял нас с различными поручениями и приказаниями и требовал новостей. Он разослал письма Филиппу и другим предводителям, приглашая их приехать к нему для обсуждения неизбежно предстоящего штурма, но никто из них не явился. Они и раньше не хотели этого, но теперь у них появился предлог для отказа, лучше которого нельзя было придумать: они якобы боялись заразиться. Эссель запретил впускать к королю любых посетителей, а он приходил в неистовую ярость от трусости и равнодушия своих союзников и приближенных.
Я ухитрялся ежедневно записывать последние данные о его состоянии и отсылать их в домик на берегу бухты, где нашла временное пристанище Беренгария. Я делал это с радостью, довольный тем, что мог сообщать ей правду, потому что уже на третий день по лагерю прошел слух, будто он умер. В тот день Ричард действительно лежал без движения, так как Эссель в отчаянии дал ему такую дозу опия, что тот проспал пятнадцать часов подряд.
Проснувшись, он почувствовал себя лучше, немедленно уселся за корректировку своих планов и заставил Эсселя пропустить к нему Хьюберта Уолтера.
– Завтра, Уолтер, мы можем, по крайней мере, привести в боевое положение штурмовые башни, а послезавтра я уже буду в состоянии руководить штурмом.
– Сомневаюсь, – напрямик сказал ему Уолтер. – Лицо у вас серое, как комок грязной земли.
– Вот увидите, – возразил Ричард, – утром я буду на месте.
И действительно, утром, несмотря на все возражения и увещевания, он, убедившись в том, что ноги его не держат, велел на толстом матраце отнести себя на площадку и пролежал весь день в пыли, на солнцепеке, давая указания и наблюдая за бесплодными попытками солдат привести в боевое положение большие штурмовые башни.
Штурмовая башня – иногда ее называли «плохим соседом» – представляет собою легкую, но прочную деревянную конструкцию, состоящую из нескольких площадок, помещенных одна над другой и соединенных лестницами. Ее устанавливают на колеса и отбуксировывают на позицию у стены осажденного города, компенсируя тем самым преимущества, которые дают осажденным постоянные крепостные башни. Основные проблемы приведения «плохих соседей» в боевую готовность состоят в следующем. Слишком высокие относительно размеров опорной площади, при движении к стене они увязают в мягком грунте, особенно в песке или грязи. Люди, буксирующие и толкающие их на позицию, крайне уязвимы. Наступает момент, когда башня оказывается около штурмуемой стены, но еще без солдат. И пока они устанавливают лестницы и готовятся к ее защите, осажденные сбрасывают на них тяжелые бревна. Часто удается опрокинуть всю конструкцию, под которой, как и на ее площадках, гибнут люди.
Все эти трудности пришлось преодолеть и при установке башен для осады Акры. Когда три подряд перевернулись из-за плохого баланса колес в песке и пыли, Ричард скомандовал отбой, и остаток дня и весь следующий день группы солдат трудились над строительством относительно твердых дорог, по одной с каждой стороны города. Не было запаса бревен, на разумном расстоянии не оставалось ни одного дерева, но Ричард приказал разобрать все дома небольшой колонии при гавани и использовать для дорог каменные плиты и бревна.
– Это займет не меньше недели, – говорил он, когда его несли обратно в шатер. – К тому времени я окончательно поправлюсь. А пока я должен что-то придумать для защиты людей, буксирующих башни.
Гарнизон Акры был совсем не похож на защитников Лимасола. Из каждой башни и из каждой бойницы на осаждавших летели потоки стрел, очень тщательно нацеленных и редко попадавших мимо. А одна из штурмовых башен, которую уже почти удалось дотолкать до стены, в тот день была сожжена: осажденные за две минуты обрушили на головы врагов сорок коротких палок с привязанными к ним пучками пылавшей пакли, пропитанной смолой. Толкавшие башню люди получили страшные ожоги и с криком разбежались, а башня сгорела дотла в кроваво-красном пламени.
В тот вечер Ричард распорядился:
– Скажи Джайлсу, чтобы он перерезал горло тридцати самым плохим мулам, но шкуры должны остаться целыми.
У него был очень сильный жар, я подумал, что он бредит, и сменил ему одеяла, сопровождая свои действия нелепыми успокоительными словами, какие всегда говорят в подобных случаях.
– Не будь дураком, Блондель, – заметил он, сбрасывая одеяла. – Ступай и выполняй мое приказание. Или, по-твоему, ты единственный, кто способен трезво мыслить? Мне нужны шкуры тридцати мулов. И не смотри на меня как на спятившего с ума! Ступай и передай это Джайлсу.
Но я знал, что мулы представляли для нас большую ценность. Тридцать мулов – сжалься над нами, Боже, и укрепи их! – могут нести огромный груз. Даже если сейчас Ричард немного не в своем уме, то, опомнившись и узнав, что при моем попустительстве зарезали три десятка мулов… Но он уже с усилием поднимался с кровати, и я подумал: лучше пусть погибнут тридцать мулов, чем король Англии, и поспешно передал приказ.
На следующий день по-настоящему развернулось строительство дорог: с рассветом люди разобрали дома на берегу и потащили материал к городу. Здесь завязалась короткая, жестокая война за обладание защитной броней.
С первой же минуты стало ясно, что акрский гарнизон не будет смотреть сложа руки на то, как строятся дороги. На строителей посыпались стрелы и снова полетели палки с горящей паклей.
– Дать сигнал отбоя, – приказал Ричард со своего матраца стоявшему рядом горнисту. – Дорогу будут строить люди в защитной броне – по меньшей мере, в кольчугах и шлемах.
Позднее все мы видели людей в такой броне, когда всадники, чьи лошади подохли или были убиты, прокладывали путь через песок, пыль и скалы. Но в то время, когда война еще только начиналась, человек в кольчуге был всего лишь всадником, а все всадники были рыцарями, будь то сын торговца или старший сын беднейшего крестьянина, кольчуга и конь которому были куплены за деньги, на которые его семья могла бы жить пять лет. Все они были чрезвычайно горды своей привилегией.
Лишь немногие из кричавших: «Приехал Ричард, значит, все будет хорошо», могли бы смириться с ультиматумом о том, что люди в кольчугах должны строить дороги или же отдать свои доспехи тем, у кого их нет. Поэтому когда он издал такой приказ, произошел большой конфуз.
Его понимание было ограниченным и в высшей степени избирательным, но людей он понимал.
– У меня два комплекта одежды с кольчугой, – сказал он, приподнимаясь на локте. – Блондель, отыщи мне среди этих покрытых буйволовой кожей ребят парня моего роста.
– Нелегкая задача, сир, – сказал я без всякого намерения ему польстить.
– Ну, тогда примерно таких же размеров. Где тот солдат, который поймал на лету горящий факел и бросил обратно? Он рослый парень, и я с удовольствием одолжу ему кольчугу.
В определенных границах Ричард замечал решительно все.
Я нашел этого человека – на шесть дюймов ниже и на четыре более тощего, – и мы его одели.
– А теперь помоги мне облачиться в запасные доспехи, – приказал Ричард.
Он встал, надел кольчугу и шлем и, покачиваясь как новорожденный щенок, направился к тому месту, где начиналась дорога, взялся за молот, оставленный одним из солдат, когда сигнал отбоя, и принялся вбивать каменную плиту в подготовленную песчаную основу дороги. Пролетевшая со свистом стрела ударила в шлем – сарацинские снайперы особенно метко стреляли по англичанам. Продолжая правой рукой орудовать молотом, Ричард сделал выразительный жест левой, означавший: «Ага, не вышло! То-то же!»
И за время, достаточное для того, чтобы человек надел доспехи, все избраннейшие рыцари христианского мира, самый цвет рыцарства, люди, никогда в жизни не бравшие в руки никакого инструмента, кроме боевого оружия, никогда не занимавшиеся физической работой, собрались здесь, в пыли, под палящим солнцем, и вскоре работали как крепостные.
Так как у меня кольчуги не было и я не успел ни у кого ее позаимствовать, пришлось присоединиться к тем, кто подносил каменные плиты и бревна от разобранных домов. Я переломал все ногти – как же теперь играть на лютне? – а ободранные пальцы так болели, что в тот вечер я с трудом написал свой ежедневный отчет миледи. Но поскольку плохой почерк компенсировался почти истерическим энтузиазмом, я надеялся, что, может быть, буду прощен. Потому что я помогал Ричарду снять доспехи. Он работал на жаре, в тяжелой кольчуге, восемь часов подряд. Когда мы его расшнуровывали, пот лил с него градом, и под ноги натекла целая лужа, – можно было подумать, что он не вытираясь вышел из ванны, – и он дрожал как осиновый лист. При всей моей ненависти и ревности я не мог не восхищаться им.
Твердые узкие колеи под колеса осадных башен были готовы гораздо раньше, чем это казалось возможным. И только тогда я понял, зачем он приказал подготовить шкуры мулов. Прибитые к краю нижней площадки башни, они почти полностью защищали людей, толкавших ее к стене. Шкуры были достаточно твердыми, чтобы их не могли пробить стрелы, и достаточно сырыми, чтобы не загораться от летевших со стен пылающих факелов. По пятнадцать с каждой стороны башни, они были хорошим щитом. После того как очередная осадная башня занимала боевую позицию, шкуры перевешивали на следующего «плохого соседа», и так далее. И настал день, когда солдаты устремились вверх по лестницам, собрались на площадках и под глухое уханье баллист ринулись на стены. Небо потемнело от стрел.
Сарацины, чей лагерь находился среди окрестных холмов, два раза во время этой атаки пытались ослабить давление на город отвлекающими ударами с тыла, и дважды Ричард, с удовольствием применяя свою любимую боевую тактику, рассеивал нападавших. Это, несомненно, приводило в отчаяние осажденных, и на восемнадцатый день после завершения строительства подъездных путей они спустили флаги и прислали парламентеров для обсуждения условий капитуляции.
В благоговейной тишине городские ворота открылись и снова закрылись, выпустив троих парламентеров. Двое из них были сарацинскими эмирами в тюрбанах и белоснежных одеждах, а третий – франк с сильно выгоревшими волосами, почти такими же светлыми, как мои. На нем был длинный, почти до земли, алый плащ, такой яркий в лучах сиявшего солнца, что больно было на него смотреть. Когда парламентеры выходили из ворот, он шел, чуть поотстав от сарацинов, но когда они уже приблизились к месту, где стоял Ричард, наблюдавший за медленным приближением исполненных достоинства эмиссаров, внезапно вырвался вперед, упал на колени к его ногам и, схватив протянутую ему руку, склонил над нею голову. Выглядело это очень многозначительно и красноречиво.
Будь Ричард более мудр, тактичен или просто достаточно хитер в самом простом смысле этого слова, он послал бы за другими предводителями или сделал широкий жест, пригласив парламентеров в шатер, где от пустяковой простуды лечился Филипп. Но он подозвал к себе Хьюберта Уолтера и старого графа Альженейского, и с этими двумя людьми, которым доверял больше, чем другим, единолично принял капитуляцию гарнизона и единолично же продиктовал условия. Человек в плаще поднялся на ноги, выпрямился и с достаточно высокомерным видом взял на себя обязанности переводчика. Было условлено, что гарнизон Акры – около двух тысяч четырехсот человек без оружия – будет обменян на такое же число христиан, находившихся в плену у сарацинов. Пока христиане не будут возвращены, сарацины останутся в гарнизоне в качестве заложников.
Это была кратчайшая, предельно прямая сделка, и когда она была заключена, один из эмиров вынул из рукава кусок материи и просигналил, чтобы открыли городские ворота. В них тут же показались два всадника, каждый с еще одной лошадью, покрытой богатым чепраком. Выразив свое удовлетворение в нескольких последних словах, с презрительной небрежностью переведенных светловолосым, сарацины на несколько шагов отступили, поднялись в седла и в сопровождении своих грумов галопом поскакали сообщить условия капитуляции Саладину, чей лагерь находился на тех же холмах. Когда они отъежали, светловолосый сорвал с себя яркий плащ и швырнул им вдогонку в знак полнейшего избавления от них. Некоторое время он постоял спокойно, обнаженный, если не считать куска материи вокруг бедер. У него было красивое, стройное, мускулистое, загорелое тело – какое-то изысканное и, если можно сказать так о теле, странным образом способное выражать мысли без слов. Потом он вдруг заговорил чувстве гордости и о победе, об освобождении и о презрении к врагу и снова упал на колени. Плечи его вздрагивали от рыданий.
Ричард, казавшийся несколько смущенным, протянул руку и тронул его за плечо.
– Сир, – учтиво проговорил он, – мне не известно ни ваше имя, ни звание, но от имени всего христианского мира я прошу вас быть нашим гостем.
Тот продолжал рыдать, и смущение Ричарда сменилось смятением.
– Полно, дружище! Слезы – в такой радостный день! Полно, вам нужно одеться и поесть. – И добавил: – Веселее, сэр, мы вместе пойдем на Иерусалим.
Тот продолжал рыдать и целовать ему руку, и я почувствовал острое нетерпение короля. Оглядевшись, он увидел меня.
– Отведи этого доброго человека в наш шатер и окажи ему гостеприимство. Дай ему все самое лучшее. – И добавил, обернувшись к освобожденному пленнику: – Полно, полно! Хватит плакать – мы весело проведем этот вечер вместе. Вы первый из многих! Но всему свое время. А сейчас у меня много дел… – Он повернулся, сорвал по пути яблоко с ветки и, надкусив его, направился заниматься делами, связанными с взятием Акры.
Итак, я остался с Рэйфом Клермонским, а в это время Ричард уже совершал первую из своих убийственных ошибок.
Да, он работал как вол на строительстве дороги, да, он отвечал ударом на удар, пока гарнизон не спустил свои флаги, верно и то, что под палящим солнцем, весь в пыли, он встретил эмиров, пришедших сдаваться. И никто не мог отрицать, что в это время Филипп Французский, лежа на кровати, ел вместе с Леопольдом Австрийским персики и гранаты. Но на осадных башнях находились и французы, и австрийцы. И трудно было представить, что Ричард, известный своим бережным отношением к чувствам простых солдат, допустит удаление австрийского флага, установленного на своем участке стены теми, кто честно сражался ради общей победы. Но вечером того же дня он, упоенный успехом и торжествуя победу, заметив флаг, сказал:
– Почему здесь торчит этот флаг? Снимите его.
Леопольд навсегда запомнил это оскорбление и никогда не простил своего союзника. Однако, как ни странно, простые солдаты не придали словам Ричарда никакого значения. И французы, и австрийцы стали понемногу переходить на его сторону. Леопольд и Филипп заговорили о дезертирстве и о подкупе, но я, постоянно бывая с солдатами, слышал другое: «Я присоединился к крестовому походу и пойду за тем, кто энергичнее всех ведет нас к победе», – рассуждал при мне один здравомыслящий солдат. «Ричард сражается, а эти отсиживаются, и для нас он – единственный предводитель», – говорили другие.
И я подумал о Вильгельме Тирском, проповедовавшем идею крестового похода в Европе, и о его святейшестве, благословившем всех, возложивших на свои плечи крест. Для них вся армия крестоносцев была единой, тесно спаянной массой, в которой ради общего дела растворялись отдельные национальности, привилегии, таланты, победы и амбиции. Но люди никогда не сплавляются в единую массу. Они выходят из колыбели разобщенными и разномыслящими и остаются таковыми до могилы. Даже дело Гроба Господня может поддерживать в них дух единения не дольше, чем до сигнала вечернего горна. В один прекрасный день, когда все идеалисты будут посрамлены, армия наемников, возглавляемая единым предводителем… Но я отклонился от темы.
7
После взятия Акры дам перевели из убогого жилища у гавани в небольшой белый дворец в центре города, рядом с мечетью, над которой возвышался голубой минарет. Хьюберт Уолтер нашел время, чтобы нанести официальный визит королеве, которую раньше никогда не видел, а Ричард лишь слал ей королевские послания, но был слишком занят, чтобы приехать самому. Так прошли три дня – в громких взаимных упреках, оскорблениях, выяснениях отношений и извинениях, и наконец старый альженеец предложил устроить праздник – в честь победы, в честь дам и в честь первого освобожденного пленного, Рэйфа Клермонского.
В те три дня я много времени провел в обществе этого человека, который спал и ел, как и я, в шатре Ричарда и был вверен моему попечению. Рэйф рассказал мне свою любопытную историю. Он попал в плен пятнадцатилетним оруженосцем и провел там десять лет. Против его воли ему сделали обрезание и отправили как раба к султану Икониума – человеку, известному тем, что он влюбился в Элеонору Аквитанскую, когда та участвовала в крестовом походе. Его назначили садовником. Однажды вторая жена султана гуляла в саду, и ей понравился какой-то цветок. Рэйф срезал его, ободрал шипы и вручил даме. Увидевший это султан приревновал жену и приказал кастрировать садовника. Но человек, которому надлежало это сделать, был другом Рэйфа. Он для виду что-то надрезал – тому было адски больно – но от такой участи его спас. Когда дочь султана вышла замуж за эмира Дамасского, Рэйф уехал вместе с нею и хотя он ненавидел всех сарацинов и никогда не мог сказать ни об одном из них доброго слова, я по одной или двум проскользнувшим репликам, а также на основании многозначительных умолчаний сделал вывод о том, что его новый хозяин был разумным и человечным. У него на службе Рэйф вырос от грума до управляющего, что включало некоторые секретарские обязанности, и в этом качестве ему пришлось принять участие в обороне Акры.
Хотя Рэйф был лишь чуть старше меня и много лет прожил в обстановке, не благоприятствовавшей становлению личности или развитию ума, в сравнении со мной он был зрелым, умудренным опытом, богато одаренным и достойным доверия человеком. Граф Альженейский после первого прилива благосклонности стал относиться к нему с некоторой неприязнью и однажды сказал, что тот так долго жил на Востоке, что стал изнеженным и коварным, как сарацин.
– Именно поэтому я выжил и вернулся первым, – не растерявшись, возразил Рэйф.
Ричард рассмеялся. Рэйф Клермонский ему нравился сам по себе, а кроме того, он был для него предвестником, первым плодом, символом освобождения, которое нес этот крестовый поход. К тому же он видел в нем большую пользу, будучи предводителем крестоносцев, – Рэйф говорил и писал по-арабски, хорошо знал образ жизни врага, его обычаи, пристрастия и особенности менталитета. Этот человек мог быть очень полезен королю.
И Ричард души не чаял в Рэйфе, первом освобожденном пленнике, а тот – в Ричарде, своем освободителе. Со всеми остальными он был высокомерен, заносчив, раздражителен, резок и вспыльчив. Однажды я мягко выразил свое удивление его неуважительным ответом на какой-то вопрос герцога Бургундского. Рэйф самым неприязненным образом рассмеялся и заявил:
– Я жил там, Блондель, где одно движение ресниц в неподходящий момент могло стоить пыток, которые вам и не снились. Что мне герцог Бургундский?
Совершенно по-другому он относился к Ричарду: без смирения, без подобострастия – он даже вступал с ним в споры, порой в перебранку, но Ричард оставался для него человеком особенным, который должен был отомстить за его потерянные годы и за многочисленные обиды.
В день торжества по случаю победы столы поставили в виде большого круга – и в этом я опять усмотрел руку тактичного старого альженейца, – так, чтобы никто не оказался ни в голове, ни в дальней части стола. Самые знатные гости были рассажены с большой осмотрительностью. Никто не отказался от приглашения, все надели лучшие одежды и самые дорогие украшения. Это было чрезвычайно колоритное, великолепное зрелище, вызывавшее благоговейный трепет при мысли о том, что собрался самый цвет западного рыцарства, с виду единый. Я занял свое место за спиной королевы, готовый сыграть и спеть для нее, хотя и озабоченный обломанными ногтями и тем, что не брал в руки лютню с самого дня нашей высадки под Акрой. Теперь, когда она стала замужней женщиной, ее волосы были собраны в большой пучок, который, чуть оттягивая голову назад, придавал миледи гордую осанку. В платье цвета гиацинта она была красивее, чем когда-либо. Во мне проснулись и разгорелись былые вожделения, и я решительно переключил внимание на завязавшийся за столом разговор.
Кто-то вспомнил о Старике с Горы.
К тому времени всем нам были знакомы имя и вселяющая ужас репутация этого таинственного властелина. Он правил в горной крепости в Ливане, а его подданные были профессиональными убийцами. Их называли «ассасенами» [4]4
От assassin – убийца ( фр.).
[Закрыть], и это слово начинало входить в повседневный язык армии крестоносцев. «Ты настоящий старый ассасен», – мог сказать один солдат другому, а то и мулу, или будучи недовольным каким-нибудь несподручным инструментом. Имя «Старик с Горы» получило широкое распространение как мерило свирепости, а фраза «рассказывай об этом Старику с Горы» – как выражение недоверия.
И все же, несмотря на то что этот образ давно поселился в нашем сознании и часто бывал предметом разговоров, Старик с Горы был окутан тайной, казался легендарной фигурой, его существование вызывало сомнения. Никто никогда не видел ни его, ни хотя бы одного из его ассасенов, и большинство считали этот персонаж героем сарацинского фольклора, полагая, что в основе его образа была личность гораздо менее колоритного тирана, терроризировавшего страну в далеком прошлом. Разумеется, очень немногие действительно верили в то, что если облазить весь Ливан, то можно набрести на Старика с Горы, на его соплеменников, убивающих ради удовольствия, на утыканный башнями замок или на знаменитые сады удовольствий, сравнимые с раем, где среди фонтанов и цветов бродят прекрасные нимфы. Но все с удовольствием болтали о нем, обмениваясь умозрительными замечаниями.
Неожиданно Рэйф Клермонский, положив на стол нож, нагнулся вперед и заговорил. За исключением моментов крайнего возбуждения, он всячески старался скрыть некоторую пронзительность своего голоса и говорил нарочито хрипловато. Сейчас же его слова легко доходили до самых удаленных мест за круглым столом, хотя смотрел он только на Ричарда.
– Вы очень удивитесь, если я скажу вам, что видел Старика с Горы и его цитадель?
Как и следовало ожидать, над столом пронесся приглушенный шум удивления, интереса и недоверия, перекрывая который отозвался Филипп Французский.
– Конечно, да, узнать об этом было бы удивительно и забавно, – отчетливо прозвучал его чистый голос.
– Так я вам расскажу, – сказал Рэйф, бросив на Филиппа взгляд, полный холодной неприязни, а потом оглянувшись на Ричарда. – Однажды мы с моим… с султаном отправились к нему с визитом. Это был совершенно секретный визит, и он взял с собой меня, а не кого-то из приближенных, потому что верил в мою… скромность. – На его лице на мгновение появилась какая-то особенная полуулыбка-полугримаса. – Мы подъехали к замку с серебряными куполами и полами – все было так, как в историях о нем, если не еще более изумительно. Замок стоит на уступе скалы, окруженный садами, красоты которых в рассказах скорее недооцениваются, чем преувеличиваются. У границы сада гора обрывается, образуя необычайно глубокое ущелье – оно выглядит как край земли. В один прекрасный день, когда мы гуляли по саду, Старик с каким-то странным любопытством спросил моего… султана: «Вот вы великий правитель, а скажите мне, прыгнул бы любой из ваших людей в эту пропасть, если бы вы приказали? Я имею в виду – охотно, с радостью?» Султан взглянул на меня, и на моем лбу выступил холодный пот.
Не потому, разумеется, что я собирался прыгнуть, а… О, они ни в грош не ставят человеческую жизнь, не успеешь и оглянуться, как… – Рэйф содрогнулся и продолжал, приковав к себе пристальное внимание всех присутствующих: – «А мои прыгнут», – проговорил Старик. Он что-то произнес, сделал знак, и, клянусь вам, милорды, святым крестом, откуда-то взявшиеся шесть человек подбежали к обрыву и с ликующими криками – да, я не ошибся, именно с ликующими криками бросились в пропасть. «Вот видите, – сказал Старик, отворачиваясь от обрыва с таким видом, словно отходил после ужина от стола, – мои люди знают, что, повинуясь мне, попадут прямо в рай». И, разумеется, с той же убежденностью они по единому его слову совершают эти почти ритуальные убийства.
Рэйфа слушали в полной тишине, затаив дыхание и с таким вниманием, какому позавидовал бы любой рассказчик. Потом заговорил, чуть подавшись вперед, Филипп Французский.
В эти последние дни, когда мне нечего было больше делать, кроме как наблюдать и слушать, я понял, что король Франции испытывал почти невольную недоброжелательность к Рэйфу Клермонскому, родственную ненависти человека к голубым глазам, потому что его когда-то обманула голубоглазая девушка, или неприязни женщин ко всем рыжеволосым мужчинам, так как однажды рыжий бродячий торговец продал ей плохой гребень. Глядя на Рэйфа, Филипп не мог не вспоминать о том, что Ричард заставил Акру капитулировать без участия союзников. Расположение Ричарда к Рэйфу и подчеркнутое уважение Рэйфа к Ричарду были ему ненавистны. Когда Ричард привел Рэйфа в шатер Филиппа и, представив как первого освобожденного пленного, рассказал его историю, Филипп проявил недоверие – или сделал вид – и потребовал доказательств.
Теперь он снова настаивал на доказательствах.
И, разумеется, хотя в тот момент мы о них не думали, те из нас, кто считались друзьями Ричарда, должны были быть благодарны Филиппу за то, что он не упустил момента, не так легковерно, как остальные, воспринял эту драматическую историю, и, подавшись вперед, заговорил с подчеркнутой учтивостью:
– Сэр Рэйф, вы действительно там были или же повторяете – я убежден, что искренне веря в это, – историю, которую вам рассказали? Я спрашиваю потому, что она слишком похожа на легенду, и еще потому, что со дня моего прибытия сюда все надоедают мне с вопросами о таинственном старике, в результате чего я прихожу к выводу, что Старик с Горы – мистический персонаж.
Загорелое лицо Рэйфа потемнело еще больше.
– Ваши слова равноценны обвинению во лжи. Я действительно сам его видел.
– Я не собираюсь опровергать ваши слова, – с терпеливой вежливостью возразил Филипп. – Судя по всему, вы видели вождя какого-нибудь племени, который произвел на вас сильное впечатление своей эксцентричностью. Но, как беспристрастный и любознательный собеседник, я должен спросить вас: существует ли в действительности некто, называющий себя Стариком с Горы, у кого…
– Но разве он не сказал нам только что… – начал Ричард.
Его прервал ровный, бархатный голос Конрада, маркиза де Монферра:
– Один момент, милорд английский! Милорд французский, когда вы пытались разузнать об этом мистическом персонаже, вам следовало обратиться ко мне. Я мог бы вам сказать, что он, несомненно, существует. Я знаю это. Я получил от него письмо.
Центр всеобщего внимания сместился.
– Подписанное?
– Письмо, написанное на латыни, не чернилами, а веществом, напоминающим деготь, с помощью какого-то инструмента вроде козьей ножки на листе белого шелка – но достаточно разборчиво. И подписанное: «Старик с Горы». Почему это кажется вам таким невероятным, Филипп? Вы же подписываете свои бумаги: «Филипп, король Франции». Он старый человек, правит в горах, и когда берется за свою козью ножку, это равносильно тому, что он подписывается.
– Но мне дали понять, – упрямо возразил Филипп, – что такого человека не существует и тот, кого называют этим именем, сродни западным духам или домовым.
– Ну, хорошо, – весело возразил Конрад, – если вы настаиваете, я получил письмо от духа. Вместе с весьма осязаемым тортом. Вполне весомым и вот таким большим. – Он показал руками, каким был торт.
– Милорд, он прислал вам торт? – спросил Рэйф Клермонский, забыв о контроле над собственным голосом, разлившимся пронзительной трелью.
Конрад де Монферра кивнул и улыбнулся. Потом, обращаясь ко всей компании, пояснил:
– Некоторое время назад, в Тире, у меня нашлась достаточная причина, чтобы повесить двух его так называемых ассасенов. Впрочем, сказать «причина», пожалуй, будет некоторым преувеличением. Они оказались замешанными в уличную драку, и если и заслуживали того, чтобы быть повешенными, то, вероятно, за прошлые дела, или за те, которые совершили бы в дальнейшем, если бы остались в живых. И я их повесил. Старик прислал мне очень дерзкое письмо, требующее компенсации. Я его, естественно, проигнорировал. Тогда на следующий день он прислал мне торт. Я обнаружил его утром около своей кровати, а мои слуги едва не умерли со страху, поскольку это свидетельствовало об их пренебрежении своими обязанностями. По-видимому, это его милая привычка – присылать торт как знак и как предупреждение. Торт у кровати означает, что Старик с Горы преследует тебя! Я верю, Филипп, что люди, получая один из его тортов, умирали от страха.
– Это равносильно смертному приговору, – серьезно проговорил Рэйф. – Вам следует беречь себя, милорд.
– Я так и делаю, – охотно согласился маркиз, – и строго предупредил своих ребят. «Вы понимаете, – сказал я им, – что тот, кто принес этот торт к моей кровати, может прикончить меня во сне?»
– Им это ничего не стоит – они делают это очень быстро и легко. Посылают предупреждение, после чего вы пребываете в постоянной тревоге и настороже и становитесь жертвой, достойной их мастерства, – объяснил Рэйф.
– Но чем вы можете доказать, кроме суеверных домыслов ваших слуг – а они, вероятно, все из местных, – что торт прислан именно этим персонажем? – не унимался Филипп.
– Нет их у меня, дружище! И даже если мне на голову свалится тяжелый кусок черепицы с крыши или продавец фруктов выхватит кинжал, когда я осмелюсь над ним подшутить, и воткнет его мне в сердце, доказательств по-прежнему не будет. Послушайте, Филипп, если бы факт его существования и методы были доказуемы, мы не сидели бы здесь за досужим разговором о нем. Есть какая-то тайна, дающая ему такую власть.








