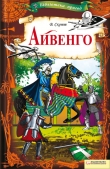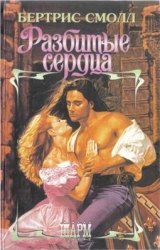
Текст книги "Разбитые сердца"
Автор книги: Бертрис Смолл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
Мне, тоже измученной, не удавалось уснуть так же быстро, и утром я еще крепко спала, когда она потрясла меня за плечо.
– Проснись, Анна. Мы сегодня же возвращемся в Руан. Ричард непременно приедет туда, это его столица и его любимый город. И я должна быть там. Я не хочу, чтобы меня снова не заметили и забыли. Эта старая кошка узнает, кто королева Англии!
Склонившись надо мной в сумраке раннего утра, Беренгария выглядела странно, но я, еще не окончательно проснувшись, отнесла это на счет волнений предыдущего дня. Однако вскоре встало солнце и я, посмотрев на нее при ярком свете, поняла, что она изменилась больше, чем я ожидала. Перемены были совершенно из ряда вон выходящими и казались устрашающими.
В Акре я часто отмечала удивительное неуязвимое спокойствие в глазах сарацинок, когда-то так поразившее нашего деда. Большинство из них, кроме самых бедных – а нередко и они тоже, – в детстве подверглись той самой небольшой операции, которую Ахбег сделал Беренгарии. На улицах Акры можно было увидеть молодую сарацинскую женщину, прижимавшую к груди мертвого ребенка, не находившую себе места от горя и проливавшую потоки слез из безмятежно-спокойных глаз, подобных альпийским фиалкам. Но в какой-то момент жизни неизбежно происходило изменение, потому что в глазах каждой сарацинской старухи, казалось, жила вся печальная мудрость мира, словно все чувства, годами сдерживаемые этой искусственной преградой, вдруг хлынули в ее глаза и завладели ими.
В точности то же самое произошло и с Беренгарией. Ее глаза, такие же голубые и прекрасные, как всегда, стали уязвимыми. Теперь они отражали ее чувства, как у всех женщин. Да, теперь ей будет гораздо труднее притворяться. Глаза могли сыграть предательскую роль.
В Руане было пусто и тихо. Как и предполагала Беренгария, все сколько-нибудь заметные люди уехали встречать короля. Мы одни, если не считать слуг, сидели в замке и томились ожиданием. Спокойствие нашей тихой заводи было нарушено самым ужасным образом.
Прямо из Меца Ричард отправился в Амстердам, где сел на корабль, отплывавший в Англию. Говорили, что Филипп Французский прислал Иоанну немногословное письмо, в котором предупреждал его о приезде Ричарда: «Будьте осторожны, дьявол на свободе!»
В тот день дьявол вырвался на свободу и в наших апартаментах. Я смертельно боялась, что Беренгария покалечит себя. Она полностью потеряла контроль над собой, а у меня не хватало ни ловкости, ни веса, чтобы повиснуть на ней и остановить.
– Не надо! Не надо! Перестань! – кричала я, глядя на то, как она бьется головой о каменную стену, и пыталась схватить ее за руку, но она отшвыривала меня, как комнатную собачонку.
Через несколько часов я, сама побитая, потрясенная и близкая к истерике, решила незаметно выйти из комнаты и позвать на помощь. Беренгария сошла с ума, а сумасшедших связывают. Можно понимать причину буйства и жалеть несчастного, но оставлять его в таком состоянии нельзя.
Но когда у меня оформилась эта мысль, она остановилась посреди очередной громогласной тирады и сказала:
– Если я сейчас не справлюсь с собой, то кончу так же, как моя мать. Анна, я скоро успокоюсь. Прости меня. Мною овладело безумие. – Она подошла ко мне, опустилась на колени, уткнулась головой в мои и разразилась потоком самых обычных слез, к которым женщины нередко прибегают в поисках утешения. Выплакавшись, она тихо заговорила, и ее слова показались бы мне очень лестными, будь я женщиной иного склада:
– У меня никого нет кроме тебя, Анна. Ты мой единственный друг. Только ты все знаешь и понимаешь. Ведь ты останешься со мной, да? Не покидай меня. Кроме тебя у меня никого нет…
Но я, живо представив себя в роли незаменимой сиделки, долгие дни сплошной скуки и полной несвободы, дала лишь самые неопределенные обещания, чтобы хотя бы немного утешить ее.
7
Инстинкт меня не обманул. Я и теперь помню атмосферу следующих дней. Беренгария отдалилась ото всех, кроме меня, и я сочла бессердечным уходить на свои прогулки и в равной степени бессердечным брать ее с собой. Она была уверена в том, что все встречные смотрят на нее с презрением и жалостью.
Долгие вечера пролетали бы быстро, если бы я могла спокойно читать, но Беренгария непрерывно напоминала о своем присутствии. Едва слышный вздох, беспокойное движение – и я чувствовала себя обязанной откладывать книгу и придумывать какое-нибудь совместное занятие. Я пыталась учить ее играть в шахматы – эта игра мне очень нравилась, – но Беренгария была так рассеянна, так блаженно невнимательна, что мне хотелось выть и швырять в нее фигурами. Пробовала я заинтересовать ее и одной старой, типично английской, очень интересной карточной игрой, которой я научилась в Акре. Но без определенного навыка игра не приносила никакого удовольствия, и поскольку Беренгария не могла или не хотела вникать в тонкости, я неизменно выигрывала, что ее очень огорчало.
Она была так слащава и мила, так стремилась угодить, едва я откладывала книгу…
– В карты? О, конечно, Анна. – И тут же утрачивала интерес, даже если под самым ее носом лежали выигрышные карты. И я выигрывала. Но это не приносило мне удовольствия и не вызывало интереса.
Скука… скука… сплошная скука. Порой мне казалось, что от скуки можно даже умереть.
Чего я только ей не предлагала. Говорила, что у королевы Англии должно быть достойное окружение, что нашу жизнь оживили бы веселые, образованные фрейлины…
– Да, наверное. Но, Анна, мне не нужен никто, кроме тебя. Они станут подсмеиваться надо мной, судачить за моей спиной. А с тобой мне не приходится ни притворяться, ни что-то объяснять. Вспомни, как стало хорошо, когда мы избавились от Пайлы.
Я предлагала съездить в Наварру – просто с визитом. Конечно, здесь я хитрила. Отец, несомненно, сразу догадался бы, что дело неладно, и мог бы принять какие-то меры без согласия Беренгарии. Там, по крайней мере, можно было поговорить с ним и с Молодым Санчо. Кроме того, в Памплоне, в родном доме, я могла бы иногда оставлять Беренгарию одну. О, как мне хотелось походить по городу, постоять на улице и посмотреть по сторонам, послушать разговоры на перекрестках и у лавок…
– Но приехать в Наварру – значит признать поражение. Ни одна замужняя женщина не вернется в дом отца, если не…
– Но всего лишь с визитом…
– Отец все поймет. Он посмеется, потом станет меня жалеть и, скорее всего, что-нибудь затеет, сделав это достоянием всего мира.
Такими тупиками оканчивалось большинство наших разговоров. Но она могла говорить без конца. «Поговори со мной, Анна. Скажи мне что-нибудь». И я ломала голову, выдумывая новую тему, которая исчерпывалась двумя фразами и замирала на иссушенной почве отсутствия общих интересов.
Наконец, окончательно отчаявшись, я надоумила ее начать вышивать гобелен. Какое-то время она делала это с удовольствием, а я читала. Потом я присоединялась к ней, задавала себе почти невозможное задание и вышивала до сумасшествия. Работая вместе, мы обменивались короткими бессвязными фразами.
Проклятый гобелен расцветал на глазах. И однажды вечером я между делом заметила:
– Что мы будем с ним делать, когда закончим? Для нашей комнаты он слишком велик, как и для любой в Мансе. Об этом надо подумать.
– Я уже подумала, Анна. Но не о гобелене, а о нас. Если теперешнее состояние затянется, нам, наверное, следует устраиваться самостоятельно. Ты согласна со мной?
– Я всегда хотела иметь собственный дом, – ответила я, прервав работу. Какая безопасная и плодотворная тема! И я принялась рассказывать о доме, который собиралась построить. Одна большая комната со стеклянным окном, сад с цветами и зелеными газонами, полки для моих книг, стол, за которым я могла бы писать, канделябр около кровати и никаких лестниц… Я представляла себе все это так реально, что почти чувствовала запах дома.
– Ты мечтала построить его в Апиете, и чтобы тебе помогал Блондель, – напомнила она, глядя на меня большими грустными глазами. – А я не хотела его отпускать! – Она выронила из руки иглу, столкнула с колен гобелен и зашагала по комнате. – Я расплатилась за свой эгоизм и за фанатичную веру в сновидение. Правда, кое-что сбылось – яма, например, оказалась достаточно реальной. В ней я теперь и сижу – сжалься надо мной, Господи! – отброшенная в сторону, забытая всеми, одинокая – если не говорить о тебе, Анна. Ирония судьбы, не так ли? И как ты можешь порой смеяться! Разве ты не помнишь тот вечер, перед самым отъездом из Памплоны, когда мы поссорились по поводу Блонделя? Ты еще сказала: «Ты всегда хочешь поступать по-своему?» По-своему! Вспомни об этом, Анна, и посмейся.
– Здесь нет ничего смешного, – сказала я как можно мягче, стараясь предотвратить слезы и истерику, опасность которых явно нарастала. – Иди сюда, сядь и скажи, что мы будем делать дальше.
Она словно не слышала меня.
– Анна, я не имею права удерживать тебя здесь, разрушать твои планы и делать тебя несчастной. Ты поедешь в Апиету, построишь свой дом и будешь в нем счастлива. Бери с собой Блонделя – мне он больше не нужен. Вряд ли я когда-нибудь смогу чувствовать себя спокойно в его присутствии.
– Легко сказать: «Бери Блонделя», – заметила я, стараясь говорить непринужденно. – Я не имею ни малейшего понятия о том, где он. Он слал свои сообщения прямо в Руан, а теперь, по-видимому, Элеонора послала его в Англию, а после этого… – Я развела руками.
– Подозреваю, что он поехал в Мец, чтобы участвовать в триумфальном шествии. Элеонора по одну руку Ричарда, Блондель по другую! «Но, ваше величество, кажется, однажды вы по рассеянности женились на своей жене?» – «О, конечно, я совсем забыл. Я где-то потерял ее!» Хорошенькое дельце, а?
Истерика неминуемо приближалась.
– Знаешь, я все-таки в это не верю, – поспешила я сказать первое, что пришло в голову.
– Я склонна думать, что последняя его услуга не оставляет в этом никаких сомнений.
– Нет. Вряд ли Блондель отправился искать Ричарда по той причине, что… тот вскружил ему голову. Он сделал это из жалости к Элеоноре. Я даже знаю, когда ему пришла в голову такая идея. И думаю, что я невольно надоумила его, сказав Элеоноре о том, что когда не помогает прямое расследование, ответ может быть получен с помощью шпионажа. Если бы Блондель был – давай говорить без обиняков – влюблен в Ричарда, он вполне мог додуматься до этого и без слез Элеоноры, и без моих слов. Я не верю, чтобы Блондель был для Ричарда кем-то еще, кроме менестреля.
– Ты говоришь так страстно…
«Будь осторожна!» – мысленно предостерегла я себя.
– Правда? Может быть. Но я так же говорила бы о любом юноше в положении Блонделя, которому случилось бы общаться с таким неординарным человеком, как Ричард. И нет ничего странного в том, что это вызывает некоторые эмоции.
– Для меня не имеет значения, кто этот юноша. Но почему ты убеждена, что Блондель…
– Не знаю, – довольно уныло ответила я. – Правда, не знаю. Но на него не похоже…
– А разве можно допустить подобное, глядя на Ричарда? – с горечью в голосе прервала меня Беренгария.
– Единственное, на чем реально зиждется моя убежденность, – подолжала я, – это письма о Рэйфе Клермонском и о Ричарде. А потом он ухаживал за Рэйфом, когда Ричард был в Дамаске. Это совершенно не производило впечатления, что…
– А я всегда думала, что столь критическое отношение вызвано ревностью. Но я не понимаю и удивляюсь, Анна, – неужели ты…
Уф! Наконец-то этот разговор протащил нас через еще один вечер. Неожиданно оказалось, что уже пора спать, и, раздеваясь, я подумала, что для нашей странной дружбы было типично то, что первый, действительно серьезный разговор, почти не касавшийся нас обеих лично, был посвящен этой теме!
Парой дней позднее Беренгария обратилась ко мне со словами:
– Анна, я размышляла о тебе и о твоем доме. Не построить ли нам его сообща? Мы живем в самых недостойных условиях, если не сказать большего. А строительство очень интересное занятие.
– Ты считаешь, что сможешь поселиться в Апиете?
Пару раз, когда женился Молодой Санчо, я подумала, что если у меня будет дом, то я, возможно, разделю его с Беренгарией, если она так и не выйдет замуж. Такая перспектива показалась мне тогда совсем не привлекательной, но теперь изменилась Беренгария, изменились обстоятельства, изменилась я сама. Если я обречена разделить с нею жизнь, то лучше в Апиете, чем где-либо еще. Сердце мое подпрыгнуло при мысли о возвращении, о собственном доме. И однажды мы действительно отправились туда вместе и обсудили, где будем строиться. И всего на один момент во мне проснулось недоброе чувство к Беренгарии. Ричард не взял ее с собой в крестовый поход, и мне пришлось ехать с нею. К тому времени мы обе были совершенно счастливы и уютно устроены. Может быть, Бог стал бы добрее к ней, будь она добрее ко мне. Но эта мысль задержалась в моей голове ровно настолько, сколько нужно было, чтобы осознать это и стереть из памяти.
– В Апиете? – переспросила она с ноткой категорического возражения в голосе. – Нет-нет, Анна. Это так же плохо, как и уехать к отцу. Я должна оставаться здесь, в Аквитании. Но я не понимаю, почему бы нам не построить дом тут и с комфортом жить в нем. В собственном доме мы могли бы завести собачек, а может быть, и обезьянку. И голубей – много белых голубей; они такие красивые и так приятно воркуют в летние дни. Мне кажется, что я с удовольствием работала бы в саду. Давай так и сделаем, Анна.
Беренгария смотрела на меня, и лицо ее пылало энтузиазмом – может быть, впервые за много дней. Оно всегда было невыразительным, пока не изменился ее взгляд; но с тех пор глаза ее выражали только печаль, неудовлетворенность и разочарование.
Выбор Эспана был обязан этому, новому, взгляду Беренгарии. Погасить его у меня просто не хватило духу.
– Строительство стоит денег, – осторожно заметила я. – Рабочая сила в таких местах очень дорога. В Апиете я воспользовалась бы своим правом на труд крестьян, здесь нам придется нанимать рабочих, и к тому же немало заплатить за камень и бревна. Но, – поспешила я сказать, увидев, как помрачнело ее лицо, – все это можно уладить.
– Я попрошу у отца, – пылко вымолвила она.
– Он вряд ли успел оправиться после твоей последней просьбы. Не надо к нему обращаться, пока у меня не кончатся деньги. – Я понимала, что мои слова звучат так, словно я уже согласилась с ее планом. – Но в любом случае поговорить с ним не вредно.
С удовольствием повернувшись спиной к ненавистному гобелену, я взяла перо и чернила и стала рисовать план дома.
– Здесь будет солнечная комната, с окном, обращенным на юг, с входной дверью и с другой, выходящей в сад. Зимой получится хороший сквозняк. Построим небольшую крытую галерею – может быть, посадим в ней какие-нибудь теплолюбивые растения, и зимой у нас здесь будет зелень. – Я скрипела и скрипела пером, радуясь новому занятию.
Беренгария развернула гобелен, продела нитку в иголку, брошенную тут же накануне, и принялась вышивать.
– Он нам понадобится, Анна, и надо вышить еще несколько, для стен нашего дома.
Что ж, мы могли бы неплохо устроиться. Счастья не закажешь и не купишь, а вот удобство купить можно. Собственный дом! Некоторые вещи, часто не имеющие никакой ценности, выбираешь только потому, что на них приятно смотреть, держать их в руках, прикасаться к ним – как спасенные обломки корабля, потерпевшего крушение, унесшее на морское дно целый блистательный флот мечтаний и планов. Но это лучше, чем ничего.
Теперь-то я смогу уйти от Беренгарии. Пусть займется гобеленом! Я скажу, что нам понадобятся многие, многие ярды гобеленов, плотно расшитые вышивкой занавески, подушки для кресел и табуретов. Это – ее задача. Мое дело – наблюдать за тем, чтобы правильно рыли траншеи под фундамент, ровно распиливали камни и как следует скрепляли их раствором, за тем, как одаренный особым талантом рабочий будет с помощью раздвоенной вилкой лозы искать воду для хорошего колодца, и за тем, как его будут рыть. Я буду занята с утра до вечера. Буду говорить с каменщиками и плотниками, распоряжаться, решать проблемы.
А проблемы уже возникали. Не могу ли я позволить себе два стеклянных окна? Одно в комнате, обращенной к югу, другое в моей комнате, которая должна быть моей, только моей, а значит, служить одновременно спальней и жилой комнатой, где я смогу быть самой собой. Но как сделать, чтобы в небольшом доме, спланированном и построенном так, как раньше никто не строил, еда попадала на стол горячей из достаточно удаленной кухни, чтобы комнаты не заполняли кухонные запахи? В замках и в больших домах эта проблема легко решалась наличием столовой непосредственно над кухней. Но в задуманном мною доме не предвиделось никаких лестниц – мне нужен дом, по которому я смогу ходить на одном уровне.
– О, дорогая, – сказала я наконец, – в голове у меня план готов, но мысль о том, чтобы его вычертить, меня убивает. Нам нужен Блондель.
Я положила на стол перо, а Беренгария перестала гонять иголку по гобелену. Я пожалела о своих словах, как только позволила им вырваться. Ведь если теперь я прикована, как цепью, к Беренгарии, то, может быть, лучше, чтобы он держался от меня подальше?
– Так где же мы построим дом? – спросила Беренгария с нарочито бурным интересом, который она теперь проявляла к любой теме, пришедшейся, по ее мнению, мне по вкусу.
– Это зависит от многого. Ты хочешь остаться в Руане?
– О, нет. Только в Аквитании, близко, на случай, если он приедет или решит прислать за мной. Я думаю, что более предпочтителен Манс, а ты? И окрестности там гораздо красивее.
В очередной раз я убедилась в удивительной осведомленности Беренгарии о таких вещах, которые, безусловно, должны были ускользнуть от ее внимания. Манс и вправду красивый город, небольшой, благожелательный. И окрестности были бесконечно прекраснее плоского пространства вокруг Руана. Но откуда она обо всем знала?
– Самое красивое место под Мансом – Эспан, – заметила я. – По одну сторону этого городка березовая роща, а по другую – река.
– Эспан так Эспан.
Я почувствовала, что мне следовало бы чуть отступить.
– Обо всем этом надо будет еще раз подумать.
– Очень хорошо, так приятно, когда есть о чем подумать, не так ли?
Я согласилась с нею от всего сердца.
На мои мысли влияли две новости. Первым пришло известие о смерти отца. Горе сблизило нас, его дочерей, и наши слезы смешались. А когда я со всей остротой вспомнила все, что он сделал для меня, нежеланного, незаконного ребенка, мною овладела сентиментальная иллюзия, свойственная людям, недавно потерявшим близких: я могу отплатить за его доброту, став еще добрее к Беренгарии, проявив к ней, его любимой дочери, еще большую преданность. Пару ночей я проплакала в подушку, обещая себе заботиться о ней, помочь ей стать счастливой, насколько возможно. Я достаточно хорошо понимала, что это лишь способ самоутешения, но обещания мои были достаточно искренними. Иногда меня посещали несколько странные мысли, которые могли бы поставить под серьезный вопрос мою ортодоксальность, если бы я сделала их достоянием других. Я чувствовала, что отец не задержится в чистилище, а попадет прямо в компанию святых и ангелов и, глядя вниз с небес, увидит, в каком плачевном состоянии пребывает его красивая, избалованная дочка. Он откажется быть счастливым на небесах, если увидит, что она несчастна на земле, и будет умолять о чуде, которое принесет ей счастье. Он не был усердным прихожанином, но храбро сражался против мавров на Сицилии – и какой-нибудь святой мог бы с полным основанием услышать его и сотворить маленькое чудо – заставить Ричарда прислать за женой.
Но все получилось совсем по-другому. Следующая новость пришла от Ричарда, который сообщал нам, что он выступил против мятежников, нашедших прибежище в Ноттингхемском замке, и уничтожил их. Иоанн в последний момент укрылся за юбками Элеоноры, которая привела его к преданному им брату, чье место он хотел занять. Могу себе представить состояние Элеоноры: «Из всех моих прекрасных сыновей остались только двое, и я, мать, должна примирить их». По-видимому, жертвой сентиментальности рано или поздно становится каждый. Элеонора избегала сентиментальности в юности, но поддалась ей в старческой немощи.
Ричард заявил: «Я прощаю тебя, Иоанн, и хочу с такой же легкостью забыть твои преступления, с какой ты просишь моего прощения».
Я прониклась к Ричарду теплым чувством за его слова, такие тонкие, благородные, остроумные и уничтожающие, но рассказ этот дошел до нас вместе с сообщением о том, что его повторно короновали в Вестминстере, чтобы смыть унижение заточения. Он вполне мог бы прислать за Беренгарией, чтобы жена присутствовала на коронации, и смыть еще более глубокий позор, более постыдный срам. Но он этого не сделал.
Беренгария приняла новый знак отвержения спокойно. Но удар был оскорбительным, у меня болело сердце за нее, и когда она снова заговорила об Эспане, я была рада возможности отвлечь ее от тяжелых мыслей.