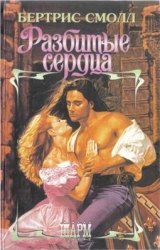
Текст книги "Разбитые сердца"
Автор книги: Бертрис Смолл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Дальше все было так же, как всегда. Ричард смотрел на меня с той же самой холодной неприязнью, которую выражали лица Людовика и Генриха каждый раз, когда я пыталась им возражать. И заговорил таким же резким голосом:
– Любой человек, любой солдат, стоящий того, чтобы платить ему деньги, находится здесь, при мне, и готов пойти со мной вперед, чтобы вести более крупную игру, нежели укрощение мелкого карманника, играющего в короля. У меня нет человека, от которого я мог бы отказаться ради этого. Лонгшам запугал Джеффри и, клянусь Богом, поверг в панику и тебя. Несмотра на его старания, я не дошел до того, чтобы посылать к нему неискушенного в таких делах рыцаря. Каутенсис и мое уничтожающее письмо – вот все, что он получит. Я сейчас же пойду к Каутенсису.
Он потянулся рукой за ширму, достал оттуда простую холщовую безрукавку и стал натягивать ее на себя. Я понимала, что для продолжения спора момента хуже не придумать, знала, что любые слова разозлят его еще больше, но дело того стоило. И, подождав, пока его голова прошла через узкий ворот, когда он уже затягивал вокруг талии кожаный пояс, сказала:
– Ричард, не решай так поспешно. Не посылай какого-то старого иностранца-попа, прошу тебя. Тебе нужен не просто еще один человек, который примкнет к той или другой стороне, – тебе нужен кто-то, намного превосходящий их. Человек, способный править Англией.
Его рука замерла на пряжке пояса.
– Послушай, мама, однажды я внял твоему совету и вызвал Джеффри Йоркского. И что мне это дало?
– Это дало тебе честный отчет о состоянии дел. Ни Хьюз, ни Дарем, ни твой брат Иоанн палец о палец не ударили, чтобы сообщить тебе, что большая печать Англии отброшена в сторону, а над Виндзором развевается флаг этого золотаря. Разве я не права?
Мой сын взглянул на меня с нескрываемой ненавистью, в точности как те, другие, в те далекие годы, когда они меня любили, и укрылся за типично мужской позицией.
– Мамочка, не беспокойся. – Он слегка похлопал меня по плечу. – Не унывай, мама. Ты все принимаешь слишком всерьез. Это был последний удар дьявола. Теперь он оставит меня в покое. Вот увидишь.
Я моментально лишилась дара речи. В глубоком молчании Ричард взял свой тяжелый меч, секунду подумал, положил его обратно и зашел в нишу.
– Мы пойдем вместе, загон для мулов по пути. Танкред выполнил свои обязательства по сделке, но треть мулов оказались хромыми и решительно все в болячках. Мои ребята говорят, что погонщики едят припарки из отрубей, которыми я приказал лечить мулов. Я порой заглядываю туда, когда они этого меньше всего ожидают, и беру с собой небольшую палку. Боже мой, да где же моя палка? – Он вышел из-за ширмы с гибкой, тонкой палкой под мышкой, натягивая подаренные мною перчатки. – Дикон! Дикон! Он всегда болтается под ногами, когда в нем не нуждаются, и оказывается в миле отсюда, когда нужен. А, вот и ты. Ты знаешь, где устроился сэр Элвайн? Отнеси ему горячего поссета да миску хорошо приправленной пшеничной каши, разбуди его и скажи, что я приказал ему поесть и беречь силы. Пошли, мама. – Он спрыгнул с помоста и подал мне руку. – Каутенсис, Бэйвистер и милорд Реймский поселились недалеко от загона – поручу-ка я им заняться погонщиками.
Горячий поссет для Элвайна, припарка из отрубей для мулов, шутка бедолаги лучника, угроза мятежа в Англии – все сливалось воедино! Отдельные пылинки на долгом пути в Иерусалим! Одинаково важные. И одинаково несущественные.
7
Выйдя из шатра и увидев Гаскона, сторожившего моего мула, Ричард немедленно с тревогой отметил, что я приехала вечером с таким слабым эскортом.
– Я думал, ты более благоразумна, – сказал он. – Каждый сицилиец, начиная с Танкреда, вор и грабитель.
– У меня нечего брать, – возразила я.
– Мула! С тех пор как я заставил Танкреда вернуть приданое Иоанны, каждый мул на острове на вес золота!
Он приказал шести надежным парням сопровождать нас до дому. Этот эскорт замедлял наше движение. На пути в лагерь Гаскон держался за стремя, но мул шел довольно быстро, и мы то и дело останавливались, чтобы он мог перевести дыхание. Однако теперь эти шестеро ехали в маршевом строю по обе стороны моего мула, и мы были вынуждены подстраиваться под их темп. Мул, как обычно, шел к дому быстрее, чем в противоположную сторону, и его приходилось сдерживать. Натягивая поводья, погруженная в мысли об Англии и о только что состоявшемся разговоре, я проехала почти две трети расстояния до дому, прежде чем вспомнила о причине своей поездки к Ричарду. Это могло бы показаться невероятным, но с того момента, как зашел разговор о депеше из Англии, мысль о Беренгарии вообще вылетела у меня из головы.
Не становлюсь ли я такой старой, что мне уже изменяет память? Правда, в данном случае дело было не только в моей забывчивости – даже если бы я и помнила о своей цели, сомневаюсь, что в тот вечер было уместно обсуждать с Ричардом брачные дела.
Тем не менее внезапное возвращение памяти заставило бы меня остановиться, если бы я не ехала верхом на муле. Сидя на его спине, держа натянутый повод, я машинально потянула сильнее, и мул, протестуя, брыкнул задними ногами и резко свернул в сторону. Мой эскорт смешался, и, прежде чем все мы пришли в себя – а я едва усидела в седле, – со стороны лагеря до нас донесся звук трубы, мелодичный и чуть приглушенный, казавшийся почему-то печальным – возможно, из-за большого расстояния.
Один из солдат сказал:
– Миледи, не могли бы вы минутку подождать. Это сигнал, и согласно правилу мы должны, где бы ни были и что бы ни делали, услышав его…
– Что за сигнал?
Никто не ответил. Все шестеро перестроились и встали плечо к плечу на обочине дороги. Затем все, как один, воздели руки к небу и прокричали:
– Вперед! Вперед! За Гроб Господень!
Они прокричали так трижды. Любой торжественный ритуал, рассчитанный на участие массы людей, при исполнении всего несколькими мог бы показаться смешным, но этот таким вовсе не был. Наоборот, это был впечатляющий и волнующий клич. Гаскон высоко поднял фонарь, и в его неверном свете я увидела словно осиянные лица всех шестерых, с торчавшими вперед бородами, поскольку кричали они, задрав головы, с рядами белых зубов в широко в открытых ртах и с серьезными, сосредоточенными глазами. И внезапно осознала, что передо мной беззаветно преданные люди, солдаты креста. Прежде мы двигались все вместе, единой группой, теперь же Гаскон и я оказались как бы в стороне – старуха и паж, непричастные к этому мистическому единению. Что-то стиснуло мне горло.
Они опустили руки.
– Благодарю вас, миледи. Мы снова к вашим услугам, – прозвучал бодрый английский говор того же самого солдата.
– Вы делаете так каждый вечер? – спросила я, не сдвинувшись с места.
– Каждый вечер, миледи. Это последнее, что мы делаем перед тем, как гасят огни. Но только по сигналу трубы. Если бы к тому моменту мы успели перевалить за холм, то вряд ли услышали бы его. И тогда вам не пришлось бы останавливаться.
Он произнес эти слова очень четко, словно объясняя мне что-то само собой разумеющееся. Спустя много лет, оглядываясь в прошлое, я часто удивлялась тому, что они на меня так повлияли.
То был истинный голос Англии – педантичное соблюдение обычаев при полном отсутствии чувств. Любой из моих аквитанцев либо счел бы удобства дамы достаточным оправданием отступления от правила – чисто практический подход, – либо, при желании соблюсти его, сделал бы это так истово, что не подумал бы ни об ее удобстве, ни о близости холма. В этом и состояла разница, и если существовало всего одно слово для ее обозначения, оно охватывало бы всех англичан, знатных и простых, богатых и бедных, скрупулезно соблюдающих правила и одновременно относящихся к ним скептически. Останавливаться, если ты в пределах слышимости, или же цинично отмечать, что ты уже за холмом и свободен от соблюдения ритуала, – совершенно та же позиция, которую занимает лояльнейшая в мире лондонская толпа, прерывающая овации грубыми, громогласными замечаниями о некоторых физических особенностях членов королевской семьи и больше всего любившая Генриха за его пузо и красный нос. Столь явное несоответствие позволило представителям других наций считать англичан двуличными и вероломными. Пытаясь объяснить Ричарду характер его соотечественников, я называла их лукавыми, едва ли не лицемерными. Оба эти слова были неподходящими. Англичане отличались особым свойством отвечать обоим направлениям, так сказать, всесторонним подходам.
Я не раз отмечала, что хотя английская толпа может быть очень жестокой, она никогда не бывала такой страшной, как толпа аквитанцев. Рано или поздно что-то вызывало у нее веселье, и сквозь очистительный смех прорывался чей-нибудь одинокий голос: «Бедный старый мерзавец!», после чего смертный приговор толпы схваченному за руку карманнику, пойманному фальшивомонетчику, пивовару, делающему скверное пиво, отменялся. Даже в пылу погони за зайцем, когда кровь у собак и охотников разыгрывалась до предела, стоило косому сделать какой-нибудь очень красивый или смешной прыжок, как раздавался чей-нибудь крик: «Да здравствует заяц!», кто-то другой отзывал собак, и заяц спокойно жил до следующей погони.
Англичане никогда не доходили до крайностей. И это делало их до некоторой степени людьми, легко поддающимися эксплуатации. В данный момент они с мрачным юмором и терпением сносили проповеди лонгшамовского режима, в то время как его деятели думали, что народ разорвет их на куски. Когда Лонгшам падет, они не станут рвать его на куски. Конечно, они обойдутся с ним грубо, но найдется человек, который скажет: «Бедный старый мерзавец! Потерял свой флаг и таких отличных солдат». И толпа посмеется и отпустит его. А на следующий день пожалеет о своем великодушии и будет часами расписывать, как следовало бы с ним поступить.
Такова моя Англия. Моя? Я – Элеонора Аквитанская, и не было никакого сомнения в том, что отдельные англичане, такие, как Николай из Саксхема, обращались со мной плохо. Но хотя я была чужой, а может быть, именно потому, я понимала этот народ и любила его. И видела то, чего не мог видеть Ричард, – что командирование еще одного старого священника, хотя бы и честного и действующего из лучших побуждений, не будет означать ничего – меньше чем ничего – для широких масс, для толпы людей, образующих английскую нацию. В это смутное время им были нужны не указы и даже не поддержка одной из сторон, а центр, вокруг которого можно сплотиться, где-то в стороне от схватки – или, если возможно, над ней – между Джеффри и Лонгшамом.
Следуя потоку своих мыслей, я даже не заметила, что мы снова продолжали путь. Я вернулась к действительности, когда мы уже поднялись на холм, на который указывал тот воин. Спускаясь по склону, почуяв ноздрями запах дома, мул возобновил усилия ускорить шаг, и солдаты почти бежали, подпрыгивая и скользя на раскисшей от дождя дороге. Мною вдруг овладело ощущение мгновенно наступившего бессилия, как бывает иногда в ночных кошмарах – меня словно подталкивали или тянули к какой-то ужасной, но невидимой опасности, а я не могла пошевелить даже пальцем и не могла закричать. Единственная разница состояла в том, что во сне это ощущение беспомощности сопровождается чувством страха. Но сейчас страха не было. Я ничего не боялась. Меня просто тянули вперед, бесполезную, бессильную и ничтожную, как листок, гонимый ветром. Ричард отодвинул меня в сторону, сначала в гневе, а потом с добродушным презрением, а мул тащил меня на своей спине обратно в Мессину, к женщинам, мелким стычкам, образу жизни и манере поведения, бывшим полным отрицанием всего моего мировоззрения – и силы, которая, как я знала, во мне присутствовала.
Тщеславие – это вера в силу, которой человек не обладает. Его слишком часто путают с самонадеянностью, которая представляет собой такую же уверенность в силе, как уверенность в том, что у человека два глаза, две руки и две ноги. В этот момент я без тени тщеславия поняла, что, представься мне такая возможность, я могла бы поправить дела в Англии и что после Ричарда я была единственным человеком, кто мог бы это сделать. Я знала это так же хорошо, как знала свой возраст, рост и цвет волос. Я не боялась Лонгшама и не испытывала благоговейного страха перед Иоанном. Я понимала англичан, и они были расположены ко мне. Появляясь в Лондоне, я каждый раз убеждалась в этом.
Я цинично думала, что даже из соображений моего ранга моя кандидатура – лучшая для этой поездки. Стоит мне только появиться в Виндзоре и провести там ночь, как флаг Лонгшама будет сброшен, в противном случае мерзавец будет осужден за открытый мятеж – а на такое он вовсе не рассчитывает!
Я не страдала самомнением. Сидя на спине тащившего меня мула, я понимала, что мне за семьдесят, а все, что я когда-либо пыталась сделать, кончалось неудачами – крестовый поход с Людовиком, бунт против Генриха в поддержку Генриха-младшего, попытка править Аквитанией. Одни провалы. И еще тысяча менее значительных вещей. Но теперь мне вдруг показалось, что вся моя долгая жизнь, отмеченная неудачами, была лишь подготовкой к выполнению этой задачи. Я выковала себя, закалила и заострила, как хороший клинок, раскаленный энтузиазмом, опущенный в ледяную воду отчаяния, отформованный трудностями и заточенный убежденностью.
Сейчас мул довезет меня до Мессины, где мне придется сказать: «Дорогая, Ричард слишком занят, чтобы встретиться с вами. Ну, не плачьте! Упакуем свои наряды вместе с небольшими разочарованиями и поедем на Кипр. Успокойтесь! Блондель споет нам песенку, Анна припомнит веселую шутку, а Пайла приготовит вкусную еду». А Каутенсис тем временем потащится в Англию с письмом, над которым Иоанн с Лонгшамом лишь посмеются, и Лонгшам, оставив Иоанна пыжиться от гордости, снова уйдет набивать свои карманы, выжимая мой английский народ, как прачка отжимает тряпье. Нет!
Потянув повод, я остановила мула и крикнула солдатам:
– Стойте! – И снова это ощущение кошмарного сна, на самой его границе, когда человек кричит и просыпается… – Я должна ехать обратно, в лагерь. Я вспомнила кое-что очень важное.
Тот солдат, чьи типично английская внешность и бодрый английский выговор так повлияли на мое решение, мягко сказал, что он мог бы передать все, что нужно, и избавить меня от необходимости ехать обратно, ведь я и без того очень устала. Поблагодарив его, я подумала: «Бедный добрый человек, я не из тех женщин, которые теряют силы под грузом семи десятков лет – годы меня укрепляют и делают умнее».
Солдаты с радостью повернули назад. Гаскон же глубоко вздохнул и, услышав этот тяжелый вздох, я отправила его домой. Хотя вздохнул и мул, я повернула его мордой к холму, над которым поднималась луна.
В лагере стояла полная тишина. Костры больше не горели, были погашены и фонари. Но солдаты хорошо знали дорогу и довольно быстро добрались до открытой площадки, окружавшей шатер Ричарда. На земле, завернувшись в одеяла от обычного ранней весной ночного холода, спали солдаты, слуги и пажи. В своей неподвижности тела их напоминали трупы. Однако стражник бодрствовал. На этот раз он, узнав меня, посмотрел уважительно.
– Его величество у себя и еще не спит.
– Замечательно, – отозвалась я, услышав доносившиеся из шатра звуки музыки, обрывки тихой мелодии и отрывочные ноты – кто-то явно готовился запеть. В шатре было темно и пусто, и лишь над помостом тускло сияла масляная лампа. Эта картина снова напомнила мне церковный неф, где вот-вот должно свершиться чудо.
На сей раз музыкантов было двое: Ричард, полулежавший, опираясь на локоть, на кровати – из-за ширмы были видны его голова и торс – и менестрель, в свете лампы сидевший на табурете с лютней в руках, спиной к Ричарду. Я сразу узнала его по освещенным светло-золотым волосам, словно нимбом увенчивающим его голову. Это был юный Блондель, менестрель Беренгарии.
Я быстро вошла в шатер, намереваясь сказать Ричарду о том, о чем не сказала, когда мне изменила смелость, но в удивлении остановилась. Что здесь делает Блондель? Не Беренгария ли его сюда послала?
В этот момент я услышала голос Ричарда:
– Вот так! Отлично. Ну, а теперь сначала!
Юноша повернул голову, бросил быстрый радостный взгляд, снова отвернулся, склонился над лютней, коснулся струн и запел. Я никогда раньше не слышала, чтобы он пел столь прекрасно, мягко, трогательно и мелодично – так в Англии поет в апреле черный дрозд после сильного дождя, когда в живых изгородях лопаются почки боярышника.
Песня была для меня новой.
Пой о моей кольчуге,
Выкопанной из мрака, сотканной из света.
Я буду надевать ее с восходом солнца
И тайно снимать с наступлением ночи;
До блеска начищать звено за звеном, цепочку за цепочкой.
Пой о моей броне,
Выкопанной из мрака, выкованной из света.
– А теперь, сир, ваш стих. Его должны петь вы сами.
Ричард поднялся и сел в ногах кровати. И зазвучал его голос, такой же мелодичный, как у юноши, но более глубокий и грубый.
Пой о моем мече,
Тяжелом и остром, как судьба,
Пой о мече,
Который проломит Святые Ворота.
В праведном бою
Кровь освятит его
И не даст ему затупиться.
Пой о моем мече.
Подходя к помосту, я смотрела на Блонделя, удивленная этой неожиданной встречей и отмечая, что выглядел он совершенно по-другому в сравнении с Блонделем из будуара. Обычно у него был несколько виноватый, приниженный вид. Это меня порой удивляло, так как жилось ему очень неплохо. Все дамы его баловали, он питался и проводил время лучше многих в его положении. Но его лицо постоянно напоминало мне лица людей, перенесших какое-то тяжелое испытание – наподобие сарацинского плена (если наш крестовый поход и не увенчался успехом, то пленных-то нам освободить удалось) или нравственного потрясения – и стоящих одной ногой в могиле. Но в этот вечер все было иначе. Его юное лица было радостно-оживленным, золотистый иней светлых волос словно подтаял, глаза сверкали, и сияли белизной зубы, когда он открывал рот при пении. Он был похож на архангела – не на Михаила, потому что у того был суровый вид, как у всякого солдата, а скорее на Гавриила.
И я вспомнила, что несколько часов назад – правда, эти часы теперь казались мне долгими годами – у меня были основания для благодарности ему. Хотя в общей сумятице, наступившей после его ухода, я упустила это из виду. Он помешал Беренгарии выставить себя дурой. И сейчас я тоже была признательна ему, что музыка и пение должны были смягчить Ричарда, сделать его более благосклонным, чем сразу после разговора с Каутенсисом или посещения загона для мулов, а значит – более расположенным выслушать меня.
«Хорошо, что ты здесь», – с удовольствием думала я, глядя на затылок серебристо-золотой головы, склонившейся над лютней. Эта мысль тут же приняла сугубо практический оборот, и я уже спрашивала себя, кто его сюда прислал – Беренгария? Когда-то раньше Блондель уже был послан шпионить за границу – не шпионит ли он снова? Может быть, это не казалось бы мне таким иллюзорным, нереальным, если бы я видела его здесь раньше. В ушах у меня гудели слова: «Вперед! Вперед, за Гроб Господень!»
Я стояла, ожидая окончания песни и раздумывая над странным переплетением своих мыслей. И тогда случилось это.
Рука Ричарда, тонкая, загорелая, словно созданная для ласки, потянулась, почти коснулась серебристо-золотой головы, поколебалась, словно парила в воздухе, и упала, как, должно быть, не раз падала рука Евы, прежде чем ее пальцы сомкнулись вокруг такого притягательного яблока.
Я взглянула на лицо Ричарда и увидела, возможно, самое потрясающее, самое унизительное, что только может увидеть на лице любого мужчины женщина – не говоря уже о матери: неприкрытое, голодное, похотливое желание, обращенное к другому мужчине, безошибочно узнаваемое всеми и жутко знакомое мне, потому что еще девушкой я провела некоторое время в обществе моего дяди, Роберта Антиохийского, самого обаятельного и красивого мужчины своего времени, но известного любителя мальчиков.
За одну секунду можно передумать многое, и я подумала: как странно, что мне пришлось в этот вечер вспомнить еще и Роберта. Ведь, размышляя о тысяче своих неудач, я вспомнила и о том, как я, красивая и полная гордой женственности, стремилась очаровать его, пытаясь казаться остроумной и общительной, разумеется, не из ревности, а из духа соперничества с очередным его фаворитом. Людовик разозлился, обвинил меня в адюльтере – а могла ли я сказать, что Роберт едва меня замечал, потому что я вовсе не была смазливым пажом? Это была одна из той самой тысячи моих неудач, о которых я вспоминала перед тем, как остановить мула.
А теперь я увидела проявление того же порока у моего любимого сына. И поняла, что он унаследован им через мою кровь. Видит Бог, у Генриха и у ему подобных пороков было больше чем достаточно, но содомскому пороку они подвержены не были.
Весь ужас этого открытия и понимания происходящего сразил меня, подобно свинцовой пуле, пробившей грудь несчастного, приговоренного к суровому, жестокому наказанию. Я стояла на расстоянии вытянутой руки от Ричарда, настолько потрясенная и ошеломленная, что если бы он поднял глаза и посмотрел на меня, у меня не было бы сил заговорить с ним. Даже если бы в шатер ворвался разъяренный лев, я не смогла бы пошевельнуться, чтобы уступить ему дорогу.
Алис… И эти бесконечные отсрочки… Отсутствие всякого интереса к Беренгарии… Все сходилось.
Отсюда и нежелание этого проклятого мальчишки сопровождать Беренгарию в задуманном ею рискованном предприятии.
Мне хотелось сесть, за что-нибудь ухватиться, но дощатые столы на козлах и скамьи отодвинули, и вокруг меня было пусто. Мрак и пустота кружились вокруг меня и пронизывали насквозь. Я была одна в этой бесконечной ночи.
Но удары сыпятся на нас всю жизнь, а роковым становится лишь последний. От остальных мы, пошатываясь, приходим в себя и продолжаем жить дальше. Скоро рассудок мой снова пришел в действие, и я подумала: «Это случайное открытие никак не влияет на то, что я собиралась сказать, возвратившись с полпути. Англия по-прежнему стоит там, где стояла. А Ричард, каким бы он ни был, остается моим сыном».
На этой моей мысли песня оборвалась. Юноша прошелся пальцами по струнам лютни в победном финальном аккорде, вскочил на ноги и, повернувшись лицом к Ричарду, произнес:
– Сир, это было восхитительно!
В ушах у меня отдавались удары сердца, ноги подкашивались, но я заставила себя шагнуть вперед и сказать, прежде чем успел заговорить Ричард:
– Действительно, это было превосходно.
Оба были поражены. Юноша смутился и стоял с виноватым видом. Ричард удивился и встревожился. Он поднялся на ноги, точно повторяя свои движения, когда помогал мне взойти на помост. На этот раз, однако, вместо того, чтобы обнять, он впился в меня очень серьезным взглядом.
– Что-нибудь случилось?
– Ничего не случилось, – с удивлением услышала я собственный голос. – Просто по пути домой на меня снизошло озарение, как на Саула из Тарса по пути в Дамаск, и я вернулась, чтобы рассказать о том, что мне открылось.
– Значит, – живо заметил он, – вы счастливее того святого, потому что ему-то ничего не открылось. Если мне не изменяет память, он пролежал слепым две недели. Правильно, Блондель? Ты же у нас человек ученый. Бог мой, да не стой же ты с таким видом, словно только что залез кому-то в карман. Моя мать после темноты не заметит, что ты перешел границы. – Поспешность, с которой он помог юноше совладать с собой, казалась мне многозначительной. И если бы я была слепа, то сама интонация, с которой он произнес «Блондель», ясно сказала бы обо всем. Ни в чем так не проявляется любовь, ненависть и даже безразличие, как в том, как человек произносит чье-то имя.
– Мои мысли занимает пара пустяков, – иронически проговорила я, – и, возможно, я тоже перешла границы, выйдя из темноты.
Юноша бросил на меня взгляд, полный понимания.
– Я, пожалуй, отойду, сир… миледи…
– Хорошо, Блондель. Но завтра, если тебе удастся обойти сторожевых собак… У меня, может быть, будет немного времени после ужина.
Точно в таком же духе Роберт Антиохийский отпускал, назначая встречу, каждого очередного фаворита, обманывая при этом лишь самого себя, бедный дурень. Интересно, вернется ли Ричард в свое обычное состояние, проводив юношу взглядом до выхода? Но он тут же стал таким, как всегда.
Единственная разница была в том, что все фавориты Роберта отличались расчетливостью, наглостью, хитростью и дерзостью. Ничего похожего не было у Блонделя – ни кокетства, ни многозначительной улыбки, ни непристойной походки с виляющим задом. Он скрылся в темноте и вышел из шатра, как мог бы выйти молодой оруженосец. Однако я помнила из разговора с Санчо, что этот юноша умеет хранить тайны.
Я тяжело опустилась на край кровати Ричарда, и он, повернувшись, озабоченно склонился надо мной.
– Мама, у тебя очень усталый вид. Тебе не следовало возвращаться. Почему ты не дождалась утра?
Я поймала себя на сожалении о том, что Бог не помешал мне вернуться. Сын стоял, склонившись ко мне, с выражением нежной тревоги на лице, красивый, мужественный, и мне всем сердцем захотелось повернуть время вспять, тогда я не вернулась бы сюда и избежала муки этого ужасного знания. Я непроизвольно проговорила:
– О, Ричард, дорогой мой мальчик…
– Мама, что с тобой? Что тебя мучает?
С давних времен Мертвое море колышет над Содомом свои воды, в которых не размножается рыба, не растут водоросли – это символ самого бесплодия. Мои мысли занимает зеленая, плодородная Англия. Я не допущу, чтобы меня провели.
– Ричард, – заговорила я, – по дороге домой я думала о Лонгшаме и Иоанне и твоем плане направить туда Каутенсиса для улаживания всех дел. Я знаю, что ты рассердишься, и в то же время понимаю, что никто – и меньше всех ты – не порадовался бы, если бы ему сказали, что это должна сделать женщина. Уезжая из Винчестера, я поклялась, что никогда не буду докучать тебе ни возражениями, ни советами. Но я должна. Я увидела это необычайно ясно, на меня действительно снизошло озарение, и я вернулась, чтобы сказать тебе: Каутенсис не тот человек, которого следует туда послать… – Я поколебалась, потому что он пристально смотрел на меня с той самой истовой сосредоточенностью, которая привела в замешательство лучника, а также по той, в высшей степени смешной причине, что я даже не сформулировала свое предложение. Сказать: «Каутенсис не тот человек. Такой человек – я», – бессмысленно. Он лишь посмеется и превратит все в шутку. Надо сказать «лицо»…
Пока я маялась, заговорил Ричард:
– Я тоже думал об этом. Я поговорил с Каутенсисом, он согласен поехать, но сомневается в успехе. И пока он что-то бессвязно бормотал, запинаясь, я подумал, – он подошел к столу и взял запечатанный конверт. – Пока писари трудятся над письмами Джеффри и Лонгшаму, я написал вот это и собирался отправить тебе с этим юношей. Но ты здесь, так прочти его и подумай над ним. Звучит довольно смешно… – Он сломал печать и вручил мне развернутый листок. – А! Парень забыл свою лютню. То-то, должно быть, расстроился! – Он взял лютню и, пока я читала, одним пальцем наигрывал мелодию песни, которую они только что вместе пели.
Я проглядела письмо, уяснив его суть, и подумала: мой сын вовсе не глуп и не так безразличен к положению в Англии, как могло бы показаться.
– Перестань бренчать, Ричард, – громко сказала я. – И скажи мне, что смешного в этом предложении?
– Я не хотел тебя обидеть, мама, – поспешил он успокоить меня, отодвинув лютню так энергично, что струны ее зазвенели. – Но после того, как вы сказали, что Каутенсис слишком стар и надо послать крепкого мужчину, солдата, слова «Поезжай ты» звучат несколько…
– Потрясающе! Но именно с таким же предложением я к тебе и вернулась.
Ричард расхохотался, а через секунду к нему присоединилась и я. Я почувствовала большое облегчение, так как спорить и убеждать его больше не было необходимости – ведь он сам предложил ехать мне. Мое положение стало намного более определенным.
Мы вместе посмеялись тому, что нас одновременно посетила такая идея, прикинув время, когда об этом подумал каждый из нас.
Потом мне пришла в голову другая мысль.
– Я, однако, заключаю сделку, Ричард. Ничего даром, и за всякую мелочь монета – таков мой девиз.
Надо поддерживать его хорошее настроение как можно дольше. И потом – брак еще может его спасти. Брак налагает определенные обязательства, ограничивает и во времени, и в возможностях. Только очень испорченный человек – а он, разумеется, не такой, ведь это только начало… О, Боже, сделай так, чтобы он мог избавиться от своего порока! Я слышала, что такое случается с мужчинами, живущими почти исключительно в обществе себе подобных – среди солдат, матросов, путешественников в многолетних походах. Так не подобранная виноградная лоза обвивает другую, такую же, властно и всепоглощающе. Беренгария красива, она страстно влюблена в Ричарда и сможет спасти его.
Но в этот момент – какая каша бывает в голове у человека! – мне вспомнилось, как дядя Роберт отвернулся от целой труппы хорошеньких арабских танцовщиц ради ласк отвратительного маленького, косоглазого пажа. Однако Роберт тогда был не женат, в солидных летах, и привычки его более устоялись…
– И какова же твоя цена, мама? – спросил Ричард.
– Я хочу, чтобы ты женился до моего отъезда.
– У меня нет времени. Я хочу, чтобы вы уехали вместе с Элвайном.
– Когда?
– Послезавтра.
– Значит, времени вполне достаточно. Беренгарии не нужна пышная свадьба. У нее уже готово платье. Если я, вернувшись, сегодня же скажу ей, что в связи с моим отъездом в Англию свадьба состоится завтра, она будет на седьмом небе от счастья. Ты, Ричард, не имеешь ни малейшего понятия о том, как обожает тебя эта девушка, как она красива. И кроме того, я хотела бы покончить с одним делом, прежде чем приступить к другому. Я решила привести к тебе твою невесту и лично убедиться в том, что ты уляжешься с нею в постель. Доставь мне такое удовольствие. Тебе придется предупредить епископов и архиепископов, а я велю Беренгарии погладить свадебное платье.
– Я сделал бы это из благодарности к тебе, несмотря ни на что, но меня удивляет то, что ты забыла об одном обстоятельстве. Великий пост, мама, в пятницу начался Великий пост.
Спустя месяц, когда Ричард был потерян для мира и заточен в какую-то безымянную тюрьму и через много лет, когда он умер, недосягаемый ни для похвалы, ни для обвинений, ни для иронии, я радовалась тому, что тогда сумела сдержаться. Я могла бы смешать его с грязью. Как будто Великий пост имел для него значение! Как будто он не знал, что любой живущий на острове священник – английский, французский, сицилийский – мог совершить эту церемонию, твердо зная, что разрешение будет получено. Подумать только – Ричард Плантагенет использовал Великий пост в качестве предлога!








