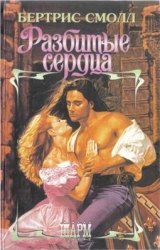
Текст книги "Разбитые сердца"
Автор книги: Бертрис Смолл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
14
Во многом против воли Ричарда, мы направились из Яффы не прямо на Иерусалим, а в обход, через Аскалон.
Вся история крестового похода – это история взаимоотношений Ричарда с его союзниками, в значительной степени состоявших из ссор и ревности. Поэтому в данном случае он, надо признать, предпринял такой шаг исключительно для того, чтобы не вызывать конфликта. Сам же он хотел идти прямо на Иерусалим и после битвы за Яффу был готов к этому. Они же хотели взять Аскалон и, укрепив его, обеспечить защиту с северного фланга. Я так часто бывал в его шатре, тренируясь в письме левой рукой или делая по его просьбе ту или иную запись, что знал обо всем не меньше, чем все, за исключением участников споров, но должен признаться, что мотивы Леопольда Австрийского и Гуго Бургундского, великих магистров тамплиеров и госпитальеров, от меня ускользнули, если не говорить о предположениях, что они пытались оттянуть взятие Иерусалима. Почему надо было брать и укреплять Аскалон, а не Газу, я так и не понял, как, впрочем, и Ричард. Но они настаивали – четверо против одного, – и он согласился. (Конраду Монферра понадобилось обязательно вернуться в Тир после Арсуфской битвы. В этом городе завязалась гражданская – или лучше сказать, междоусобная? – война, и после того, как Акра стала связующим звеном между крестоносцами и западом, этого нельзя было игнорировать. Я присутствовал при прощании с ним Ричарда, при котором не было и намека на какую-то неприязнь с обеих сторон, и часто во время последующих дискуссий и споров было очень жаль – по крайней мере, мне, – что маркиз не остался с нами. Его ровный голос, хорошее настроение, веселая беспечность могли бы смягчить многие трения. Но он уехал, и, по словам Ричарда, все четверо остальных были против одного.)
Итак, мы шли в Аскалон. Перед самым нашим приходом сарацины оставили город, но разрушили его. Бедные глинобитные дома остались целыми, но стены и башни превратились в груды камней. В городе не было ни зернышка кукурузы, ни ковра, ни одеяла, которые могли бы нам очень пригодиться, – и ни одной живой души. Солдаты, надеявшиеся на добычу и изголодавшиеся по женщинам, впали в жестокое разочарование, и Ричарду впору было сказать: «И этот город, по-вашему, угрожал нашему северному флангу!»
Но он не сказал ничего. Он решил превратить Аскалон – как мечтали его союзники – в сильную христианскую крепость. Мы расположились лагерем среди развалин, и ежедневно небольшие группы всадников отправлялись в рейды по окрестностям с поручением реквизировать лошадей, ослов, зерно, сухие фрукты – все, что могло нам пригодиться, а остальная часть армия, даже кузнецы-оружейники, повара и кладовщики, были поставлены на работу по возведению стен, правда более низких, чем были, и четырех башен.
Ричард, чей характер и таланты склоняли его присоединиться к рейдовым группам, вместо этого, отправляя их по утрам на очередную вылазку, принимался за работу, орудуя киркой и лопатой. Многие рыцари и люди благородного происхождения следовали его примеру, превращая работу в объект шуток: они смеялись, сравнивая мозоли на своих ладонях и ощупывая крепнувшие мускулы. Однако предвзятое мнение воина в отношении физического труда в один день не преодолеть, и хотя то, что Ричард собственноручно копал землю и таскал кирпичи, вдохновляло тех, кто любил его, доверял ему или даже невольно восхищался им, у других вызывало неприязнь и презрение. Австрийские рыцари, например, держались отчужденно и порой, проходя мимо, бросали издевательские реплики. В конце концов Ричард издал приказ, согласно которому всем трудоспособным надлежало включиться в работу. На кладке стен народу прибавилось, но австрийцы не унимались. «Мы следуем примеру эрцгерцога: он на войну – и мы за ним, он домой – и мы тоже», – говорили они и нехотя брались за лопату.
Мы вполне могли бы обойтись на стройке и без них, но их поведение влияло на остальных. Почему какой-нибудь французский или бургундский рыцарь должен натирать мозоли, возводя крепость, которая будет защищать и бездельников австрийцев, и трудолюбивых франков? И этот вопрос, однажды возникнув, распространился во всех направлениях. Почему лучники должны откладывать луки, а оружейники – арбалеты и баллисты, если некоторые рыцари продолжали пользоваться своими привилегиями?
Однажды вечером Ричард, вернувшись с работы усталый, грязный, в пропитанной потом одежде, сказал:
– Если бы Леопольд пришел хоть на час и уложил бы один кирпич в стену, его люди тут же последовали бы его примеру и положение сразу улучшилось бы. Сегодня Гуго Бургундский отозвал своих людей со стройки, и я с трудом удержал своих! Да, австрийцы всегда охотно отправляются в рейды, но и другие не прочь заняться этим же. А почему бы и нет?
Он вымыл руки и сполоснул лицо.
– Блондель, у меня есть чистая рубаха? Пойду с официальным визитом к эрцгерцогу австрийскому. Видит Бог, даже сделаю ему подарок. Где у нас ятаган от того эмира в Яффе?
Этот ятаган был единственным свидетельством его многочисленных побед в той битве – длинный изогнутый клинок, на лету рассекающий птичье перо. Он был сделан из крепчайшей дамасской стали, с рукояткой тончайшей работы из кубистанского золота. Однако эта красота не производила на Ричарда большого впечатления, ятаган лишь напоминал ему о том, как он получил этот трофей. Подкрепившись во время перерыва в яффском сражении, Ричард снова схватился с эмиром, и они сражались целый час – оса с быком.
К концу схватки они, оба опытные бойцы, использовали все свои приемы и хитрости, и стало ясно, что победу кому-то из двоих может обеспечить только чистое везение. Ричарду, в тяжелых доспехах, с могучей правой рукой и острым глазом, удавалось избегать сверкавшего на солнце ятагана, эмир же, легкий и подвижный, ловко уклонялся и от ударов, и от сквозного ранения. Поединок был необыкновенно красивым, если можно так сказать о схватке двух рыцарей. Воины обеих сторон, забыв об опасности, смотрели на них, словно зрители на турнире.
В самом конце эмир сделал последний разворот и прокричал на своей плохой латыни: «Мы обменялись множеством ударов, которые при иных обстоятельствах могли бы решить исход схватки. К тому же ваша лошадь ранена. Мы еще встретимся».
Только тогда Ричард заметил, что причина вялости Флейвела не в усталости. Он неловко спешился в тяжелых доспехах, чтобы понять, в чем дело, а эмир отъехал, поигрывая ятаганом, а затем внезапно поднял руку и метнул его в сторону Ричарда. Описав в воздухе сверкнувшую блеском стали дугу, ятаган вонзился в землю у его ног. Что это было? Случай? Жест? Никто этого так и не понял.
Ричард дорожил ятаганом, постоянно пользовался им, со знанием дела оценивая достоинства и недостатки боевого оружия. Он взял его в руки, подышал на кривое лезвие, протер рукавом и отправился с этим подарком к Леопольду Австрийскому. Отсутствовал он очень недолго, а когда вернулся, я едва узнал его. Лицо Ричарда было мертвенно-бледным, а выпуклые голубые глаза были готовы разразиться потоком слез.
В шатре находились Рэйф Клермонский и Хьюберт Уолтер, пришедшие как раз перед возвращением своего господина. Ричард вошел в шатер и, усевшись на край кровати, закрыл лицо руками.
– Я ударил его, – проговорил он. – Разевайте пошире рты! Я ударил эрцгерцога Австрийского, как последнего крепостного!
Широкое красное лицо Хьюберта Уолтера слегка побледнело, и в тишине, последовавшей за этими словами, было слышно, как резко втянул в себя воздух Рэйф Клермонский. Никто не решился сразу прервать молчание. Уолтер колебался, размышляя, и я понял, что любое проявление смятения пойдет ему не на пользу и будет выглядеть неуместно. Наконец он с деланной легкостью спросил:
– Всего одна пощечина, сир? Он, разумеется, заслуживает большего!
– Он уезжает завтра, – не поднимая головы, проговорил Ричард. – Со всеми своими людьми.
Хьюберт Уолтер как-то слишком резко опустился на табурет, широко разведя колени, и положил на них натертые до волдырей руки.
– Милорд, – заговорил он, и слова его прозвучали одновременно недоверчиво и рассудительно, как будто сам Ричард допустил что-то непозволительное. – Не хотите ли вы сказать, что теперь, когда до Иерусалима уже рукой подать, он отправится домой из-за одного удара, нанесенного в порыве гнева?
Ричард поднял измученное лицо.
– Нет, Уолтер. Удар – всего лишь предлог, а вовсе не причина. Последний поворот блока, после которого камень падает. Он отправляется домой потому, что у него много раненых – как вы знаете, пострадавших в бою. Кроме того, у них малярия, язвы и поносы. И потому, что давно уехал Филипп Французский, и потому, что не вернулся из поездки по делам в Тир Конрад де Монферра. Кроме того, он уезжает из-за недостатка продовольствия и воды. Все это происходит, Уолтер, потому, что я не способен руководить армией. Мне больше никто не доверяет. Я безумен. У меня даже нет лошади. Я работаю руками, как раб. Разве после этого кто-то может мне доверять? О, все рассыпается! У него тысяча причин, и он выложил мне их все, до последней. И в высшей степени благородно простил меня. Он сказал, что пощечина сама по себе является свидетельством того, что я переутомился и не владею собой. – Эти последние слова Ричард проговорил с иронией, но его могучие плечи затряслись. Он поднял руки и отбросил назад волосы движением если не растерянным, то близким к тому. – Я что, схожу с ума? Уолтер, Рэйф, Блондель? Вы всегда со мной и должны знать! Я переутомился, не помню себя и не в состоянии командовать армией?
– Сир, – возразил Уолтер, – выйдите из палатки и спросите любого из ваших английских лучников! А я простой человек, священник, и могу лишь сказать, что за таким командующим, как вы, я пошел бы до врат ада и дальше! Потому что вы, даже потеряв лошадь, рветесь вперед, потому что из-за нехватки рабочей силы вы сами работаете как раб ради освобождения священных городов. И, милорд, Всемогущий Бог смотрит на вас так же, как я.
Хьюберт Уолтер, епископ Солсберийский, был человеком спокойного нрава, большой духовной цельности и сдержан на язык. В его устах такая пылкая речь была для Ричарда большой честью.
Почти извиняющимся тоном Ричард произнес:
– Он ведь меня спровоцировал. Я пришел и вежливо – клянусь святым крестом, очень вежливо, – сказал ему, что ему было бы очень неплохо принять участие в работе вместе с его изнеженными рыцарями и таким образом погасить недовольство бургундцев. И знаете, что он мне ответил? С ухмылкой заявил: «Мой отец не каменщик и не плотник». Как будто мой из них! Как и ваш, и отцы альженейцев, всех настоящих людей, работающих до пота. Прежде чем я успел подумать или хотя бы подавить гнев, моя рука поднялась, и я его ударил. – Ричард поднял правую руку, взглянул на нее, уронил ее вместе с левой между коленей, и они повисли, странно неуклюжие, беспомощные и жалкие. – Я не всегда нахожу нужные слова, – продолжал он. – Можно было сказать много резких, суровых слов, и они подействовали бы лучше любой пощечины. Но я в этом не силен. Леопольд и Филипп всегда посмеивались надо мной, доставляя мне много неприятных минут. Сегодня я ответил – какой неуклюжий ответ! – единственным возможным для меня способом, и завтра эрцгерцог отправится домой под самым наилучшим из всех предлогов.
– Завтра он может изменить решение, – заметил Хьюберт Уолтер, однако без уверенности в голосе.
– Это не было решением. Он просто ухватился за предлог. В конечном счете люди делают то, что им хочется. Филипп решил уехать домой под предлогом болезни. Конрад тоже хотел уехать, но дела призвали его в Тир, и он оттуда, заметьте, не вернулся. Леопольд давно уехал бы, но у него не было предлога, приемлемого для христианского мира. И он его получил. И уедет.
– Когда христианский мир узнает правду, милорд…
– Каким образом он ее узнает? – прервал его Ричард. – Как это может понять человек, сидящий дома? Леопольд вернется и скажет, что он не может иметь в союзниках сумасшедшего, который требует, чтобы благородные люди копали землю и таскали камни, и бьет по лицу тех, кто протестует против этого. Весь христианский мир, до последнего человека, встанет на его сторону.
Меня уже не в первый раз поразила осведомленность Ричарда Плантагенета о христианском мире, заставлявшая его страдать. Менее всего склонный к фантазиям и, разумеется, самый самокритичный из всех, он всегда чувствовал постоянное придирчивое внимание к себе огромной смутной массы общественного мнения, проявлявшегося в осуждении, похвале или упреках. Такой изъян в его практически непробиваемой самоуверенности всегда вызывал во мне интерес. В этом содержался намек на ощущаемую каждым человеком потребность в некотором стандарте суждений, доминирующих над его собственными. Мы говорим о смелом человеке: «Он не боится ни Бога, ни человека». Применительно к Ричарду это было именно так, но он боялся недоброжелательности общественного мнения христианского мира, состоящего из массы людей, каждого из которых в отдельности он ни в грош не ставил. Я встречался с несколькими подобными людьми, назначавшими себе собственных арбитров, – крепкими, энергичными мужчинами, живущими в сфере суждений какой-нибудь женщины – жены, матери, любовницы – не просто любя ее, но уважая ее мнение и боясь ее порицания. И я думаю, что это ярмо тяжелее, чем у тех, кто полагается на Бога или на святую церковь с их ясно очерченными правилами поведения и заранее известными суждениями.
Однако, когда Ричард говорил: «Христианство до последнего человека встанет на его сторону», он почти не преувеличивал. Леопольд уехал, выразив причину отъезда почти словами Ричарда. А объяснительное письмо Папе – я видел его копию – воспринимается как письмо человека, которому удалось вырваться из Гадары, где правил самый сумасшедший из всех безумцев.
Ричард снова закрыл лицо руками, а Хьюберт Уолтер молча смотрел на него, пытаясь найти слова утешения. Я мог бы шепнуть ему на ухо такие слова или даже сказать их вслух, но чувствовал, что будет лучше, если они прозвучат из уст рыцаря, воина. И их сказал Рэйф Клермонский.
– Милорд, когда вы возьмете Иерусалим, христианскому миру не останется ничего другого, как с презрением отвернуться от тех, кто бежал домой.
Я не выразил бы эту мысль лучше, как и никто другой. Он упомянул в одной фразе две вещи, действительно имевшие значение для Ричарда: «когда», а не «если» в отношении Иерусалима и благоприятный вердикт христианского мира. И Ричард, разумеется, воспрянул, поднял голову и расправил плечи, но впервые им не овладел былой пламенный энтузиазм.
– Я рассчитывал на австрийцев, – мрачно проговорил он. – Под Яффой они пострадали меньше нас и потеряли меньше лошадей. И они здоровее остальных… – Нахмурившись, он пристально посмотрел на Хьюберта Уолтера. – Мне кажется, Уолтер, что колбасы, которые они едят и постоянно носят с собой, гораздо более здоровая пища, чем наша солонина. У них меньше язв, – это заметил и Эссель, – а поскольку в остальном они находились в тех же условиях, что и мы, вплоть до того, что пили ту же воду, то я думаю, что все дело в колбасе. Вы не замечали этого, Уолтер?.. Как-то я купил у австрийского пехотинца одну колбасу за золотую монету, она лежит где-то среди моего снаряжения. – Ричард встал, медленнее, чем всегда, и как-то неуклюже подошел к сваленным в угол вещам.
– Я знаю, я видел ее, – вмешался я.
Он благодарно посмотрел на меня и снова сел. Я вытащил из-под доспехов жирную, красноватую колбасу, длиной с руку от локтя до кончиков пальцев и толщиной как самая толстая часть предплечья. Твердая как древесина, в прочной оболочке, колбаса эта путешествовала в мешке с одеждой и обувью с тех самых пор, как Ричард купил ее в Арсуфе, и все еще сохраняла первоначальный вид. Даже ее конец, от которого он еще тогда отрезал кусок, чтобы попробовать, не загнил и не заплесневел.
– Взгляните, сказал Ричард, – совершенно не поддается порче. Сравните с ней нашу солонину и говядину. Мы покрывали бочки влажными мешками, чтобы они не коробились, но это не помогло, и мясо загнило. Люди Леопольда несут с собой связку таких колбас в ранцах или везут в седельных сумках, отрезают мечами куски, едят – и никаких язв! Как такое может быть?
– Откуда мне знать? Я не доктор, – ответил Уолтер.
Весь этот разговор о еде напомнил мне о том, что я с утра ничего не ел. Взяв нож, я отрезал четыре куска и роздал всем. Колбаса была очень твердая, как старая солонина, необыкновенно аппетитно пахла и, безусловно, была превосходной питательной пищей в походных условиях.
– Я предпочитаю говядину, пусть и подпорченную, – упрямо проговорил Хьюберт Уолтер. – У говядины тоже много достоинств. В Кенте по количеству и качеству говядины судят о том, хорош рацион или плох. А я не видел лучших бойцов, чем жители Кента!
Послышался ехидный смешок Рэйфа Клермонского.
– Ох уж эти англичане! Помню одного из ваших, непревзойденного лучника Мартина. Его взяли в плен вскоре после меня. Фамийский эмир сделал его своим рабом, и однажды он спас своему хозяину жизнь. Эмир ехал на лошади, Мартин со снаряжением, задыхаясь, бежал рядом, но когда горный лев прыгнул на круп лошади и вцепился в спину эмиру, он все бросил и пустил меткую стрелу. Эмир – что вполне понятно – на радостях пообещал Мартину должность управляющего и устроил пир. Во время трапезы он встал и подал своему спасителю отборный кусок из своей миски. Как вы думаете, сир, что это было? Овечий глаз, считающийся у них самым большим лакомством! Мартин, крепкий, рослый парень, при виде такого угощения побледнел, нацепил глаз на кончик ножа и бросил собакам. Эмир был глубоко оскорблен, а Мартин не получил должности управляющего и заработал вместо этого порку!
– Бедняга, – заметил Уолтер. – Я ему сочувствую.
Ричард, слушавший Рэйфа не сводя с него глаз, никак не отреагировал на этот рассказ, но резко сменил тему разговора.
– Блондель, отыщи Эсселя. Вот тебе мой кошелек – отдай ему. Он лечил всех подряд, и у него хорошие отношения с австрийцами. Пусть он пойдет к их маркитантам и скупит все эти… – Он указал пальцем на колбасу. Австрийцы едут домой, и настроение у них самое беспечное. Если они продадут ему слишком много и подохнут с голоду, не добравшись до корабля в Акре, – тем лучше. А вы, милорд Солсберийский, ступайте к своим воинам-кентцам, отберите тридцать – сорок толковых, достойных доверия парней и отправьте их к австрийцам. Пускай, когда те станут упаковывать свои пожитки, купят или выпросят у них колбасу. Вы, Рэйф, займитесь христианскими пленными – пусть они сделают то же самое. Раз мы не можем взять в поход на Иерусалим австрийцев, возьмем, по крайней мере, их колбасу, и если она спасет наших рыцарей хоть от одной язвы, это будет вкладом австрийцев в наш крестовый поход!
Ричард произнес эти слова с вызывающей иронией, но взгляд его выпуклых глаз был очень усталым, и морщины еще глубже прорезали лицо. Я с острой болью вспомнил, как в первый раз услышал от него слово «Иерусалим» – воплощение страстности и красоты его собственной песни «Иерусалим, ты стоишь на зеленом холме». Теперь лишенное иллюзий стремление завладеть австрийской колбасой казалось далеким отголоском былого пылкого энтузиазма.
Получив столь странное, почти мародерское поручение, мы втроем направились к выходу, но тут в шатер ворвался один из часовых с восхищенным криком, попиравшим всякую субординацию:
– Сеньор, милорд, этот старик неверный прислал нам лошадь!
Хьюберт Уолтер, сторонник строгой дисциплины, жестко проговорил:
– Так к королю не врываются. Перед тем как тебя снова назначат в караул, я преподам тебе урок хороших манер!
Часовой, хорошо знавший педагогические приемы Уолтера, чуть побледнел и что-то забормотал, заикаясь. Из дальнего конца шатра послышался голос Ричарда:
– Оставьте, милорд. Парень взволнован, и если он не врет, меня это взволнует не меньше. Так ты говоришь, лошадь, приятель?
– Лошадь, милорд король, великолепная лошадь.
Ричард направился к выходу. Ни от какой физической усталости шаги его не стали бы такими тяжелыми и медленными, но выражение его лица уже изменилось. Морщины смягчились, в глазах засветился интерес. Мы посторонились, чтобы дать ему пройти, и вышли следом за ним.
Площадка перед шатром была освещена факелами, и в их свете мы увидели замечательную лошадь чалой масти, с длинными, чуть более темными, гривой и хвостом. Ее узкая голова, изящное сложение, настороженный, но вовсе не нервный взгляд свидетельствовали о принадлежности к лучшей арабской породе. Под седлом лежал тканый ковер, шелковистый и мягкий, как бархат, а седло, уздечка и повод были из ярко-красной кожи с серебряным набором, игравшим в свете факелов, как и подковы лошади, наполированные до блеска стали. Лошадь держал за уздечку едва дотягивавшийся до нее ребенок, а может быть, карлик со смуглым лицом обезьянки. Его фантастическое одеяние состояло из длинных мешковатых штанов ярко-оранжевого цвета, короткой голубой куртки и желтого тюрбана, из которого торчало длинное павлинье перо.
Увидев Ричарда, он проговорил: «Мелек-Рик?» и вытащил из-за пояса письмо.
– Здесь может быть какая-нибудь хитрость, – поспешно сказал Хьюберт Уолтер и шагнул вперед, чтобы взять письмо.
Большинство крестоносцев были уверены в том, что сарацины опытные и изощренные отравители. Даже знавшие толк в опиуме были склонны относить приятное действие наркотика на счет примесей, добавлявшихся бродячими торговцами.
Маленькое смуглое существо спрятало письмо обратно и повторило: «Мелек-Рик?»
– Это я, – сказал Ричард и протянул руку за письмом. – Полно, милорд, разве стал бы кто-нибудь отравлять письмо, когда есть целое седло?
Он разорвал запечатанную нитку, которой было обвязано письмо, и расправил листок.
– Написано по-арабски, милорд? – спросил Рэйф Клермонский.
– Посмотрите, – сказал Ричард, передавая ему письмо, а сам сделал несколько шагов вперед и положил ладонь на гладкую, атласную шею лошади. Она повернула голову и посмотрела на Ричарда. По лоснящемуся туловищу прошла мелкая дрожь, но лошадь не двинулась с места.
– Я ничего здесь не понимаю, – объявил озадаченный Рэйф. – Милорд Солсберийский, может быть, вы?..
Хьюберт Уолтер взял письмо и бросил на него сердитый взгляд.
– Это, должно быть, латынь, – с подозрением проговорил он, – но не та латынь, которую я знаю.
– Теперь пусть Блондель нанесет свой удар, – сказал Ричард, повернувшись к нам спиной и не отнимая руки от шеи лошади.
Уолтер, ворча, передал письмо мне, и пару секунд я тупо смотрел на диковато выглядевшие черные строчки скорописи. Как однажды сказал Конрад де Монферра? «Написано чем-то наподобие дегтя, с помощью инструмента вроде козьей ножки». Характеристика не могла быть более точной. Но он добавил: «К тому же на терпимой латыни». И это вполне подходило. Письмо было написано сарацинским писцом под диктовку человека, владевшего латинским языком, но, на мой взгляд, хуже корреспондента маркиза. Я вспомнил о Горбалзе и о трубочке брата Симплона! Но почерк был разборчивым, хотя письмо не блистало ни каллиграфией, ни грамматикой. Почувствовав некоторую гордость от того, что разобрался, я громко перевел:
– «Мой добрый друг и предопределенный враг, до моих ушей дошел слух, что вы ходите пешком. Я хочу, чтобы вы были верхом на лошади, когда под Иерусалимом состоится наша смертельная схватка. Поэтому примите с добрым сердцем эту лошадь, не очень тяжелую, но лучшую, какую удалось достать, быструю и кроткую.
Салах-ад-Дин».
– Мой Бог, Иисус Христос, Аллах и Магомет, да будьте благорасположены к нему за это, – серьезно проговорил Ричард.
– Не забудьте, сир, о том, что сами сказали насчет седла, – мрачно напомнил Уолтер.
– А вы не забудьте о том, о чем я так часто говорил с полной уверенностью, Уолтер. Мне ничто не страшно, пока я не возьму Иерусалим.
На этот раз его слова прозвучали с прежней ликующей уверенностью в себе. Он легко вложил ногу в стремя и взлетел в красное седло. Маленький смуглый человечек быстро отскочил в сторону, красивая лошадь продолжала стоять, готовая подчиниться первому же прикосновению всадника. Прежде чем тронуть лошадь вперед, Ричард повернулся к нам:
– Небесное знамение, – сказал он. – Такой враг заслуживает наилучшей схватки, на которую я способен. Я поеду к эрцгерцогу, извинюсь перед ним – если понадобится, на коленях – и попрошу его переменить свое решение. Ждите здесь моего возвращения.
Ни в одном описании этой знаменитой ссоры я не смог найти ни единого упоминания об этом. Леопольд отрицал, что такое когда-либо было. По его словам, Ричард ударил его и величественно удалился. Но епископ Солсберийский, рыцарь Рэйф Клермонский и я, Блондель, лютнист, знаем, что Ричард поехал, чтобы принести свои извинения, и вернулся со словами: «Я выполнил свою миссию. Я предложил ему ехать в фургоне и первым поднять свой штандарт в Иерусалиме. Но он был непреклонен. И будет лучше, чтобы те, кто остается, об этом не узнали. Давайте воспринимать их отъезд с легким сердцем, как нечто незначительное. А теперь вы, все трое, отправляйтесь за колбасой.
Несмотря на неудачу, король был бодр, решителен и тверд и, судя по всему, чувствовал, что совесть у него чиста. Мне случалось порой задаваться вопросом, думал ли он, как я, о том, что обещание об установке штандартов в Иерусалиме могло лишь напомнить Леопольду о подрыве его репутации в Акре. Эти соображения запоздали на месяцы. А обрывки сплетни, услышанные мною от французского арфиста, продавшего мне в тот вечер шесть колбас, который находился в шатре Леопольда или где-то рядом, когда туда пришел Ричард, проливали достаточный свет на происшедшее.
– Вы сегодня верхом на лошади, – отметил Леопольд и больше об этом не говорил. Но позднее, когда Ричард, отвергнутый и не нашедший взаимопонимания, уехал, эрцгерцог сказал Гуго Бургундскому: – Берегите себя, милорд герцог. Я оставляю вас с человеком, любящим своих врагов больше, чем друзей. И когда придет время заключать договор с врагом, пострадают именно друзья Ричарда Плантагенета.
Никто не может сказать, насколько эта капля яда, пущенная в ухо герцога Бургундского, повлияла на его будущие действия. Я же имею на сей счет собственное мнение.








