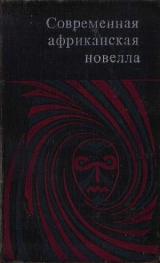
Текст книги "Современная африканская новелла"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
– Растолкуй этой суке, что ее наказал бог. Не надо было убегать в лес и оставлять хозяйскую дочку без молока! Вот она – кара божья!
Их нашли через неделю после побега. Фортунато с большим отрядом вооруженных людей бросился вслед за ними по лесным дорогам, уж он-то знал эту дорогу как свои пять пальцев. Вернее всего, они бросились в свою деревню, рассудил он, – ведь там был потерянный рай, который они искали.
Да, именно там!
В неволе, бесконечно длинной ночью, Накалула мечтала о своем муже, о своей хижине, о своем возделанном поле. Оно уже цветет… Она сама обработала его новой деревянной мотыгой, полученной в подарок на свадьбу.
Большая белая луна в бездонном черном небе, усыпанном звездами, была похожа на круглую корзину, полную маисовых зерен, которые сыпались на землю, на двор, на красные сальвии в расписных кадках, на изболевшуюся душу Накалулы. Невыносимая тоска охватила ее ночью. Как хорошо теперь на дальних лесных дорогах, каким благоуханием полны ночные джунгли!
Она решила бежать. Она вернется в свою хижину, к своему мужу, к своему полю. Камуэнэ пойдет вместе с ней. Камбута обещал им помочь, хотя это было не так-то легко: на ночь хозяин прятал ключи от ворот в свою конторку. И вдруг дорога сама открылась перед ними – ливень размыл стену.
Молча, понурив голову, прошли трое беглецов через распахнутые ворота. Им досталось уже в дороге, но самая страшная расправа – выламывание пальцев рук – ждала их тут, на черном дворе Дуарте.
Вид Накалулы поразил дону Ауту. Своего черного сына она несла перед собой на вытянутых руках и исступленно кричала. Она бесстрашно подошла к веранде и протянула доне Ауте и всем им своего ребенка.
– Что случилось? – спросила дона Аута.
Тело Мурикэ безжизненно поникло, глаза закатились. Мальчик пылал в лихорадке.
– Что случилось? – снова спросила дона Аута и даже взяла ребенка на руки.
– Наверно, солнечный удар, – решил Фортунато, – эти дураки бросились напрямик по саванне. Солнце напекло ему голову… Я нашел их на полпути… Они там лечили его…
Дона Аута не позволила бить Накалулу. Она и так наказана.
Позвали доктора Балземана. Он поморщился, осмотрев маленького нгангелу.
– Очень тяжелый случай, – сказал он, – ничего нельзя сделать…
Дуарте пытался освободиться от бросившейся к нему в слезах доны Ауты.
– Не бей ее, она не виновата!
– Чепуха! Надо быть идиотом, чтобы нянчиться с этими черными! – Он резко оттолкнул жену и зло продолжал: – А если наша дочь умрет, кто будет виноват?.. Идиотская щепетильность…
– Дуарте!
Девочка плакала в колыбели. Дона Аута подошла к алтарю и зажгла еще одну свечку перед ликом скорбящей божьей матери. Может быть, она сумеет пролить целительный бальзам на ее израненную душу…
На всех пяти дворах африканцы обсуждали происходящее. Девочка умирает. Умирает от голода. Знахарь белых сказал, что спасти ее может только грудное молоко, а у сеньоры молока нет. И сквозь безмолвие тяжелой душной ночи, лишь изредка нарушаемое далеким воем шакалов и зловещим хохотом гиены, доносился до них жалобный, едва слышный плач девочки, будто слабый запах умирающего растения, чьи корни иссохли без живительной влаги.
Вот уже три дня, как опустели руки Накалулы. Болела ее переполненная молоком грудь – и нестерпимо болела душа, в которой смерть сына оставила страшную пустоту.
Такой страшной пустоты не ощущала она даже тогда, когда ее оторвали от мужа, от дома, от всего, что было ей дорого и что осталось, как счастливый сон, как несбыточная мечта, там, далеко, за бескрайними саваннами, в зеленом сердце лесов.
Пустота.
В безмолвии ночи раздавался плач девочки. Руки Накалулы были пусты, грудь переполнена молоком, а сердце изнывало от тоски.
Она пересекла двор, поднялась на веранду – и вот высокая стройная женщина из народа нгангела ступила на порог двери в комнату малютки. Еще в саванне Накалула сбросила свой нарядный костюм кормилицы, и на ней была лишь набедренная повязка.
Накалула твердыми шагами подошла к колыбели и нагнулась. Желтым блеском сверкнули металлические пластинки ее ожерелья. Она подняла девочку, схватив за руку, так же как делала со своим Мурикэ, и движением древним, как сама жизнь, приложила ее к груди. И рука девочки на груди Накалулы казалась белой розой – одной из тех, что росли во дворе. Белой розой на черном бархате.
Все произошло так быстро и неожиданно, что дона Аута, не в силах сдвинуться с места, лишь взволнованно прошептала:
– О София!..
Кошат ОЗОРИУ
(Ангола)
ДОМИНГА
Перевод с португальского В. Гутермана
Доминга не должна плакать, нет. Дети ее уже там, на пароходе. И машут рукой, и машут платком; ма-ма… мма… Доминга не станет плакать, нет. Если она заплачет, она не увидит больше ни парохода, ни своих детей на нем, ни… Нет, она не будет… Доминга не должна… Доминга не должна плакать.
Господин Гоми еще стоит на лесенке. Он считает чемоданы и ругает носильщиков, они уронили самый большой чемодан. Доминга сама его укладывала. Это чемодан с вещами детей. Вон они там, на пароходе. Они кричат: «ммама… мма…» и машут рукой, и машут платком. Доминга их видит. Кругом суматоха, а Доминга все видит, И как господин Гоми ругает негров, негры теперь укладывают чемоданы на палубе. И пароход – ему что? Сейчас пустит дым и уплывет. И этот белый капитан, он тоже уплывет на большом пароходе и не вернется…
Сердце Доминги слышит: «мма-ма… мма…»
Тяжело на сердце у Доминги… Глаза так и смотрят на пароход. Она их закроет, чтобы не заплакать. Доминга не хочет плакать, нет, Доминга не может плакать.
Доминга помнит. Помнит тот день, когда господин Гоми продал ферму. Сначала он ей ничего не сказал. Это только потом он сказал ей:
«Доминга, детей я возьму с собой в Путо. Кем они тут вырастут? Пусть учатся в колледже для белых, станут образованными…»
Что делать Доминге? Это же ее дети, и сосали они ее грудь. Нет, не отпустит она их, не отпустит!..
Доминга не заплачет, нет. А дети на пароходе.
Они машут рукой и машут платком. Доминга не хочет их отпустить. У нее голова кругом идет. А этот белый капитан кричит на нее и отгоняет от парохода. А пароход уже отплывает… Он больше не вернется… Глаза Доминги полны слез, но она не станет плакать. Доминга больше ничего не видит в этой суматохе. Господин Гоми заплатил носильщикам, и дети там, на пароходе. Доминга не будет плакать… Но ведь это ее дети, и сосали они ее грудь… И вот уезжают…
Когда господин Гоми сказал ей об этом, она не хотела их отпускать. «Но почему, Доминга?..» – «А вы разве не знаете почему?!» А потом сказала:
«Зека, скажите детишкам, пусть не забывают маму, пусть маме пишут, пусть…»
Дети больше не вернутся. Кто-кто, а уж Доминга это знает. Больше дети не вернутся. Они там, на пароходе. И машут рукой, и машут платком. Доминга слышит, как они зовут маму. В таком шуме только Доминга может различить их голоса. Сердце Доминги знает, что это голоса ее детей.
Только три раза назвала она господина Гоми по имени, Зекой. Первый раз, когда была еще девчонкой, там, в лавке. Господин Гоми работал в лавке. Вот Доминга и говорит ему: «Дайте мне муки и этого… пальмового масла… и…» В лавке никого нет, и господин Гоми смотрит, смотрит на Домингу, а она ему говорит: «Эй, господин Гоми, я спешу». А господин Гоми кладет ей на грудь руки. «Господин Гоми! Оставьте… Что это вы делаете, а?.. Пустите!..» Ну а потом уже, потом… когда это случилось, Доминга ему сказала:
«Зека, вы… опозорили меня…»
Господину Гоми понравилась негритянка Доминга. Он подарил ей нарядной ткани… и бусы стеклянные… И с ее родней все уладил. Стала Доминга жить с белым, жить в его доме. Теперь Доминга уже не была такая, как другие негры, грубые, неотесанные. Нет… Она жила с белым. А негры? Негры ругали ее, называли бессовестной. Говорили, что она забыла свой род и что господь ее накажет…
«Так уж и накажет?!»
«Вот увидишь…»
О! Доминга была умнее их. В споре негры забывались и говорили, что бог – белый.
«Пусть белый, но разве негры не его дети?! А? Так-то! А вы еще меня ругаете за то, что я рожаю детей… детей господа!..»
«Ты мулатов рожаешь».
«Мулатов?!»
«Мулатов. А у них нет ни рода ни племени. Вот спроси своего господина Гоми, пусть скажет, что про это написано в книгах? Да! Нет у мулата ни рода ни племени».
Не так это… Доминга знает. У ее детей все есть: и род и племя. Ведь это ее дети. Они там, на пароходе. Едут в Путо. И больше не вернутся…
Доминга помнит, как говорила старикам:
«Это вы бессовестные, а не я! Да, вы…»
Но все же страшно было Доминге, боялась, что сглазят негры… Не раз ходила она к колдуну…
Доминга жила с белым. Жила в доме господина Гоми. Там и дети появились, там и стареть стала. Теперь она совсем старая. Вот господин Гоми и велел ей спать на циновке. А он… Он всегда делает что хочет. Кто-кто, а Доминга это знает. Но ей не обидно… У нее есть дети, ее дети…
И все же не с кем-нибудь – с белым жила Доминга, с господином Гоми. И была не то, что другие. Сама в лавке хозяйничала и детей растила… Других негров видала, лишь когда в лавку приходили за мукой там или еще за чем-нибудь. Да и зачем они ей? У нее дети есть – хорошие дети. Она о них заботится, а ругать не ругает…
Потом господин Гоми продал лавку… Стал плантатором. Купил землю у ее родни и у других… Сказал, что лучше отдать деньги ему, а то у них все запущено, да и вообще они могут потерять права на землю, а у него деньги… Господин Гоми богатый… И если ему понравилась чужая земля, так он уж ее купит. Негры говорили, что их идол Гананзамби его накажет… Доминге все равно. У нее есть платок, самый красивый… И браслет… И бусы стеклянные…
Второй раз Доминга назвала его Зекой, когда умер мальчонка… Избил ее тогда господин Гоми!..
«Подлая тварь, почему к колдуну отнесла мальчика, ведь я доктора велел позвать?!»
А Доминга не понимала. И все плакала, плакала…
«Зека, умер мальчонка!..» – сказала она, второй раз называя его по имени.
Господин Гоми тоже заплакал. И больше не бил мальчонкину маму… Эх, умер мальчонка!..
В третий раз она назвала его Зекой вот теперь и сказала:
«Зека, скажите детишкам, пусть маме пишут…»
Уезжают дети…
Господин Гоми хороший. Очень хороший. Хотел ей в городе дом подарить… новый дом, большой… И деньги в банке хотел ей оставить. Отказалась Доминга… Куда уж ей… Одно слово – негритянка! Вот домик деревянный в Байрру Перариу да лавчонка собственная – это другое дело… Большего Доминге не надо. И так проживет… Зачем ей дом в большом городе и деньги в банке? Она ведь тоже… черномазая.
«Зека, скажите детишкам, пусть маме пишут…»
Доминга знает, что не вернутся больше ее дети. И маме писать не будут. Дети уедут и не вернутся. Они в школе для белых будут учиться и уж шалопаями-то не станут.
Другие дети будут спрашивать их:
«Кто у вас мама?»
«Мама?.. – ответят они. – Читали про королеву-рабыню, которая еще потом сказала: „Больше не буду носить цепей?“ Это наша бабушка, а мама…»
Детям всегда хочется, чтобы их мама важная была, детям хочется гордиться мамой, да… Доминга все понимает… но дети уедут и больше не вернутся. А если и вернутся, все равно станут богатыми, важными… Господин Гоми отдаст им плантацию. Знает Доминга, не нужна будет детям черная мама с ее лавкой в рабочем квартале. Не захотят дети вернуться к своей маме… Не вернутся… И писать маме не будут. Может, сначала пришлют фотографию, а потом… Доминга знает: не вернутся… А она их отпускает… Это не Доминга – глаза ее плакать хотят. Дети уже там, на пароходе… Если заплачет, не увидит больше этот пароход.
Нет, Доминга их видит, своих детей! Кругом сутолока… Мелькают перед глазами негры с узлами, чемоданами… Да еще этот проклятый белый со своим пароходом. Тоже… прогонять ее вздумал… Сейчас отправит пароход и детишек увезет.
Доминга их видит… Антоника… Красивая какая… А с этим красным бантом так совсем красавица… А вон Бастиан… Зачем он так близко подходит к борту, еще брючки замочит… Ох, нет с ним мамы рядом, некому сказать… А Зекита… совсем большой стал!.. Зекита тоже уезжает… А как поет ее Тоника?! Как она поет!.. Непременно по радио петь будет… По радио все услышат ее песни… и особенно под которые танцевать хорошо… И скажут, это Тоника поет, Тоника, дочь Доминги!
Плакать Доминга не будет, не может больше… Этот белый опять отогнал ее… А пароход вот-вот уплывет… А на пароходе Бастиан… Красивый какой вырос парень! Умный такой!.. Будет учиться хорошо, доктором станет… И все будут звать его доктором Бастианом. Доктор Бастиан! Доктор Бастиан? Да, сын негритянки Доминги. Ну знаете, у нее еще лавочка есть в рабочем квартале. Доктор Бастиан… доктор… А Зекита! Как он мяч гоняет! А?! Надо видеть, как он по полю бегает за мячом! Хорошо это у него получается!
Может, футболистом станет. И услышит она по радио, как там, на стадионе, все кричат: «Зе-ка! Зе-ка! Зе-ка! Го-о-ол!.. Зе-ка!!!» А, Зекита? Тот самый, ее, которого она родила. Домингин сын… старой негритянки из лавки… Мамы Доминги сын… Нет… не будет плакать Доминга… Не бу…
«У-у-у!» – загудел пароход… и поплыл… и дети на нем, и кричат они: «Ма…ма…ма…» – и машут рукой, и машут платком… Доминга не может больше сдержать слез. Плачет Доминга…
А белые эти, прохожие, не понимают:
– Глядите-ка, пьяная негритянка!
Не пьяная она, нет! Не пьет Доминга. Просто дети не вернутся больше. А если и вернутся, не вспомнят они свою черную маму… Дети! Вон они там, на пароходе. И машут рукой, и машут платком, и кричат: «мммаа… маа… мма… ма… мма…»
Арналдо САНТОС
(Ангола)
КИНАШИШЕ
Перевод с португальского Е. Ряузовой
К этому часу ливень уже прекратился. Красные от лучей восходящего солнца, точно кровь, капли дождя, похожие на бархатистых зверьков, высохли, и Мартини успел распродать лучшие из упавших накануне яблок. Мальчишки сбились с ног, бегая по поручениям богатых сеньор из Кинашише, они размахивали пестрыми свертками и вращали их на веревочке. Первый наплыв посетителей схлынул, и владельцы закусочных праздно сидели у дверей, развлекаясь тем, что пытались невзначай ущипнуть проходивших мимо молоденьких негритянок.
Квартал Крузейро постепенно оживал под неумолчный шум рабочих инструментов в мастерских у Брикона. Даже на кладбище, похожем на сад с белыми цветами, вместе с теми, кому суждено было в этот день остаться в земле, вторгалась жизнь, и слабый звон церковного колокола время от времени добавлял к бесхитростным звукам труда нотку недолговечности и бренности.
Жизнь просыпалась вместе с солнцем. И Нито задумал потихоньку улизнуть из дому. Затаив дыхание он то и дело приседал на корточки – шарил в траве, делая вид, будто охотится за саранчой, а сам все косился в сторону ворот. Никого вокруг. В окнах тоже никого не было видно, ворота закрыты, слуга, по-видимому, забыл о своей обязанности присматривать за ним. Минуту назад Нито бойко выбежал из парадной двери, держа в руках лук и стрелы. «Ты куда собрался, Нито?» – спросила мать. «Я хочу поиграть вот здесь…» – и действительно, какое-то время он играл на полянке, в двух шагах от дома.
Он во что бы то ни стало хотел удрать и то мчался во весь опор к воротам, то замирал на месте, притаившись в тени деревьев, ему не терпелось поскорей присоединиться к товарищам. Наверное, они заждались его. Отвечать за его побеги неизменно приходилось слуге Кумбаже. Он представал перед непреклонным и всегда одинаковым правосудием доны Зулмиры. «Сколько тебе нужно повторять, что присматривать за ребенком входит в твои обязанности? Я не желаю, чтобы ребенок жарился на солнце!»
Но Кумбаже редко удавалось обвести вокруг пальца. Этот сильный парень всегда все видел, видел он, как курчавая голова мальчугана вдруг возникает в глубине сада на фоне высокого, выкрашенного в голубой цвет забора. Он наблюдал, как тот бесшумно крадется, точно ягуар, вдоль ограды, и хитро улыбался, когда мальчишка нырял в высокую траву, будто бы ловил ящерицу, но из сочувствия к нему молчал.
Однако Нито не думал о Кумбаже. Может быть, мама побила слугу из-за него, а может быть, еще за какую-нибудь провинность. Это было в порядке вещей. Он только пожимал плечами.
– Эй, парень!..
Толстое Брюхо вздрогнул, застигнутый на месте преступления. Он торопливо спрятал за спиной то, что держал в руках, и, стоя неподвижно, ждал, пока Нито приблизится к нему; рот его, вымазанный красной глиной, приоткрылся, тусклые безжизненные глаза смотрели настороженно. И Нито вспомнил, что тот должен скоро умереть. Так говорила мама всякий раз, как тот проходил мимо со своим огромным вздувшимся животом. «Бедняга! Лучше уж не мешать ему, – подумал Нито, – может, он голоден…»
– Слушай… – произнес он, стараясь не спугнуть мальчика.
Толстое Брюхо не отвечал, недоверчиво следя за его движениями. Нито присел на корточки, ковыряя муравьиную норку кончиком стрелы. Он всячески стремился внушить доверие, показать, что не собирается дразнить его. Внезапно в голову Нито пришла новая мысль, и он протянул ему большой кусок красной глины.
Толстое Брюхо в изумлении уставился на него, недоумевающе повел плечами и в свою очередь нерешительно предложил затвердевший комок, который прятал за спиной. Нито с опаской взял глину и попробовал, чтобы не обидеть его. Он почувствовал, как рот наполняется слюной. В конце концов, это оказалось даже вкусно! Но, вспомнив о мрачных словах матери, он сплюнул на землю.
Добравшись до бульвара Питта-Гроз и встретившись с друзьями, Нито рассказал им о встрече с Толстым Брюхом и еще приврал с три короба. Дино решил, что им надо захватить из дому еды и отнести ее Толстому Брюху.
– А что, если мы отдадим ему лотерейные билеты? – предложил Руй.
– Но ведь таблицы еще не напечатаны… – напомнил Жижи, ему это дело казалось не терпящим отлагательства.
– Но почему же отец не кормит его? – удивился Неко, осуждая родителей Толстого Брюха.
Спор оживился, каждый высказывал свое мнение. Возможно, у его родителей нет денег?.. Дино уверял, что их слуге никогда не отказывают в пище.
Завидев идущего мимо негра, у которого были не все дома, дети затянули насмешливую песенку на мотив модной конги.
Старый Конго шлялся долго…
– Видали, это старый Конго! Бежим за ним… – закричал Руй. – И они гурьбой бросились вслед за негром, начисто забыв о споре, только Дино отстал от других.
Он был хрупкого сложения и ненавидел насилие и насмешки. Когда Конго обернется и бросится бежать от преследователей, они, конечно, станут бросать в него камнями. По счастью, никто никогда в него не попадал.
Погоня в конце концов наскучила им, и ребята остановились у Дома святых, массивного одноэтажного здания, окруженного статуями при входе, здесь был коллеж доны Берты. В историях, сочиненных детьми Кинашише, рассказывалось, будто статуи эти по ночам ведут между собой беседы и даже спускаются с пьедесталов. Дино отказался идти дальше.
– Дедушка будет ругаться, – нашел он предлог.
Приятели переглянулись. Они знали, что Дино никогда не уходит далеко от дома.
– Мы же только до оврагов, наберем трубок – и обратно, – уговаривали они его. Обрезки свинцовых труб, оставшиеся там после того, как взорвалась канализационная система компании «Свет и вода», мальчишки обменивали в лавочке Марио Психопата на фруктовую воду.
– Смотри, потом не проси делиться! – пригрозили они Дино, и тот поспешно повернул к дому.
На дереве мафумейра зачирикала птица, и Марио сообщил им, что уже одиннадцать часов. В подтверждение этому они и сами услышали тихий звон церковного колокола. Под лучами жаркого солнца глинистая вода озера Кинашише казалась медно-желтой и твердой на ощупь, словно была сделана из металла.
Единственным местом, где они могли ловить рыбу, укрывшись от солнца, была тень старой мафумейры. Разлившееся озеро окружило дерево со всех сторон, и теперь здесь был маленький тенистый островок. Но чтобы добраться до мафумейры, надо было пересечь предательскую топь или переплыть озеро. Зека, уже успевший вывозить свои штаны, предпочитал перебраться вплавь.
Тонекас, за всю жизнь поймавший две крошечные рыбешки, воспротивился.
– Неохота мне удить в такую жару!
– Ладно, тогда пошли на каток, – предложил Марио, он уже отказался от мысли о рыбной ловле и целил из рогатки в лягушек, изредка появляющихся на поверхности воды.
Катком называлась бетонная горка, служившая для сбрасывания мусора в квартале Лузиад. Нагулявшись по лесу, мальчики на обратном пути в свой квартал с наслаждением скатывались с нее, оседлав какую-нибудь кучу отбросов. Зеке не хотелось на каток, но он ничего не сказал. С тех пор как он порвал там новые штаны, Зека избегал катка. Спускаясь с холма, упиравшегося в Площадь Лузиад, они повстречали небрежно одетую женщину. Женщина была белая, немолодая и вся потная, она неуклюже несла в руках какой-то сверток.
– Видал, Таламанка объявилась! – шепнул Тонекас Зеке, многозначительно подмигнув.
Таламанка пила запоем, и мальчишки со всего квартала вечно преследовали ее, а она кричала им истошным голосом, вся побагровев и стуча кулаком в плоскую грудь: «Мой муж был капитаном! Я вдова капитана!»
– Давай… – шепнул Марио, когда они поравнялись.
«Холодная вода, речная вода.
Холодная вода, и кто ее только выдумал…»
Зека пел вполголоса, опасливо косясь на женщину краешком глаза. Ей ведь ничего не стоило устроить скандал на всю округу. Таламанке и вправду не пришлось по вкусу их пение, она проворчала, бросив на Зеку презрительный взгляд:
– Ах ты лоботряс, мулатское отродье!..
– Швырни в нее камнем, – обиделся за товарища Марио, он был белый.
– Не обращайте внимания, она чокнутая… – засмеялся Зека, скорчив гримасу.
– Стреляй, – завопил Миранда, сбегая с холма: его преследовала разъяренная голубая ящерица с красной головой. Колибри выстрелил в нее из рогатки. Песок, взметнувшийся от падения камня, попал в ящерицу, и она остановилась.
– Черт! – выругался Миранда, он уже пришел в себя и тоже прицелился. Настигнутое камнем пресмыкающееся отлетело в сторону, упало навзничь, подставив солнцу белое брюхо, и замерло в полной неподвижности.
– Ого, тебе и вправду на колибри охотиться!
Колибри был знаменитый в Кинашише охотник на птиц. Тощий, с маленькой головой, с длинным острым носом, он сам удивительно напоминал птицу. На прозвище он отзывался не обижаясь и благодаря этому завоевал у товарищей уважение.
– Идиоты, чего вы шум подняли!.. – заорал Карлос, появляясь из зарослей агавы, где пытался подстрелить сидящего на ветке птенца. Он все еще оттягивал тетиву теперь уже ненужной рогатки и зло поглядывал на товарищей. В конце концов они решили присоединиться к Буфе, отдыхающему под акацией.
– В лес идти нет смысла… – раздумывал вслух Колибри, устремив взгляд на протестантскую церковь, окруженную огромным садом. Сад был весь в цвету – эти белые цветы любили клевать колибри. Миранда, вспомнив о стороже, покачал головой. Лучше в лес. Словно чудовищный великан, лес шумно спускался оврагами Бунго, карабкался по склонам, заросшим кустарником, звенел птичьим многоголосьем.
– А как насчет роликов? Это ближе и вообще… – предложил лентяй Буфа. Далекие прогулки его не вдохновляли.
Жара стала нестерпимой, и потому предложение Буфы было принято. Они уже скользили по бетонной дорожке катка, когда появились Зека и компания. Зека хмурился. Миранда, конечно, примется потешаться над его привычкой бегать домой попить. Он никогда не упускал случая поиздеваться над Зекой за то, что тот брезгует водой из кранов в садах и парках, в то время как остальные пьют где придется, если их одолевает жажда. Он считал, что это каприз, блажь набалованного маменькина сыночка, и безнаказанно измывался над ним как мог, потому что был старше и сильнее.
Рыболовов встретили радостными возгласами, и минуту спустя кто-то крикнул им:
– Куча мала!
Схватившись с Зекой, Миранда, как Зека и ожидал, съехидничал:
– Брось ты все это, беги домой, попей водички…
– Пошел к черту… – огрызнулся Зека.
Миранда недоумевающе уставился на него. Какая муха укусила этого дурня? Зека всегда пасовал перед ним. Но рисковать своим авторитетом Миранда не мог. Товарищи окружили их, все смолкли, и Колибри, обожавший смотреть драки, тут же набрал в обо ладони песку и протянул их противникам. Зека с тоской подумал, что получит сейчас сильную взбучку, однако не колеблясь ударил по руке Колибри, с ненавистью глядя на него, словно тот был сообщником Миранды.
Зеке здорово досталось. Но в глубине души он торжествовал. Он сам подошел к обидчику после драки:
– Попробуй еще задирать меня!
Он не желал больше быть под ярмом. Он обрел наконец свободу.
Широкий кроваво-красный луч заходящего солнца стлался по выжженной пыли Кинашише. Гаснущий закат окрашивал стены домов в блеклые тона, и силуэты торопливо шагавших куда-то людей казались длинными и вытянутыми. Дерево мулембейра на Питта-Гроз давало густую тень, листву его то тут, то там пронзали короткие, острые, как кинжалы, лучи. У закусочной собирались мальчишки со всего квартала, так бывало каждый вечер.
Они весело переговаривались, вспоминая о случившемся за день. Шоа и Жоан Псих посвистывали, пытаясь привлечь внимание девушек, которые возвращались с работы домой. Вдруг они повздорили.
– Иди сам знаешь куда, – ответил Шоа.
Жоан Псих, светлокожий негр, ловко отбрил его на языке кимбунду. Ватага парней оглушительно расхохоталась. Их обоих в квартале побаивались. Они уже ходили одни на поздние сеансы в «Колониальное кино» и не боялись приближаться к ограде, где несли службу солдаты местной компании; пересмотрели все фильмы с участием Бака Джонса и похвалялись близким знакомством с уличными женщинами. Ребята предместья Кинашише наспех проглатывали вечером свой скудный ужин и, дожевывая на ходу, спешили на Питта-Гроз, боясь прозевать начало очередного рассказа. Шоа задавал тон, он был центральной фигурой. Описывая ту или иную сцену, он яростно жестикулировал и кричал, а иногда, войдя в раж, вскакивал на спину рядом стоящего мальчишки, чтобы придать большую достоверность историям о скачках верхом и о преследовании бандитов. Оседлав паренька, который стонал и сгибался под его тяжестью, он гнусаво тянул, подражая техасской моде:
Alô pistoteique,
pistoteigue mama.
Alô pistoteigue…
Поскольку песня, исполняемая на этом невообразимом, недоступном для перевода языке, неизменно бывала одна и та же, она вскоре сделалась популярной среди молодежи Кинашише.
«Ложь! Положи эту ложь в мешок, пустой мешок не стоит на ногах, с пяти грошей не получишь сдачи, кипятком не сожжешь дом…» – такой бурный поток слов обрушивали парни на того, кто осмеливался выразить сомнение в достоверности рассказов Шоа.
– Гляньте-ка, вон шествует Кашиа! – возвестил Жоан Псих, увидав толстую мулатку, показавшуюся в конце улицы. Товарищи тоже посмотрели в ее сторону. Некогда, много лет назад, пышные бедра Кашиа служили поводом для раздоров между белыми богачами Луанды. Теперь это исполненное сладострастия прошлое давно отошло в область предания, и юные кинашишенцы безжалостно намекали на него, крича: «Красотка идет, покачивая бедрами!..»
Вместо ответа она швыряла в них камнями. В тот день лицо ее было печально. Она обошла их стороной, чтобы избежать встречи.
Тем временем Шоа завел речь о последнем фильме из жизни ковбоев. Марио, самый маленький из группы, благоразумно отошел подальше, юркнул в старую закусочную на Питта-Гроз, не без основания опасаясь стать участником какой-нибудь сцены из скачек.
На длинной каменной стойке громоздилась куча эмалированных тарелок, и рабочие, кончавшие смену в шесть тридцать, толпились у стойки и говорили все разом, перебивая друг друга. Среди этого гама раздавался голос белого буфетчика:
– Сколько порций… Сколько? – Люди отходили от прилавка, ворча, что еда невкусная и уже остыла, и усаживались под навес. Худощавый, с болезненным лицом рабочий медленно опустился на пол почти у ног Марио. Садясь, он тихонько застонал. Поднял глаза, затуманенные пеленой усталости, посмотрел на мальчика, как бы молча спрашивая о чем-то, и протянул ему блюдо с фасолью, политой пальмовым маслом. Марио отрицательно покачал головой. Он не ужинал и хотел есть, но отказался. Ведь об этом могла узнать мама. Если б еще буфетчика не было поблизости… С улицы донесся шум, и Марио, охваченный любопытством, поспешил к выходу.
Тонекас и Неко вернулись из лесу с самодельными клетками в руках, они о чем-то возбужденно кричали. Марио подбежал к ним и тут же попятился. У клеток лежала длинная желтовато-коричневая змея. Они убили ее, после того как она проглотила двух лазоревок и еще одну пичугу из клетки Неко. Владелец клетки не переставал дрожать и всхлипывать. Тонекас красочно, с увлечением рассказывал о происшествии. Собравшиеся требовали новых и новых подробностей. Они повторяли все те же вопросы, вспоминали похожие случаи. Наконец Шоа громогласно, непререкаемым тоном приказал произвести вскрытие змеиного трупа и сжечь его, а после исполнить ритуальный танец в честь бога Змеи.
И в предместье Кинашише, окутанном густым сумраком облаченной в траурные одежды ночи, несколько мальчишек прыгали и извивались вокруг костра в неистовом танце бога Змеи, наполняя воздух гортанными криками; и тонкие, подвижные их фигурки отчетливо вырисовывались в багряных отсветах костра, отбрасывая исполинские зыбкие тени.
– А теперь кто не перепрыгнет через костер, тот дрянь и мать его тоже дрянь! – Это был заключительный обряд. Танец кончился. Костер догорал. Они разошлись по домам, боясь, как бы им не влетело за нарушение порядка…
Поздней ночью дона Ана де Соуза бесшумно отворила дверь в комнату сына. После еды она велела ему хорошенько вымыть ноги, чтобы не пачкать простыню. Марио угадал намерения матери, но смирился с необходимостью. Она всегда приказывала делать это перед тем, как извлекала клещей. Хорошо, что он просыпался лишь тогда, когда ноги уже были смазаны йодом. Но как щипал этот проклятый йод!
Дона Ана шла медленно, почти торжественно, за ней следовала служанка, держа керосиновую лампу и пузырен с коричневой жидкостью.
Марио крепко спал. Струйка пота стекала у него с подбородка, скользя по смуглой обнаженной шее. Руки безвольно свесились по сторонам железной кровати. Он спал и во сне прыгал по оврагам, ездил верхом на чудовищах, преследуя колдунов, шипящих из подворотен, сражался со змеями – пожирателями птиц, плавал в озере Кинашише с таинственными сиренами, ел фасоль вместе с законтрактованными работниками в трактире на Питта-Гроз, плясал батуке отмщения безжалостному божеству. Он находился во власти великой и единственной мечты о свободе – мечты своего детства.
При взгляде на него суровые черты матери смягчились. «Бедный мой воробышек, – растроганно подумала дона Ана. – Во сне он кажется таким тихим и безмятежным».








