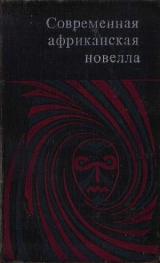
Текст книги "Современная африканская новелла"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Гильермо де МЕЛЛО
(Мозамбик)
НЕГР С ГИТАРОЙ
Перевод с португальского В. Гутермана
Как и она сорок лет назад, я тоже сегодня не выйду из дому, потому что поздно и идет дождь, потому что сегодня не надо идти в редакцию и потому что все во мне просит, чтобы я остался дома в тиши своего крохотного кабинета, сел за пишущую машинку «рояль» и пальцы мои забегали по ее клавишам.
«Я сегодня не выйду из дому из-за дождя, – писала мужу Кэтрин Мэнсфилд 26 февраля 1918 года. – Буду этим вечером читать „Малышку“ и потом напишу тебе о своих впечатлениях. И постараюсь закончить свой рассказ. Надеюсь, он тебе понравится. Рассказ этот совсем не похож на то, что я писала раньше».
Я тоже постараюсь закончить свой рассказ (если я вообще когда-либо смогу его закончить). Потому что стоит мне закрыть глаза, как оттуда, из далекого прошлого, как в былые времена, приходят Ана Луиза, маленькая негритянка Ширинда и мулат Жозе, приходят и стучатся в мою дверь. Приходят они, и приходят другие, что приходили в ту пору, когда я учился в школе и лицее, и становились потом спутниками моей жизни.
Многие, разумеется, бесследно исчезли из моей жизни. Иные оставили мне какую-то частицу себя. А ведь иногда – не знаю, задумывался ли кто-либо из вас над этой особенностью, – пустая жестяная коробка в углу шкафа может сказать о чьей-либо жизни больше, чем стопка писем, аккуратно сложенная в ящике письменного стола.
И мальчик, о котором я хочу рассказать, не оставил на память о себе ни засушенных листьев между страницами книги, ни пачки писем, которая лежала бы на дне ящика моего стола. Я даже не знаю, как сложилась его жизнь. Знаю лишь, что он существовал.
В то время ему было не более семи лет. Это был слабый и хрупкий мальчик, с очень большими живыми глазами и головкой в густых мелких локонах, темных и мягких, как шелк.
Жил он на тихой улице в огромном доме старинной архитектуры – одном из высоких домов с подвалом и просторной верандой вдоль фасада, на которую ведут натертые до блеска красные деревянные ступени.
При доме был маленький сад, отгороженный от улицы невысокой оградой. И именно здесь, на открытой веранде, в веселом садике, на песчаном дворе, огибающем весь этот дом старинной архитектуры, играл мальчик по утрам и после полудня, играл целыми днями, оставаясь наедине со своими игрушками и устраивая то бесшумные сражения оловянных солдатиков, то отчаянные гонки пластмассовых автомобилей, которые он подталкивал руками.
Единственный сын у родителей, мальчик рос без друзей, потому что его мать и отец считали, что дети с улицы говорили скверные слова, которые хорошо воспитанный ребенок, каковым был их сын, не должен слышать. И мальчик подолгу оставался притихшим и неподвижным, устав от своих солдатиков без славы, битв без выстрелов, автомобильных гонок без катастроф и больше всего от звуков собственного голоса, на который никто не отвечал и которому никогда не вторило эхо.
И именно в одну из таких минут, когда безмолвная грусть наполняла душу мальчика, а взгляд его больших темных глаз без малейшего интереса скользил по игрушкам, разбросанным на песке, появился негр.
Был он молодой, высокий и сильный, с ослепительно сверкавшими зубами на широком смеющемся лице. Именно таким он и предстал перед мальчиком. Прислонившись к ограде, юноша-негр принялся играть на шестиструнной гитаре.
Откуда появился этот негр? Откуда появился этот удивительный темнокожий человек с ослепительно сверкавшими зубами на широком смеющемся лице? Мальчику так и не довелось это узнать, да ему и не хотелось знать.
В сущности же, ничего таинственного в появлении негра с гитарой не было: просто прачке, работавшей в этом доме, нравилось, перегнувшись через ограду, поболтать со знакомыми, проходившими по улице, пока рядом на земле разгорался полный угля утюг. И случилось так, что в тот полдень поболтать с прачкой и заодно побренчать на своей гитаре остановился молодой негр.
Но мальчику так и не довелось, когда-либо это узнать, да он и не стремился узнать. Для него все это было тайной, слишком чудесной, слишком заманчивой, похожей на прекрасный мираж. Мираж этот возник перед ним как раз в тот момент, когда он изнывал от тоски, от холодного и пустого одиночества, и скука, казалось, затопляла весь дворик, поглощая даже безмолвные, немые игрушки. И вот неожиданно навстречу ему понеслись долгие и свежие раскаты смеха большущего, сильного негра и праздничный, веселый, подпрыгивающий звон гитары. И словно завороженный, с полуоткрытым от счастливого изумления ртом, с огромными, ставшими от волнения еще больше глазами, мальчик постепенно подходил все ближе и ближе, пока не остановился как вкопанный и уставился на негра, слушая гитару, которую тот сделал из большой жестянки из-под оливкового масла. К жестянке была прилажена дощечка-гриф, а к ней – ключи-колки, державшие струны, хотя и не настоящие струны – просто шесть проволочек, протянутых по всему корпусу инструмента. То слегка, то в страстном исступлении касаясь черными пальцами тонких, туго натянутых струн, о, какие чудесные звуки извлекал этот огромный смеющийся негр из жестянки, привезенной из-за моря в трюме какого-нибудь корабля и когда-то полной золотистого масла!
И случилось так, что в этот день у мальчика появился большой друг, которого у него никогда не было, – друг у мальчика, который умел играть лишь в одиночестве.
С той поры каждый день после полудня стал приходить к нему этот негр. Он приходил, устраивался поудобнее у ограды и начинал перебирать тонкие, туго натянутые струны своей гитары, и стоило мальчику завидеть его, как он тотчас бежал к каменной ограде, взбирался на нее и, плененный черными руками юноши, с неподдельным восторгом слушал его игру. Потом негр переставал играть, и смотрел на мальчика, и улыбался своей ослепительной улыбкой, свободной и широкой, словно стяг, развевающийся на солнце. И мальчик тоже смеялся в ответ. И мальчик спрашивал его обо всём, что хотел знать, и негр отвечал, а потом в свою очередь спрашивал мальчика о его оловянных солдатиках и о победах, одержанных на автомобильных гонках его маленькими игрушечными машинами.
И в искренней болтовне мальчика, и в веселых звуках гитары, и в раскатистом смехе юноши-негра – во всем этом был здоровый вкус доброй и чистой дружбы, чистой, как все простое на свете.
Но однажды сеньора, мать мальчика, увидела большого и смеющегося негра, прислонившегося к ограде, чтобы поиграть на самодельной гитаре, на которую смотрел и которую слушал очарованный мальчик. На другой день она снова пришла, пришла и на следующий день. А когда наступила ночь, сеньора поведала мужу ужасную новость: негр, несомненно бродяга и разбойник, проводит вечера, играя с мальчиком у садовой ограды, наверняка чтобы хорошенько высмотреть дом и ограбить в один прекрасный день, когда мальчик по своей наивности скажет ему, что папа и мама ушли в кино.
И на следующий день, когда негр был уже там, у ограды, чтобы смеяться своим добрым, радостным смехом и играть для мальчика на своей жестяной гитаре, к нему подошел полицейский, а откуда – мальчик с большими, широко раскрытыми от недоумения и страха глазами толком даже не успел заметить. Полицейский остановился, положил руку на плечо негра и увел его с собой.
Прошло много дней. Сначала мальчик вел себя так, словно все ждал; он бродил по двору и саду, перегнувшись через ограду, всматривался в глубь улицы, все ждал, что с минуты на минуту появится негр с гитарой. Потом мало-помалу его большие глаза становились все спокойнее, и мальчик, слабый и хрупкий, с густыми темными завитками на голове, вернулся к своим автомобилям из зеленой пластмассы и оловянным солдатикам в красных и голубых мундирах.
Но однажды утром его подозвала прачка и со странным видом испуганной заговорщицы прошептала: «Шш! Не шуми и не говори громко, а то сеньора узнает…»
Помнит ли мальчик того парня, который всегда приходил играть там, у ограды? Помнит ли?
С огромными, блестевшими от возбуждения и беспокойства глазами мальчик жадно слушал слова прачки.
Помнит ли!
Прошлой ночью, рассказывала прачка, он приходил сюда, в дом. Он уже давно вышел из тюрьмы, но не приходил потому, что боялся сеньоры. А прошлой ночью пришел, чтобы спросить о мальчике и проститься, потому что сегодня рано утром собирался ехать на шахты в Трансвааль.
И в страхе, с большой осторожностью, прачка показала мальчику – о мой господь! – гитару. Гитару, сделанную из большой жестянки из-под оливкового масла, с прилаженной к ней дощечкой и шестью струнами, очень тонкими и туго натянутыми… Шш! Он приходил сюда, чтобы отдать гитару. Оставил ее, чтобы мальчик играл на ней… Но прачка не может ее отдать. Нет, не может! А вдруг, не дай бог, сеньора увидит гитару! Лучше в воскресенье, когда прачка пойдет домой, она возьмет с собой гитару и спрячет ее у себя в чулане.
Однако странное дело, наступило воскресенье, но прачка нигде не могла найти гитару, которую оставила в углу комнаты для прислуги. Не могла найти, и все тут.
И ни сеньора, ни прачка и никто другой никогда не могли понять, почему у мальчика появилась нелепая привычка проводить целые дни в подвале, под домом, в самом дальнем углу, среди досок от старых ящиков, паутины и пустых бутылок. Никто так и не узнал, что за глупые игры стал устраивать мальчик с того дня в том углу, куда никто не заглядывал и где умещалось лишь его маленькое и хрупкое тело.
А он – о! – он никому ни за что на свете не раскрыл бы своей тайны, своей удивительной тайны.
Нуно БЕРМУДЕС
(Мозамбик)
ГАНДАНА
Перевод с португальского Е. Ряузовой
Без конца, без края и без дорог раскинулся этот лес. Ласки от него не жди. Даже мякоть плодов, что вызревают в нем, пронзительно терпкая. Солнце – будто багровая, никогда не заживающая рана, и всякий раз, когда она вновь раскрывается на пепельно-серой коже неба, обитатели кустарников тщетно ищут прохлады в сумрачной чаще, где протекает ручей и журчит источник. Только змеи шару, мамба и жибойя могут часами жариться на солнцепеке да горлицы воркуют в лишенных листвы кронах деревьев.
Лес никогда не кончается. Каких только деревьев и кустарников не встретишь в этом лесу без конца, без края и без дорог. Суровая микайя, растопырившая свои острые, как иглы, пальцы-колючки; отягощенная плодами с жесткой, вяжущей сердцевиной стройная масала; дикорастущее дерево кажуэйро с ароматными цветами… Километр за километром тянутся одинаково угрюмые, будто вымершие леса, и вдруг – то тут, то там яркие, невиданной раскраски цветы, бросающие вызов сонному однообразию. Лишь когда спускается ночь и выплывает луна, большая и круглая, как янтарный диск, обитатели леса оставляют свои укрытия и выбираются на равнину. Цикады и сверчки отчаянно стрекочут, лягушки посылают в глубину ночи хриплые настойчивые призывы.
И все это лес. Все это непонятный и таинственный мир животных, который враждебен человеку, попирающему ногой его святыни и укромные уголки, ведомые только тиграм, львам, антилопам да пресмыкающимся.
Гандана остановился на краю равнины. Изжелта-белое солнце испещрило зелень деревьев золотистыми бликами. Черная кожа Ганданы сверкала на солнце, как вороненая сталь, отливая, подобно ей, голубоватыми и алыми отблесками. Он никак не мог собраться с мыслями: они все время путались и разбегались в разные стороны, сталкиваясь друг с другом, точно прохожие в уличной толчее.
Тогда он сказал самому себе: «Гандана, ты долго не продержишься». Однако он знал, что стоит благополучно миновать эту равнину и перелесок и достичь подножия горы, как его ждет свобода. Он уже слышал нежное воркованье горлиц и различал по ту сторону равнины узкую полоску света, которая стояла над окутавшим рощу лиловым маревом. Но Гандана повторил еще раз: тебе не дойти до горного хребта. Он бросился наземь, раздвинул траву и, вцепившись огромными жилистыми руками в затвердевший ил заливного луга, принялся жадно лизать темную, пропитанную водой землю. Лежа ничком, раскинув руки, он походил на гигантского жука… Потом Гандана сел и встряхнул сильными плечами. Затравленное, точно у загнанного зверя, выражение его глаз постепенно становилось все спокойнее и наконец сменилось задумчивостью. Из пестрой, беспорядочной толпы воспоминаний медленно выплыло острое лицо индийца, затем маленькая грязная комнатушка в трактире, грохот падающих с балкона мешков фасоли, кукурузы и земляного ореха. Но тут снова все смешалось у него в голове. Раздался пронзительно-резкий голос, извергающий потоки брани, и вдруг в руках у него очутилась бутылка, которой он со всего маху ударил обидчика по голове. Звон разбитого стекла, залитое кровью и пивом лицо индийца. Однако тот удержался на ногах, и тогда Гандана, не дожидаясь нападения, запустил в него первым попавшимся под руку предметом. Затем в его памяти смутно возник последний эпизод – новенький, еще не побывавший в употреблении нож для рубки кустарника с этикеткой на ручке… и все заволокло кровавым туманом…
Теперь перед глазами у него был совсем иной мир, не похожий на прежний. Гандана чувствовал себя как бы его частью, ощущал полное слияние с природой – с приветливой тишиной пейзажа, ласковым щебетом птиц, шорохом трав. Он поднял глаза и огляделся по сторонам. Утро властно вступало в свои права, и солнце рассеивало оставшийся с ночи голубоватый туман, который застлал все вокруг легкой полупрозрачной паутиной.
– Пора, Гандана…
Он вскочил и зашагал по заливному лугу. Жара все усиливалась. Зной уже становился нестерпимым, когда Гандана одолел наконец половину пути. Но ничто не могло сломить его волю. Ничто не могло помешать его загрубелым сильным ногам идти по дороге свободы. Вдалеке, над лесом, в безоблачном небе, парил коршун-стервятник. Выискивая добычу, он описывал круги, поднимался все выше. Испуганно затрепетала и золотой молнией пронеслась по лугу газель.
Гандана ничего не видел, ничего не чувствовал, даже ни о чем не думал. Ему бы только добраться до хребта, а уж там у него хватит времени поразмыслить.
Внезапно на противоположном конце поляны появился джип. Шум мотора еще не коснулся ушей Ганданы, однако он инстинктивно почуял опасность и ускорил шаги. Ехавший в машине негр-проводник тоже, еще не видя Ганданы, понял, что он напал на след, и указал шоферу на чуть примятую траву, выдающую беглеца.
– Ты долго не выдержишь, Гандана…
Словно лодка, джип рассекал бескрайнее зеленое море, оставляя за собой широкий извилистый след. Горлицы в перелеске первыми услышали вдалеке шум мотора и замолкли. Удивленный этим, Гандана остановился. Обернувшись, он увидел автомобиль, виляющий из стороны в сторону, и даже различил сидящих в нем негра и двух вооруженных до зубов индийцев. Тогда он из последних сил бросился бежать, прячась за деревьями. Острые колючки микайи рассекали тело, но Гандана, стиснув зубы, продолжал путь. Перелесок принял его в свои объятия, но беглец уже слышал, как глухо ворчит мотор. Он стрелой метнулся вперед, перепрыгивая через поваленные стволы деревьев и будто по волшебству встающие перед ним заросли колючих кустарников.
Как нужна была ему ночь! Мрачная, вселяющая ужас ночь с ее непонятными шорохами и криками, скрещивающимися, точно клинки. Как нужна была ему ночь с ее изрешеченным звездами плащом, с ее притаившимися под сенью неподвижных деревьев тропинками, тайны которых не выдавал даже яркий лунный свет. Не та любимая им ночь, когда он плясал у дверей родного дома, простирая руки к пламени костра. Не та ночь, когда он уводил подругу в непроходимые заросли и там, среди вздохов и невысказанных слов забывался в грезах о других землях и о другой жизни. Не та ночь, которая создана для безмятежного сна под колыбельную песню ветра, легкими пальцами ласкающего деревья… А страшная, молчаливая, как могила, ночь-сообщница, которая провела бы его потаенными тропами, заглушив шаги, так что не осталось бы никаких улик, никаких следов ускользающего от охотников зверя.
Гниющие листья покрыли землю сплошным ковром… Испуганные его приближением, в панике разбегались ящерицы. Голубая птица вспорхнула с ветки, когда Гандана прислонился к дереву, чтобы перевести дух. Мир возвращался в свое первоначальное состояние, и вот опять уже раздалась песня горлиц. Джип умолк, но Гандана отлично знал, что это означает. В лесу без конца, без края и без дорог борьба за свободу для него только начиналась.
Он больше не торопился. Теперь надо было двигаться как можно тише и осторожнее, строго рассчитывая каждый шаг, прислушиваясь к каждому подозрительному шороху. Он лег на землю и пополз, держась ближе к деревьям. Но кровь, сочившаяся из ран, оставляла пятна на траве, и люди из джипа могли заметить их.
Большая ящерица пристально посмотрела на него, две горлицы на вершине дерева замолчали и с любопытством повернули к нему свои темные головки. Наконец Гандана дополз до зарослей кустарника и обессиленный повалился в траву. Лягушки на заливном лугу сердито квакали. Молчание, окутавшее лес, казалось осязаемым, это была раскаленная зноем раковина, которая скрывала, оберегая от врагов, хрупкое тело моллюска.
Моллюском был Гандана. Он продолжал упорно сражаться за свою свободу. Безымянный, простой винтик, ничтожная часть грозной и загадочной машины жизни, он не желал сдаваться, и его последний немой призыв был обращен к земле, которая породила его и в которую глубоко уходили его корни.
Заслышав шорох, пугливые ящерицы, до этого мирно дремавшие на солнце, попрятались среди камней, и Гандана понял, что это конец. Он съежился и, затаив дыхание, прижался к земле. Клочья облаков, рассеянных по небу, собрались в большие легкие тучи и заслонили солнце, но Гандана не видел этого. Перед его глазами был только бескрайний лес, невысокие, почти голые деревья и красноватая, колышущаяся от ветра трава.
Он хотел о чем-то подумать, но не смог. Защищаться было бесполезно. Он не знал, что такое справедливость или несправедливость. Он не знал, что такое победить или быть побежденным. Ему было незнакомо даже то чувство единения, когда один человек протягивает руку другому и они понимают друг друга без слов.
Его прощание с жизнью было спокойным, почти нежным. Но мысли его так и остались разрозненными, противоречивыми; он тщетно пытался собрать их воедино и понять в конце концов то, что должно быть понятно каждому.
Вот почему ружье из вороненой стали взяло на прицел не человека, давшего победить себя в этих зарослях без конца, без края и без дорог, а поверженного бога, который перестал сопротивляться лишь после того, как претерпел все выпавшие на его долю страдания.
И только тогда он вдруг заметил, что ветер разогнал тучи и на небе снова сияет солнце.
Чинуа АЧЕБЕ
(Нигерия)
МАЛЬЧИК И РЕКА
Перевод с английского Г. Головнева
Чики исполнилось одиннадцать лет, а он нигде не был, кроме родной деревни. Однажды мать сказала, что он едет жить в Онитшу, к дяде. Сначала Чики обрадовался. Ему надоела деревня в глуши и захотелось побывать в большом городе. Он слышал много интересного об Онитше. Слуга дяди – Майкл, который приехал за ним, рассказывал просто чудеса, будто в их квартале есть водопровод и водой можно пользоваться сколько хочешь, никуда за ней ходить не надо. Чики не хотел этому верить, но Майкл поклялся самой верной клятвой: он приложил указательный палец правой руки к языку и вытянул руку с этим пальцем к небу. Чики онемел от изумления и от радости: ему больше не придется каждое утро ходить за водой к реке! Беда в том, что в их деревне Умуофии тропа к реке была такой неровной и каменистой, что половина родительских тумаков приходилась за разбитые кувшины. И еще, в Онитше он будет жить в доме, под железной крышей, а не в жалкой хижине, покрытой пальмовыми листьями.
Все складывалось как нельзя лучше, хотя, когда настало время прощаться с матерью и сестрами, Чики расплакался. Сестры тоже принялись реветь. И у мамы навернулись слезы на глаза. Она положила ему руку на голову и сказала:
– Доброго тебе пути, сынок. Слушайся во всем дядю! Онитша – большой город. В нем много опасностей, в нем злодеи, которые воруют детей. Не гуляй один по городу. И еще, не подходи близко к реке – там, говорят, люди тонут каждый год…
Она дала Чики еще много полезных советов. Он кивал все время головой и шмыгал носом.
– Не плачь, – сказала под конец мать. – Помни, что ты уже большой мальчик.
Чики вытер рукой слезы и взял в руки деревянный сундучок, который мать специально по этому случаю заказала у деревенского плотника Джеймса Океке. В сундучке лежали школьные учебники и одежда Чики.
Они прошли, Майкл – слуга дяди, и Чики, полмили до шоссе, по которому в Онитшу ходил местный автобус – даже не автобус, а обыкновенный грузовик с крытым кузовом и скамейками для сидения. Это был очень старый грузовик по прозвищу «Тише-едешь-дальше-будешь». Он уже с трудом карабкался по холмам и пригоркам. А когда на пути встречался особенно крутой подъем, шофер вылезал из кабины и подкладывал под задние колеса толстую жердь, чтобы грузовик не скатился сам со склона вниз и не перевернулся. Иногда он просил сойти и пассажиров, и те помогали ему толкать машину сзади. «Тише-едешь-дальше-будешь» тащился сорок миль до Онитши часа три, а то и больше, если еще и ломался в дороге, тогда путешествие в город занимало целый день или даже два дня.
Но Чики повезло. «Тише-едешь-дальше-будешь» не сломался и останавливался только после крутых подъемов, да и то ненадолго – набрать воды в радиатор. И они благополучно в тот же день добрались до города Онитши.
Поначалу ему многое в городе показалось странным. Взять, например, воров и злодеев. Он не мог их различить среди городских жителей, как ни ломал голову. В Умуофии все воры были, как говорится, на виду, а здесь люди не знали своих соседей, могли жить под одной крышей и совсем не знать друг друга. Тот же Майкл, дядин слуга, рассказывал Чики, что если даже человек станет умирать у себя дома, то рядом, в другой комнате, сосед может слушать граммофон и не знать, что происходит у него за стеной. Этого уж Чики совсем не мог уразуметь.
Но время шло, и через несколько месяцев Чики чувствовал себя в городе как дома. Он подружился с ребятами в школе, и лучшим его другом стал мальчик одного с ним возраста, по имени Сэмюель. Он хорошо играл в футбол и в игре мог обвести любого. А когда он особенно отличался во время школьных матчей, болельщики аплодировали ему и громко кричали: «СМОГ! СМОГ!»
СМОГ – это прозвище. Полное его имя было Сэмюель Мадука Оби, и прозвище ему дали по начальным буквам. А когда он стал настолько грамотным, что узнал про свои инициалы, то сразу же прибавил к ним еще и букву «Г». Для краткости эти четыре буквы могли сойти за пожелание себе удачи или счастья: Спаси Меня, О Господи.
Чики тоже научился играть в футбол, но ему не понадобилось прозвище. Чики есть чики[7]7
Chick (англ.) – цыпленок; птенец.
[Закрыть]. Он так и писал свое имя на обложке учебника: Chick.
От Смога Чики впервые услышал о том, что через реку Нигер, к которой мать заклинала его близко не подходить, можно запросто переправиться туда и назад. Смог делал это много раз на пароме.
– Нужно всего шесть пенсов в один конец. Плевое дело, – сказал ему Сэмюель. – Понял?
– Понять-то понял, только у меня нет шести пенсов, – ответил Чики.
– Что?! – удивился Сэмюель. – У такого большого парня, да чтобы не нашлось шестипенсовика? Мне стыдно за тебя!
Чики самому было стыдно. И чтобы не показать этого приятелю, он соврал:
– То есть вообще-то деньги у меня есть, но хранятся у дяди.
– Тогда проси у него шиллинг. Какой толк от денег, если их нельзя тратить?
– Время сейчас неподходящее, – ответил Чики.
– Время! Время не ждет! – Сэмюель повторил любимую английскую поговорку их школьного учителя. – Время! Через реку строят мост. Его построят быстро, и тогда парома не будет.
Чики сам слышал про мост, но слова Сэмюеля задели его за живое, и он помрачнел.
Через несколько дней школьные приятели снова завели разговор о реке. На этот раз они говорили об Асабе – городке на другом ее берегу.
– А знаешь, – начал Сэмюель, – как только ты сойдешь с парома в Асабе, то сразу очутишься в Западной Нигерии.
– Да ну?
Ребята сразу воодушевились. Ведь они все уже успели побывать по ту сторону.
– Да, да. И еще учти, – сказал один из них – его звали Эзекиел, – что от Асабы есть шоссе до Лагоса!
– О, Лагос! – воскликнул Сэмюель.
– Второй город после Лондона. Я, правда, не бывал в нем. Но Асаба – это уже почти Лагос, недаром ее называют «Лагосом бедных».
Ребята засмеялись. Они уже привыкли к тому, что Сэмюель любит подражать взрослым, особенно в разговоре, им это нравилось.
А мысль Чики была в это время уже далеко – в Западной Нигерии. Он любил необычные и красивые слова: Западная Нигерия, «Сон в летнюю ночь», остров Мэн…
Дядя у Чики оказался строгим и серьезным мужчиной. Он мало говорил, почти не смеялся – разве что когда пил пиво или пальмовое вино с соседом, мистером Нвана, или с кем-нибудь из своих немногочисленных приятелей. И ему очень не нравилось, когда Чики играл с товарищами у него в доме. Он называл это «пустой тратой времени» и считал, что детям школьного возраста больше пристало зубрить правила и решать задачки. Их сосед, мистер Нвана, был полностью с этим согласен и своих собственных детей держал в великой строгости.
А у Чики было свое мнение на этот счет. Оно совпадало как раз с другой любимой заграничной поговоркой их школьного учителя: «Мешай дело с бездельем – проживешь век с весельем!» Чики даже захотелось сказать о ней, и об их учителе, и о своем заветном желании дяде, но он все не решался. Но в один прекрасный день, это было субботнее утро, он наконец решился. Подошел к дяде сзади, тот брился, и прямо, без обиняков попросил у него шиллинг. Дядя как был с маленьким зеркальцем в левой руке и опасной бритвой в правой, так и обернулся к нему намыленной щекой.
– Для чего тебе понадобился шиллинг? – строго спросил он.
– Я хочу на пароме переправиться в Асабу, пока не построили мост! – с отчаянной решимостью выговорил Чики.
– Ты что, с ума спятил? – воскликнул дядя раздраженно. – Марш отсюда! Ну, что ты стоишь? Я считаю до трех: раз! два!..
Чики не стал ждать, пока он досчитает.
Целую неделю после этого он ходил с глазами, полными слез.
А вечером того злополучного дня дядя рассказал о просьбе племянника своему соседу, мистеру Нване. Тот от неожиданности опустил на стол стакан с вином. Ну и смеялся же он!
– Да что там Асаба – это же рукой подать! Махнул бы сразу в Лагос, а?
Дядя был не женат, поэтому всю домашнюю работу делал слуга Майкл: ходил на рынок, топил плиту, готовил еду, стирал белье и гладил его. Чики помогал ему мыть посуду после еды и изредка подметал пол. Они жили втроем в двух комнатах. Дядя занимал ту, в которой находились большие сундуки и чемоданы и еще кухонная посуда, которую каждый день после ужина ставили под его большую железную кровать. Во второй комнате стояли круглый стол, стулья, громкоговоритель на подставке в углу, этажерка и другие вещи помельче, которые можно было и не принимать в расчет. На стенах висели фотографии. В этой комнате спали Майкл и Чики. На ночь они отодвигали стол и стулья к одной стене и стелили на полу свои циновки. Чики поначалу не понравилось спать на полу, и он стал было тосковать по бамбуковой кровати в хижине матери, но потом привык. И еще ему не нравилось многое. Например, клопы. Время от времени Майкл опрыскивал керосином спальные циновки, но через два-три дня клопы появлялись снова. Еще его угнетало количество жильцов в доме. В десяти комнатах жило в общей сложности более пятидесяти человек – мужчин, женщин и детей, и эти незнакомые люди постоянно ссорились между собой. Из-за дров, из-за очереди на уборку двора, ванной и отхожих мест. А таких огромных мух, таких жирных синих мух, что изводили Чики в городе, в его родной деревне Умуофии он сроду не видел. Он чуть было вообще не разочаровался в городе из-за этих мух. Конечно же, не все было противно Чики в Онитше. По субботам Майкл ходил на рынок за провизией. Иногда он брал с собой и Чики, тот помогал ему нести домой полные сумки. Эти походы не были Чики в тягость. Пока Майкл торговался, он убегал к реке и смотрел, как она мирно несла свои воды в океан. Или с интересом наблюдал за рыбаками, которые на своих каное бесшумно сновали по глади воды. Или подглядывал за жизнью обитателей плавучих домов – баркасов с крышами из пальмовых листьев.
Но больше всего Чики любил смотреть на паромы. Они казались ему огромными. Он и представить себе не мог, что по воде можно пускать такие громадины. А школьный учитель говорил, что в Порт-Харкорте и Буруту есть корабли и побольше. Но Чики и речные паромы казались невероятно огромными. Чем больше он смотрел на них, тем больше ему хотелось попасть в Асабу.
Чики был так увлечен поисками денег для своего путешествия, что чуть было не влип в историю. И все благодаря Эзекиелу. Мять Эзекиела торговала тканями на онитшском рынке, и, видно, у них в доме деньги не переводились. Но она оказалась недальновидной матерью, потому что позволяла сыну делать все, что вздумается. Чего другого, а нужды он не знал. В доме было трое слуг, которые выполняли всю тяжелую домашнюю работу, и мать лишь изредка заставляла детей вымыть посуду или набрать воды у колонки, и то дочерей. Эзекиел дома ровным счетом ничего не делал и под конец превратился в лживого, бесчестного малого. Если ночью он тайком залезал в кастрюлю с супом за куском мяса или рыбы и к утру суп прокисал, мать наказывала слуг, а Эзекиел только мерзко усмехался.
Мало-помалу Эзекиел начал таскать у матери деньги. Вначале мелочь – на сласти или земляные орехи, а то и на пачку заграничного печенья или на банку консервированного мяса с булкой, которыми он охотно угощал на переменах друзей. Что и говорить, такой форсистый парень был популярен среди школьников. Его называли «молоток-парень» и считали великим человеком. Конечно, никто понятия не имел, откуда у него деньги.
И вот однажды Эзекиел совершил действительно из ряда вон выходящий проступок.
Он раздобыл адреса трех своих сверстников в Англии, которые хотели завести переписку с нигерийскими мальчиками и девочками. Всем троим он написал письма и попросил их прислать ему: одного – деньги, другого – фотоаппарат, третьего – пару ботинок. В последнее письмо он вложил даже вырезанную из бумаги мерку своей правой ступни. Взамен каждому пообещал леопардовую шкуру. Ясно, что в тот момент он и не думал о выполнении своего обещания, тем более, что ни леопарда, ни леопардовой шкуры в жизни не видел.








