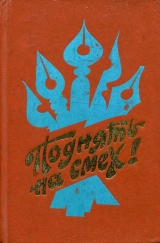
Текст книги "Поднять на смех!"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
ДВОЕ В ГОСТИНИЦЕ
Судьба свела их в одном номере гостиницы. Оба были как на подбор: рослые, широкоплечие – кровь с молоком. Зато одежда их заметно разнилась.
На одном был затертый мышиный пиджачок, коротковатые мятые штаны, стоптанные сандалеты. На другом – импортный вишневый костюм-тройка, ослепительные новенькие ботинки. Да еще толстое золотое кольцо на пальце. И вид – самоуверенный и вальяжный.
– Не сочтите за бестактность, – сказал первый второму. – Вы, я вижу, работаете, на большой должности?
– Почему вы так решили?
– Ну как же, – человек в мышиному пиджачке неопределенно покрутил рукой, – одеты с иголочки. Питаетесь в ресторане. На такси, видел я, разъезжаете. Я уж думаю: не министр ли?
– Каждый человек на своей работе министр.
– Не скажите. Я вот и работаю, и зарплату получаю, а в ресторане ни разу не был.
– Что ж так?
– Не тот размах. Лишних денег у меня нет. Можно просто сказать – бедный я.
– Вы молодой, здоровый… Что же у вас за профессия?
– Да я техникум закончил сельскохозяйственный, начал работать по специальности, да, честно говоря, не понравилось мне. Трудно показалось. Ну, и перешел в сторожа.
– А так не бывает, дорогой, – сказал шикарно одетый, – чтобы и легко, и зарплата большая.
– Вы меня не так поняли. Я работы не чураюсь. Пожалуйста, готов работать днем и ночью, но чтобы уж иметь приличные деньги. Вот как вы, например.
– Ну, это другой разговор. Тут я, пожалуй, смог бы вам посодействовать… Да чего там, хотите – возьму к себе?
– И что – действительно смогу хорошо получать?
– Да уж не обижу.
– А все-таки? Поконкретнее бы.
– Ну, как минимум – пятьсот.
– Пятьсот! Шутите! Такой зарплаты-то и не бывает.
– У кого как, – усмехнулась вишневая тройка.
Мышиный пиджачок задумался. Потом зачем-то оглянулся и, понизив голос, сказал:
– Если вы насчет того самого…
– Не понял.
– Ну, всякие там левые делишки – это не пройдет, сразу вам говорю. Я привык спать спокойно.
– Все по закону, уважаемый! Правда, насчет спать спокойно… Как вам сказать…
– Давайте начистоту. Я согласен при такой зарплате на любую работу, но чтобы все по-честному!
– Начистоту так начистоту. Послезавтра закончится совещание, и могу взять вас с собой. Я старший чабан колхоза. Мне нужны молодые, здоровые помощники. Жильем обеспечим. Ну, бывает, ночку-другую и не поспишь, работа хлопотливая…
– Безобразие! – сказал пиджачок. – Дуришь мне мозги столько времени! А я-то уши поразвесил! Министр!
Он гордо вышел, хлопнув дверью.
«Министр» засмеялся.
Перевод с лакского С. Спасского.
ДИБАШ КАИНЧИН
«МЮНХАУС» КАКТАНЧИ
– М-м, значит, едете в город учиться? Хорошо, ребята, хорошо. Мой шурин Тодор даже мне советует, говорит: «Смотри, и я учусь. А как? Очень просто: поглядит учитель на мою старую, в снегу голову и сам не заметит, как поставит «трояк». А у вас, молодых, все козыри в руках. Этот, чернявый, оказывается, браток мне – я ведь тоже из рода сеок тодош, там каждый в один присест девять чашек ячменного супа-кёчё выхлебывает, девять раз за ночь до ветру сходит. Вот какой народ!.. Зовут меня Кактанчи. Отца – Тулай. Охотник. Стрелок он, прославленный на всю округу, ни одна его пуля на землю не упала, ни разу ни камня, ни дерева не коснулась – всегда в цель попадала. Можете судить, какой он был охотник, если даже сыновьям имена такие дал: Стрелок, Следопыт, Силок, Гон, Засада, Дележ. В общем, назвал так, чтоб зверю, попавшему братьям на глаза, ни уйти, ни ускользнуть нельзя было, а тем более ни перехитрить их. А я самый младший, последний, к тому же, как говорят, до срока родившийся, Кактанчи…
Чабан я. Все возле овечек. Сюда, в эту столицу аймака, приехал вчера утром. Привез шкуры кобылы и бычка. Сдал… Ну, это только так. По-настоящему-то приехал потому, что вернулись на каникулы дети, и мне теперь дома делать нечего. Они сами со всеми делами справятся. Ведь такие случаи в году не часто бывают, вот и решил прогуляться.
Э-э, а теперь хожу сам не свой, как говорят: ни якши, ни яман. Это потому, что старые друзья мне встретились, да новых еще завел… Потом вещи попались такие, каких я целый месяц в глаза не видел… а карман как раз был толщиной в два пальца. Э-э… что тут рассказывать. Кажется мне, что возле этой чайной хлопали мои ладони, стукали мои подошвы… Знаете, я ведь сейчас вышел из красных дверей вон той избы, что виднеется в окне… Отпустили. Господи. Христос, тридцать три полена! Долго ли до беды… Хорошо, присудили мне за теми дверями всего десять рублей штрафа. Это мне даже на руку: жене скажу, что тридцать рублей надо отдавать. Только вот всю ночь я двери пинал, а утром смотрю, у пимов подошвы отлетели. Сейчас сижу, а на уме одно: жена моя, Кузунь, этими пимами меня по спине или, по башке огреет. Да и пимы жаль. Хотя и старые, но теплее новых…
Забыл, когда и открывал те красные двери. А вчера – на тебе! – черт мне шепнул на ухо, что ли… Вот в молодости… Э-э, в то время, думаете, от хорошей, что ли, жизни привязал себя к кровати перед гулянкой, чтоб не ходить на нее? Такой был – сам за себя не отвечал… А то ведь как: встаешь утром, ничего не помнишь. Оказывается, избил кого-то… Или не встаешь – это тебя избили… Хорошего в такой жизни ничего нет, ребята. Вот сижу перед вами, а на мне целого места почти нет. Левая рука – перелом, правая – вывих. А с ногами наоборот: правая сломана, левая вывихнута. И шея с вывихом… Это братья постарались. За мои проделки… А на ухо посмотрите – это Сорпо, а еще тестем мне доводится… поставил тавро, как на овечку свою…
Эх, на что я только не насмотрелся! Чего со мной в жизни не случалось! Диких объезжал, холостых усмирял… Да и меня тоже. Вот такой я… Не хочется мне от вас уходить, ребята. Знаете, как говорят, солнцу закатиться, табунщику лошадь потерять, а мне… Ну, так и быть, из того, что у вас на столике стоит, налейте малость. От вчерашнего башка трещит… Вот так… теперь оживу немного… Не нож режет шею молодцу, а пустой карман. Нет, вы не думайте, что я всегда такой… У всякого беру, всякому даю.
Вот о чем я вас еще попрошу… Позвольте мне, пожалуйста, хоть немного… поговорить. Я же человек такой: язык у меня всегда чешется, а в тайге с кем его почесать?.. Перед овцами разглагольствовать надоело. С женой?.. Жене я надоел. Вы автобус ждете, вам все равно делать нечего. А если вы такие парни, которые книжки пишут, то богу молитесь, что меня встретили… Наверное, знаете того старика… Как его?.. Мюнхауса? Мунгауза? Не поверите, я говорю не хуже его. Ведь он, старик Мюнхаус, небылицами народ кормил, а мои истории настоящие. Хоть сейчас поезжайте в Корболу, спросите у любого – подтвердит.
Мне ли не знать свою Корболу? О-о, да я в своей Корболу точно знаю, у какой хозяйки когда корова отелилась, когда отелится, у какой корова заяловела, у какой молока не дает. Ведь без этого не узнать мне, в какой юрте бурдюк полон кислого молока, из которого готовят хмельную араку. А я всегда знаю… Еще один хороший «узнавальщик» был – дядя мой Шуткер. Идет он как-то по улице и замечает: что-то из Деткерова аила густой дым валит. Заходит. И видит: на очаге большой черный казан клокочет. И пар над казаном гуще, чем дым из аила худого хозяина, – никак не видно, что варится. Притом уже завечерело. Садится мой дядя возле очага и давай хозяевам байки сыпать про белого бычка. Мелет он, мелет, потом его байки кончаться стали. А хозяин не снимает с огня казан, даже не помешает свое варево, будто и забыл, что у него на очаге казан стоит. Ведь про него, Деткера, каждый знает: он лучше сдохнет, чем поделится с другим. Да и время-то тогда было такое: с едой туго… В конце концов дядя подумал, что терять ему все равно нечего, и решился: набивает в трубку табаку и тащит из огня головешку – на головешке пламя – прикуривает. Потом, чуть привстав, тычет ею в казан. «Как этого вашего молодца-пострела звать? А того, что сопли по щеке размазал? А ту девочку-красавицу, что за казаном сидит, как зовут?» Головешка светит, и ему, конечно, видно, что в казане мясо варится. Значит, можно сидеть хоть до полуночи – не прогадаешь… Вот так… Ну, что парни, еще по одной? Пусть яман поменьше станет, якши побольше…
Сколько историй, не знаю с какой начать…
Расскажу, как учился. В первом классе два года сидел. Вызовет меня учитель к доске и спросит: «Кактанчи – голова два уха, – скажи, что это за буква?» У меня рот через час первый раз открывается, произносит «а», потом еще через час «у» и тут же закрывается наглухо. Ребята смеялись: «Ну, «а-у» выходит к доске…» А во втором классе оказался даже третьегодником. Учусь я в том проклятом втором третий год, вдруг на тебе – мой класс закрывают, учеников мало. Обрадовался я. Думаю, вот случай, в третий переведут, да где там! Сказали: поезжай в район или в соседнее село за перевалом, там есть второй класс. Я долго горевать не стал, прихожу и сажусь в первый, где начинал четыре года назад. Пока карабкался до пятого класса, у меня уже пушок на губе стал пробиваться. Бросил я это мучение… Но если получше подумать: учеба ли у нас тогда в голове была? Мечтали, как бы чего поесть, потом ни одежды, ни обуви… Утром несусь в школу босиком по инею. По дороге два-три раза коров поднимаю – под ними земля теплая, на ней и отогреваю ноги…
А чем я только не занимался! Кем только не был! И сам стал забывать. Кончил школу, стал конюхом. Весной пас лошадей, летом пас, а в сытую осень колхозные аргамаки-скакуны все, как один, захромали. Начальство допрашивает: «Почему? Как пас? Может, ты контра?» Я только глазами моргаю. А что, вы думаете, было-то? Выгоняю лошадей в ночное; двух-трех, которые получше, заарканю и привяжу. Ночь наступает, и я то на одной, то на другой начинаю скакать. Да еще как! Темень! Перед собой лошадиных ушей не вижу, а схвачусь за гриву, несусь и несусь. Куда, сам не знаю. Батаа, что я в этом находил хорошего? Видно, молодость… Ветреная, шальная, легкая, как кузнечик, быстрая, как рысь, молодость… Жеребец, помню, был – Ребусом его звали, – так и стелется, так и стелется… Теперь я уж не тот… Потом, знаете, любая кляча подо мной сразу же начинает горячиться, танцевать. Верно в народе говорят: какое сердце у всадника, такое и у лошади… Да… А если чуть-чуть разгорячишься, да при этом сидишь на полудиком стригунке, ну, тогда – сломя голову – играй на людских нервах! У-ух… то на одно стремя, то на другое, то на гриву, то на круп. Вот-вот грянешься оземь… А собаки за тобой… Господи! Ведь так убился двоюродный брат мой Йорго. Мчался и ударился головой о телеграфный столб. Только после этого стал мой пыл убывать.
…Ну, потом война началась. Об этом и вспоминать не хочу – опять сниться будет. Меня на ней сразу определили. Говорят: ты из тайги – будешь снайпером. Память фашистам о себе, думаю, оставил… Вернулся. Грудь вся сверкает, звенит. Э, нет, молодцы, вы не подумайте, что я как Элек, мой шурин, нацепил на себя все от значка железнодорожника – хотя он толком и паровоза-то не видел! – до «Матери-героини». Все свои, все заслуженные. Если бы вы меня тогда видели… У кого глаза болели, на мою грудь близко смотреть не мог.
Вернулся домой. Как же человека с такими наградами заставить делать простую работу. Сказали: давай физруком в школу. О, здорово я учил. «Шагом марш!» Некоторые ребятишки не могли понять, где право, где лево. Всего полгода проработал. Сняли… Конечно, снимут – ефрейтор. Да и то перед демобилизацией присвоили… Что делать теперь? Говорят, иди в милицию. Да мне хоть кем. В милиции интересно.
Кем же меня потом выдвинули? Налоговым агентом. Немного поработал, сразу заговорили, что будет из меня толк, а если постараюсь, даже в должности повысят, и тогда мне работать не в Корболу, а в самой столице района. Как назло… тьфу, черт побери! Тогда начальником моим был Зырянов. Русский, однорукий. По-алтайски сыпал даже лучше, чем я. Однажды привез я в район налог и не нашел подводы, чтобы вернуться в Корболу. Вечером иду, встретил Зырянова. «Пойдем ко мне, переночуешь». Постелили мне на полу. Просыпаюсь среди ночи: шум какой-то в горнице. Прислушался: ссорятся мои хозяева. Мне-то что, муж и жена – одна сатана. Лежу. Ругань пуще. Муж жене: ты такая! Жена визжит: ты эдакий! и вдруг – кёк ярамас![5]5
Кёк ярамас! – Черт побери!
[Закрыть] – упало на меня что-то мягкое, теплое и вцепилось когтями в локоть. Перепугался я! Но звука не проронил. Пощупал – котенок… Скинул его с себя, а он опять на меня, царапается, кусается, – играет. Щекотно! Вот-вот захохочу – ох и щекотливый я… Ну поймите мое положение: как же можно мне смеяться, когда хозяева поносят друг друга. Что они подумают? А котенок проклятый никак не отстает. Смеюсь я и смеюсь потихоньку в подушку. Тут он как вцепится в мою голую пятку!.. Не выдержал, взорвался, не помню, что было. Пришел в себя, у мужа с женой тишина. Утром встал, приглашают чаевать. Я отказался, сказал, живот болит, позавтракал в этой чайной, ей-богу, вон за тем столом. Ну, после такого случая какое уж повышение по службе…
Чайную помянул? К слову пришлось. Так уж и быть, расскажу заодно. Нам тогда, наверное, лет по двенадцать было. Пришли мы сюда, сусличьи шкурки сдавать в госторг. Получили деньги. Как миновать чайную? Зашли. Про аппетит и говорить не стоит – верст двадцать отшагали. И тут Ийгуй, друг наш, бросает свою ложку, выбегает на улицу. Удивились мы, выходим, видим, Ийгуй навалился грудью на забор. «Что с тобой?» – «Э-э, ребята, разве не заметили? Ведь в тарелках листы из веника, каким в бане хлещутся». Мы тут же… А что было? Ну, конечно, – лавровый лист…
Выгнали меня, значит, из налогового отдела.
Нет, нет, о работе больше не хочу говорить. Про нее разговор никогда не кончится. Я вам не рассказывал, как секретарил, бригадирил, как был кузнецом, комбайнером… Кем я только не был… Лучше, ребятки, расскажу я вам, как женился. В моей Корболу есть парень. Звать его Командир. Троюродный брат моей жены. Он любит рассказывать молодежи: «Хотите знать, как призываться в армию? Слушайте меня». А я им же: «Хотите знать, как жениться, узнаете, – говорю, – только у меня».
Ну, расскажу, как женился. О-о, выбрать, просеять через сердце-решето всех женщин, чтобы осталась одна, – дело нелегкое, хлопотное, ребята. Все слова, какие есть на свете, выскажете, до самого последнего слова дойдете… Возвратился я тогда из армии. Говорил ведь, грудь у меня сверкает, звенит. Что еще надо для девушки? Как говорится, глаз девичий живет там, где красно и пестро. Попробуйте как-нибудь зимой проехать с возом сена по улице – все коровы увяжутся. Так и девушки за мной. Если говорить правду, конечно, не так… Замечаю я, ходит на гулянки черноглазая, ладная одна. Так танцует, так поет… И глазам моим она понравилась, и сердцу от нее теплее сделалось. Взял я ее в жены. Звать, оказывается, Кожончи – певунья. Сыграли свадьбу. Односельчане от мала до велика – каждый за пазухой свою чашку-ложку несет – все собрались. Барана одного съели, ячменного супу похлебали, арачки немного выпили, попели, поплясали и разошлись. Год прожили, жена моя не сегодня – завтра обрадует меня дитятей. Рад я – земли не чую. Поехал на охоту, свежатины по такому случаю добыть. Возвращаюсь, захожу в свою избушку – что такое? – и холодно, и пусто, и жены нет, а матушка моя ревом ревет. «Что такое, мать?» – «Че-е, дитя мое, – отвечает мать, – сноху мою увез Шалдан, председатель из Еланду, пусть его дети конокрадами станут. Как нам быть, дитя мое?» У меня в глазах потемнело: ведь мы до того дружны были, меж нас и воде не просочиться. Но говорю: «Не плачьте, мать! Что, других девушек нет?»
Через месяц на ойынах-игрищах вижу – рыжая девушка ходит. До того яркая – не говорю, что ночь освещала, но вечером, ей-богу, вокруг нее светлей становилось. Круглая, как матрешка русская, и косы у нее толстые, с мое запястье. Глазам моим она понравилась, и сердцу моему от нее, конечно, тепло стало, взял я ее в жены. Звать, оказывается, Серьга. Односельчане – каждый со своей ложкой, чашкой – опять собрались, еще одного барана съели, поплясали, попели. Год проходит. И опять не сегодня-завтра жена меня дитятей обрадует. Я на охоту: как сидеть без мяса в такое время. Возвращаюсь. Захожу в избушку – так и чуяло сердце: и холодно, и пусто, и жены не видать, а матушка родная опять слезами заливается. «Что такое, мать?» – «И-и-и, дитя мое, – отвечает она, – лучше бы не тебе, а мне такой позор. Сноху мою заместитель, шельмец из Тожонты, Койнодор увез. Что нам делать, дитя мое? Как нам быть теперь?» – «Не горюйте, мамаша, – говорю. – Что, других девушек нет?» Малость еще походил холостяком, потом слышу, приехала к нам учительствовать одна девушка. Сходил я на разведку. Смотрю – вершка на два выше меня. «Зачем мне ее рост, мне она сама нужна», – решил я и, закрыв глаза на рост, взял ее в жены. Звать, оказывается, Илизабет Ивановна, или Сабату. Односельчане не все пришли. Говорят, надоело, сколько можно… Год прожили.. Дело опять до ребенка дошло. Опять я на охоту. Возвращаюсь, вхожу в избу – так и знал – холодно там, неуютно, жены, конечно, нету, а мамаша опять ревмя ревет. «Что такое, мать?» – «И-и-и, дитя мое, – отвечает мать, – твою Сабату увез – тьфу, забыла я, как его, чтоб ни дна ему ни покрышки – ну, тот, из Арынура, который из армии вернулся. Что нам делать, дитя мое, как нам быть теперь?» – «Не горюйте, мамонька, – говорю. – Что, других девушек нет?..» А на душе мрак ночной. Что это за женщины мне попадаются? И почему я им не нравлюсь? Зачем мне надо на охоту ездить?.. Э, молодежь, я же охотник знаменитый, как мой отец! Только в позапрошлом году перестал заниматься этим. Сколько можно красу гор уничтожать. Наверное, это сам всевышний пожелал – потерял я свою пищаль. Отцовское наследство было. Все за спиной носил, потом смотрю – нет на мне пищали. Где я ее оставил, не помню. Искал, но тайга большая… Э-э, если б я еще охотился, зачем бы теперь стал тащиться сюда с этими кобыльими да телячьими шкурами. Приехал бы с белкой, лисицей, соболем. А разных колонков и даже куниц у меня без счету было. Только мяса того зверья, которое я добыл, – наверное, тоже знак всевышнего, – нельзя было касаться огнем. Как коснулось его пламя костра, так, знаю, целый месяц пустой хожу. А плохо же это: судите – добыл косулю или архара, сейчас бы и шашлык сделать, – нельзя! Только варить. А откуда у охотника с собой казан?..
Фу, я-то, оказывается, об охоте, а разговор ведь шел про женитьбу. Где же я остановился? Ага, сказал: «Не горюйте, мамонька. Что, других девушек нет?» Думаю: «Сейчас – какую?» Приходит на ум одна чабанская дочь. На зимовке живет. Обрадовался, что есть еще одна. И-и, говорю, если не мне есть красную ягоду, так пусть ее червяки точат… Прискакал я к ней, но… ничего не вышло, не желает. Что такое? Назавтра прискакал – опять от ворот поворот… Смотрю, лето к осени повернулось. Чего я только не делал, чего не придумывал, чтобы ее заарканить! Чуть вечер, прискачу к ней на стоянку, а когда все уснут, подползу к ее юрте. «Кук-кук-кук-кук, выдь, Кузунь, из аила. Кук-кук, кук-кук, выдь, милая, ко мне». Не выходит. Но долго ли лежать красной лисице в своей норе? Все-таки выскочила! Взял я ее в жены. Всего две-три старухи да столько же стариков собрались на свадьбу… Э-э, что я говорю, с ума сошел, что ли? Не то что корболунские, а весь народ, что живет ближе Арынура, собрался. Тут же десять баранов съели, и не тащился больше никто со своей чашкой-ложкой, потому что жизнь улучшилась. Вихрь от песен и плясок чуть не сдунул мою Корболу из-под горы. Вот так…
Ну, до сих пор живем вместе. Четыре сына у нас и три дочери. Разве другое богатство надо нам?.. Думаете, почему я так упрямо, как дятел, стучался в юрту моей Кузунь? Почему прилип к ней, как сера? Знал, что всегда со мной будет. Вечером приеду домой, она на месте. Судите сами: кто же отважится воровать женщину, в которой один центнер и семнадцать килограммов весу… Три года прошло, как справили новоселье. Но теперь все думаю, что наша старая избушка, хотя она и с казан, не хуже новой. Ведь как переехали в новый дом, в нашей семье ни прибытка, ни убытка… Хочу подать на развод. Только никак не могу отважиться сказать это моей Кузунь – моей Кузунье, если на русский манер, – боюсь ее, ребята, боюсь. А так, как теперь живем, тоже невозможно. Старых законов держится она: нельзя называть по имени моих родственников, а ведь их да ихних тезок, считай, больше полдеревни. Сколько лет живем вместе, не понимаю ее языка! Топор – это имя дяди, поэтому топор она зовет «рубильник». Нож – так звать дядю моей матери – на ее языке просто «режущий». Собака для нее «гав-гав», куры – «кыт-кыт», гуси – «га-га»… Едем на покос, она говорит: «Смотри, смотри – летун зацепил роющего и побежал». Вот и догадайся. Это она сказала, что коршун суслика схватил! И все у нас не так, как у людей. Сколько уже лет держим два чайника. Она пьет чай только грузинский плиточный, а я – индийский байховый. Она ест говядину, а я – маканину. Она постное, я жирное, она пресное, а я соленое. Вот так и живем. Но все же надо сосуществовать: как-никак она мать моих детей.
А однажды она меня, ступившего одной ногой на тот свет, собственноручно вытащила на этот. Пасли мы тогда овец в лесу Тагай. Вышел я утром из аила, а у коновязи – кёк ярамас! – стоит сам Михаил Топтыгин. Я обратно в аил, схватил свою пищаль и, не долго думая, пальнул Михаилу Ивановичу в лоб. А Михаил Иванович как рявкнет на меня. Я в последнюю секунду вспомнил только, что пулю из пищали вытащил, остерегаясь ребятишек. Выходит, холостым угостил… Очухался, вижу – ну, ребята, я всю германскую прошел, даже там такого не видел, наверное, не увижу больше, хоть сто лет буду жить, – сидит моя Кузунь верхом на Михаиле Ивановиче и за уши его к земле прижимает. «У-у, ты, трус с заячьим сердцем! – кричит мне. – Скорей неси «режущий» да покажи, куда его колют…»
Нет, нет, парни, с тем аксакалом, Михаилом Ивановичем, шутки плохи. Было это опять в том же лесу Тагай. Всю ночь дождь лил, потом весь день, и не видно было, что собирается перестать. В аиле сесть стало негде. Да еще Кузунь уехала в деревню за хлебом и солью. Что одному лежать, думаю. Пойду-ка к табунщикам. Перевертываю наизнанку шубу овчинную и шапку, чтобы не промокнуть, выхожу на улицу. Темнеть стало. Лошадь моя – за рекой кедрач был, – видно туда ушла. День мне ее ловить, потом седлать – пешком пошел. Пришел к ним, спят. Один лежит у самого входа в шалаш. Смотрю: Йогорко, тот самый парень, который хвалился каждому встречному-поперечному, что служил в армии в Уссурийской тайге и ловил живьем тигров. Я ткнул его пальцем в грудь. «Отодвинься, парень, войти хочу». Как тут Йогорко закричит:
– Медведь! Медведь!
Ух! В шалаше будто граната взорвалась. Миг – и никого. Кричу, никто не отзывается. Что мне осталось делать? Собрал в шалаш все ихние ружья, повешенные на кедре. Каких ружей там только не было, тут и карабин, чуть не со слезами выпрошенный табунщиками у милиции, и самоделки, и двустволка, заряженная картечью, и малокалиберка. Тепло – и шубы, какие хочешь. Можно блаженствовать. Лег и уснул.
Как только над горами рассвет занялся, появился Йогорко. Босой, без шапки. «Э-э, д-дя-дя К-кактан-чи, – говорит, – к-когда вы пришли? В-вче-ра к-к-нам м-мед-ведь в г-гос-ти п-ппо-жаловал. М-меня ч-чуть не-не с-съел». А я до того не замечал, чтобы он заикался. Слушаю его и будто удивляюсь. За ним прихромал старый Ойбой. «Бата-а, – удивляется он, осмотрел Йогорко, даже пощупал его. – Ты живой, оказывается. Вчера ночью он ведь тебе грудь порвал. Я сам кровь видел. Кактанчи, откуда ты здесь? Скорее чайник ставь для нас, пострадавших. Хоть чаем сердце успокою». Старику семьдесят с годком, да он еще и хромой, а когда бежал – всех опередил. И под конец, когда уже солнце взошло, пожаловали еще два молодца: Карачырай и Сарычырай. Карачырай говорит: «Бежал я, бежал и, когда в животе закололо, полез на кедр. Слышу, за мной кто-то гонится, пыхтит. Надо же, подбегает к моему кедру и карабкается. Не помню как, но уж, наверно, быстрее белки забрался на самую верхушку, сижу тихо-тихо… Уже рассвет скоро, а оно все подо мной сопит. Перед самым восходом ка-ак чихнет! Да это треклятый Сарычырай! О чем только за ночь я не передумал. Смотрите, люди, не поседел я? Сарычырай сидит, раскачивается из стороны в сторону и одно повторяет: «Ой-ой-ой! Ай-ай-ай!»
Э-э, мы, чабаны, табунщики, скотники, как соберемся в тайге, так всю ночь у нас байки. Я же говорил, у меня всегда язык чешется. Только в тайге зуд малость и унимался… Тот старый Ойбой тоже мастак был пустословить. Слова у него так и текут, так и текут, словно бусины по нитке, и конца им нет. Слышали бы вы, как они гнали овечек в Бийск на мясокомбинат, животы бы надорвали. Мой кум Бойдон тоже гнал о ними. Как они спустились в степь, пропал мой кум. Три дня о нем ни слуху, ни духу. У ребят чуть не на палец шеи вытянулись от ожидания. Появился Бойдон и еще спрашивает: «Что сидите, ребята?» Те его чуть живьем не съели. Бойдон по земле ползает: «Простите, ребята, простите. Встретил старую любовь, не то что вас, – бога забыл. Два дня сам буду пасти, сам буду караулить две ночи». Парни согласились, но чтобы он после этих двух ночей еще три дня кашеварил. На том и порешили… Старик Ойбой, так случилось, недоваренным мясом объелся, что ли, четыре раза ночью на двор выходил. Как ни выйдет, замечает: у ворот загона что-то черное, длинное лежит. Живот-то отпустило, дай, думает, погляжу. Оказывается, Бойдон лежит. Храпака задает и губами причмокивает. Тут старик Ойбой снимает с себя тулуп, накрывает Бойдона, наваливается на него и давай мять. «Припугнул, и хватит, теперь не будет спать», – решил старик. А у Бойдона как только рот освободился, так он и заорал: «Не убивай меня, не убивай… Моя янбалит войны… Адин абечка бери». Старик снова навалился на него. «Не убивай, – кричит Бойдон, – два абечка бери!..» Ойбой еще добавил. «О-о, Алтай мой, бог мой, – слышит. – Упсе абечка бери, упсе бери…»
Чего только не случается на белом свете, ребята. Всякое бывает, пока человек живой. Вот тот же старик Ойбой однажды… Сидите, сидите, куда вы? Э-э, автобус подошел. Ну, что ж. Тогда до свиданья! Счастливо вам! Ел-пил, спасибо. Будете в Корболу, заходите ко мне. Спросите, где Кактанчи живет, каждый покажет…
Эх, ушли… А разговор ведь только начали. Рассказать бы кому-нибудь, как я в Кебезени лес валил, как в город ездил, как охотился. А сколько ночей за картами провел и за кого я только девушек не сватал… Было это с моим тестем Тысом. До рассвета он в карты играл. Потом вернулся домой, сел чай пить и вдруг закричал: «Крою твоего червового туза!» и хлоп свою чашку на пол. Э-эх, разговор только начинался!..
Эх, давал я трепака
По улицам Том-Туры.
Девок ихних за бока
Щекотал до дури. Эх!..
Я ездил тогда в район по каким-то своим делам и рассказы Кактанчи слушал, сидя за соседним столом. Недавно опять приехал, вижу: сидит Кактанчи возле двери той же самой чайной. Одет в дорогое пальто черного сукна с серым каракулевым воротником, подпоясан кушаком красного ситца. Новая из лисьих лапок шапка на нем и новые пимы. Никак не сравнить его с тем Кактанчи в брезентовом плаще. Только теперь у него под левым глазом большущий – с печать председателя колхоза – синяк. А другой глаз хоть и без синяка, но заплыл. Очень смешной вид – у него и так глаза узкие. Когда Кактанчи смеется, они совсем закрываются, и он перестает видеть. Рассказывал же он, как работал шофером на полуторке. Бывали с ним такие случаи: едет, едет и вдруг ни с того ни с сего останавливает машину. Это Кактанчи посмеяться захотелось. Посмеется, посмеется – дальше поедет. Потом опять… Разбил он свою полуторку, когда возил в город, в больницу двоюродного дядю Кочурчы, знаменитого на всю округу острослова.
Подошел я к Кактанчи, поздоровался. Не узнает. Да и откуда ему меня помнить. Все равно обрадовался: есть с кем поговорить! Он тут же начинает, словно меня только и ждал:
– Э-э, парень, с того случая лет, наверно, десять прошло. Белковал я осенью в лесу Тагай. Подъезжает к моему шалашу бледнолицый белобрысый человек. Высокий, сутулится, а на лбу у него большущая родинка. Обменялись мы с ним трубками. «Что за человек будете?» – спрашиваю. «Из сеока телес, – отвечает, – с верхней Катуни. Таштанчи я – подкидыш. А вы что за человек будете?» – «Из сеока тодош, – говорю. – Кактанчи я – последыш». Как услышал мои слова тот человек, вижу – броситься готов на меня. Лицо так и покраснело, вены так и вздулись. Швырнул мою трубку и, ничего не сказав, уехал… Бата-а, парень, оказывается, правду говорят: кто детей растит – породнится со многими людьми, увидит небывалые земли. Мой старший сын кончил институт на ветеринара и привез невесту. Родители невесты – с верхней Катуни. Да мне хоть где живите, доберусь. Поехали трое: сватами я и мой дядя Шуткер, свахой моя Йене – жена брата. Дороги туда трудные, крутые, но все же добрались. Заходим мы в избу отца невесты. У меня, кажется, сердце в груди не умещается. Опустился я на колени перед отцом, снял шапку, поклонился. «У большой просьбы ни тайны нет, ни стыда. Воры мы, пришли с повинной». – «А что вы украли-то? Богатство мое в избе все целое, скот в кошаре весь по счету». – «Черноволосое дитя украли мы, черноволосое дитя. Плохого не хотели, украли, чтоб дочь ваша к детям детей прибавляла, к скоту скот умножала. Речи наши – сватовы, колена – зятевы». Тот сидит, как камень, и пиалу, протянутую мной, не берет в руки. Тогда запел я: «Пусть пиала моя, выдолбленная из нароста на березе, покажется вам, отец, вылитой из золота, а арака в ней пусть будет, отец, целебным лекарством. Шелкогривого аргамака выходили вы для нас, отец». Пел я, пел, и вдруг – кыч! – из глаз только искры посыпались. «Не с той ноги плясать пошел! – слышу крик. – Это ты, клейменое ухо, в тайге мое имя разыгрывал? Шутил надо мной! А ну, марш за порог!» Тут уж и я вспомнил. Как же не узнал того бледнолицего, белобрового! А родинку на лбу как мог позабыть! Что делать, повалился ему в ноги: «О-о, отец, пусть у меня детей не будет, Кактанчи мое имя. Не сам так назвался, от родителей имя получил. Нет у меня другого имени, нет!» Как услышал это он, так и схватил мою пиалу, выпил до дна… Три дня держал – никак не отпускает. Угощает, потчует. А сам все поет: «Чай ароматный, чай индийский, как бы не перекипел он. Сват мой, издалека сват мой пришел, как бы худого не сказал…» Песни его и теперь у меня в ушах звенят… Да, такой он, сват мой. Осенью, как выпадет снег, решили вместе поохотиться… А зверья, дичи в тех краях, говорят, полно… От него вот еду. Ну, парень, в воскресенье приезжай в Корболу на свадьбу. Десять баранов режу.









