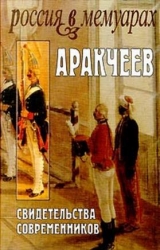
Текст книги "Аракчеев: Свидетельства современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Я молчал, чтобы не ввести его опять в исступление, ибо никто легче его не переходил от умиления… к грубостям и преследованию. Я здесь догадывался, что мне, конечно, хорошо у Государя, когда граф в колкостях изображает свою зависть.
…Надобно отдать графу полную справедливость… у него на все написаны правила и всякому дано место. Кто поверит, что солдату и корове написаны с одною и тою же точностью маршруты для ежедневных их переходов! По моему мнению, излишний педантизм есть мера гибельная, стеснительная и опасная.
Наконец наступил день моего отъезда. Граф, зная, что я небогат и не охотник просить, упредил мои нужды, испросив мне 5000 рублей ассигнациями на подъем, жалованья 8000 рублей ассигнациями и прогонов по 6000 рублей в год, приказав тут же послать за моею женою[479]479
Имеется в виду Мария Алексеевна Маевская (урожд. Возницкая; ум. 1828), первая жена мемуариста.
[Закрыть] и детьми адъютанта. Смешение грубостей с отеческим, можно сказать, попечением) явно противоречило свойству одного и того же человека. При отъезде граф мне запретил начинать какое-либо дело.
Чрез неделю приехал он сам, и с этой минуты начинаются новые сцены.
Чтобы лучше знать характер графа, надобно сперва приблизить к нему слух и внимание. Это вот какой человек: зол, вспыльчив без ограничения, а иногда и до забывчивости, нетерпелив, как дитя; деятелен, как муравей, а ядовит, как тарантул. Ежели ему хочется кого связать с собою (это выражение можно отнесть к одному ему, ибо без сильной цепи не было человека, который бы мог ужиться с ним), то он вначале его ласкает, обнадеживает и дает чины и кресты на словах. Но когда утвердит его на месте, тогда обращается с ним как с невольником и позволяет себе все дерзости. Но чуть кто покажет вид гнева или захочет оставить его, того гонит с злодейскою жестокостью. В этих случаях надежда на Царя, и иногда божественная улыбка его смягчала страдания и отводила душу от отчаяния… Когда ему чего захочется, он употребляет ласки и большие обещания; когда это исполнится, находит недостаточным, и никогда у него не обойдется без шума и неудовольствия. Скорее можно открыть квадратуру круга, чем средний характер графа: у него сто характеров в один день Будучи охотник до мелочей, он вечно занимается мелочью: ссорить подчиненных и, выведывая тайны их, обнаруживать потом их в глаза, делая их непримиримыми врагами. У него шпион и инвалид при его доме, которому иногда дает по 300 лозанов…
Образ мыслей графа столь же странен, как и характер его. Он подозрителен до неимоверности; он не знает различия между людьми и всех считает как одного. Ему кажется, что самое слово человек есть уже злоупотребление; ибо, по его мнению, что ни человек, тот и вор, что вся страсть его – брать и наживаться. Для этого-то он ссорит одного с другим, чтобы оба ему высказали… Но, может, никто в мире не был столько обманут, как граф. Доказательство – собственный его полк или фаворитный Ефимов[480]480
О «фаворитном Ефимове» подробно рассказано в мемуарах А. К. Гриббе (см. выше).
[Закрыть].
В первый день приезда графа к нему никто не является: этот день берет он на успокоение и на осмотр. Ему подают все домашние приборы до десертной ложки, и чуть что-либо запылено или оботрется, с того взыскивает.
Но вот он уже и в Старой Руссе с наперсником своим – г. Жеребцовым, которого можно поставить в одну раму с Морковниковым. Он принял меня ласково и тут же дал кучу письменных комиссий, к свету я их кончил. Граф, читая мое положение о перевозке больных, написал своею рукою: «Исполнить; а чтоб память трудов генерал-майора Маевского оставалась всегда в виду, проект сей хранить в дежурстве». За этим посыпались от него приказания и поручения, которые исполнялись мгновенно и с точностью. Граф в двух-трех местах объявил Высочайший указ сам, а в остальных объявляли Жеребцов, Клейнмихель и я. Граф и устал, и струсил, ибо на первом и последнем ночлеге обставил себя баталионом солдат, а у входа в двери положил Шумского, опасаясь бунта…
Ему набрали до двадцати человек из сопротивлявшихся… которых он при себе велел обрить… Все сомневались в удаче; ежедневные письма к графу показывали общую недоверчивость и опасения…
Меня самого провожали из Петербурга с сожалением, полагая, что я беру на себя весьма опасное предприятие и что оно кончится или моею смертию, или бунтом. Граф наставлял меня, как ребенка, и нарочно при всех, как приступить к делу. И едва он выехал, как я на другой день обрил и одел роту до 500 человек. Донес графу; но граф… меня остановил.
За первый опыт сына моего, Александра, пожаловали пажом[481]481
15 мая 1824 г. А. уведомлял Маевского: «Я желал показать вашему превосходительству мое внимание к трудам вашим, а потому ныне исполнил приятное для меня дело, определив старшего вашего сына в пажи» (Граф Аракчеев. С. 269).
[Закрыть], а его Шумского – Государь пожаловал флигель-адъютантом.
Через 3 недели я обрил и одел еще 1500. Я бы сделал это в один день, но граф меня расстанавливал.
В июне 1824 года был смотр 1-й гренадерской дивизии, куда был приглашен и я. Граф встретил меня сухо, а чрез полчаса потребовали меня к Государю. Я подал рапорт. Государь, рассматривая оный, сказал; «А! у тебя за 30 тысяч под ружьем».
Я: «Государь! больше, нежели армия Миниха и Румянцева»[482]482
Миних Бурхард Христофор (1683–1767) – граф (1728); генерал-фельдмаршал (1732), во время войны с Турцией 1735–1739 гг. главнокомандующий Днепровской армией, численность которой составляла ок. 60 тыс. человек. Румянцев Петр Александрович (1725–1796) – граф (1744); генерал-фельдмаршал (1770), в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. командовал 2-й армией, насчитывавшей 35,5 тыс. человек. Таким образом, Маевский явно преувеличивает свои заслуги в приумножении числа военных поселян.
[Закрыть].
Государь (улыбнулся): «А каково у тебя?»
Я: «Государь! Баталион уже обрил и одел».
Государь: Как баталион? Я слышал одну еще роту».
Я: «Нет, Государь, четыре; прежде одну, а за вчера три».
Государь: «Знает ли об этом граф?»
Я: «Я имел честь доносить его сиятельству».
Государь: «Хорошо. У тебя это идет очень успешно».
Я: «Кто имеет счастие иметь учителем вас, Государь, и графа Алексея Андреевича, тому не трудно никакое предприятие».
Государь: «Но ведь всякий достигает своими способами; твои – превзошли мои ожидания. Я тобою очень доволен и надеюсь, что ты еще больше окажешь усердия и оправдаешь мою доверенность».
С этим я откланялся и вышел, а граф во все время стоял у дверей и подслушивал разговор. Увидя меня, сказал: «Я тобою очень доволен и всем тебя хвалю. Спроси у них», – показывая на Дибича и других царедворцев.
Я во все 7 дней имел счастие обедать у Государя. Но тут были два штрафные генералы: Сент-Лоран и Рылеев[483]483
Рылеев Михаил Николаевич (1771–1833) – генерал-майор (1812), в 1820–1823 гг. бригадный командир поселенных батальонов 7-й, 8-й и 9-й пехотных дивизий; с 1824 г. – отрядный командир поселенных войск, расположенных в Могилевской губернии; генерал-лейтенант (1826), с 1829 г. комендант Новгорода. О его служебных провинностях сведений найти не удалось. Генерал-майор де Сен-Лоран (Десентлоран), бригадный командир вторых батальонов 4-й пехотной дивизии, в 1821 г. подвергался взысканию по следующему поводу. Состоявшие под его командованием батальоны прибыли с Украины в отряд поселенных войск Новгородской губернии; генерал-майор Угрюмое после инспекторского смотра нашел их состояние неудовлетворительным: «Оно заключает в себе неограниченные неисправности <…> в одежде и во всех частях, совершенное необразование <…> во фронтовой службе и многие претензии нижних чинов. Ни в одном баталионе пригонка амуниции не уровнена, ни один баталион не имеет порядочных чехлов на киверах; во всех они не годны, а Костромской баталион и вовсе их не сделал. – Одним словом, время двухлетнего пребывания сих баталионов в отряде Слободско-Украинской губернии совершенно потеряно». За подобную «непопечительность» Сен-Лоран получил от А. «строгий выговор в известность всего корпуса»; кроме того, было приказано не производить ему столовых денег до тех пор, пока в комитетах полкового управления не будут удовлетворены все претензии нижних чинов батальонов «в неполучении ими заработных денег за разные работы, произведенные ими в округах поселения Чугуевского и Таганрогского уланского полков» (Приказы—1821; 26 сентября; выплата столового содержания Сен-Лорану была возобновлена приказом от 10 ноября).
[Закрыть]. Первый призван был для практического нравоучения, второй – для познания службы военного поселения. Они так были несчастливы, что ни разу не удостоились быть за Государевым столом. Я чувствовал мое преимущество и какое-то особое к себе уважение графа. Без сего последнего и моя участь не была бы выше Сент-Лорана и Рылеева.
Государь по большей части подзывал меня к себе на учениях, называя Уже не Маевским, но Сергеем Ивановичем и говоря о разных эволюциях гвардии, при конце почти смотра спросил: «Как ты надеешься на дальнейшие успехи?»
Я: «Надеюсь, Государь, что конец будет отвечать началу».
Государь: «А не выйдет ли чего?»
Я: «Нет, Государь; за это, кажется, смело можно поручиться; но только позвольте мне употребить мое средство».
Государь (изумясь немного): «Какое?»
Я: «Ассигновать на баталион по бочке водки».
Государь: «А это на что? Ты знаешь, я не люблю такого рода употреблений». (Государь ненавидел пьянство и не любил табачников.)
Я: «Государь! Я вот как поступаю: ставлю бочку водки и без предисловий говорю: кто хочет пить водку, тот скорее одевайся! В четверть часа тысячи обриты и одеты и с песнями идут домой солдатами». (Я точно так поступил со всеми 30 тысячами.)
Государь: На этих условиях я согласен. Скажи графу. Но не будет ли тут нового беспорядка?»
Я: «Нет, Государь, за это я уже отвечаю».
Приехав в Руссу, я в 11 дней обрил и одел 27 тысяч человек. Графу это было очень неприятно, и он при первом свидании вот что мне сказал: «Ты скоренько все делаешь: ты везде спешишь и хвастаешь. Ты думаешь, что ты одел людей? Нет – я! Что тут удивляться: «сила солому ломит». Я пять лет трудился и готовил их к повиновению и покорности, а ты думаешь, что ты все сделал сам по себе. Знаешь, что я с тобою сделаю? Разотру, как пыль! Я не таких учил, как ты: гог-магоги, да и те не смеют идти против меня! Меня Европа, вся Европа трепещет! Ко мне Бог милостив. У меня один только остался злодей – Гурьев, да и тот, слава Богу, околевает. Нет, брат, нет! мне не надо скороспелок. Мне надо такой помощник, который бы не умничал, а исполнял слепо мои приказания. Пусть он будет дурак, лишь бы делал только то, что я велю».
– Ваше сиятельство! Я полагал, что в таком случае скорость есть первое счастливое средство. Если в войне должно пользоваться первою удачею, то здесь всего более надобно воспользоваться первыми впечатлениями и не дать времени простыть и обдумать средства. Впрочем, я думаю, что у вас не может быть дурак подчиненный; ибо для того только, чтобы постигнуть вашу волю и уметь ее исполнить, надобно быть умному человеку.
Граф, успокоившись этою лестью, оставил колкости, но не мог простить мне моего успеха…
Граф, при каждом виде на мое поселение, находил все не так, ко всему придирался и повторял, по крайней мере, сто раз: «Ты думаешь, что ты это сделал…»
Граф во весь этот год нарочито часто ездил в Руссу… ибо его присутствие было необходимо…
К обнажению характера графа расскажу собственный его разговор. На смотру Царя опоздали войска выйти на плац. Граф сердился, суетился, рассыпал с приказаниями. И когда собрались, он собрал всех генералов вокруг себя и начал говорить: «Хотя Александр Сергеевич (Шкурин[484]484
Шкурин Александр Сергеевич (1784 – не ранее 1846) – генерал-майор (1820); с 1824 г. бригадный командир третьих батальонов 1-го пехотного корпуса, в 1828–1829 гг. петербургский обер-полицмейстер; командир 3-й пехотной дивизии (1830–1837).
[Закрыть], командир сих войск) и приятель мне, но я и его не пощажу, отдам в приказе по корпусу… Представьте вы себе: я посылаю к Шкурину, а он еще в шлафроке. Я, я – граф Аракчеев, давно уже одет, а он еще нежится! Да у вас и у всех, господа генералы, такая же привычка. Вы отдадите приказ – вам скажут: «Этого нельзя», – и вы приказ уничтожаете. Но если бы вы поступали по-моему, тогда бы беспорядков не было. Бухмеер ведь друг мой и однокорытник по корпусу, но вот что я сделал с ним: отъезжая в Виттово поселение, я отдал приказ, чтобы он заступил мое место. Бухмееру показалось это тяжело и свыше его сил; он сказался больным. Я призвал его, уговаривал, и ничто не помогло! Я еду к Государю и прошу выключить из службы Бухмеера.
Государь остановился и говорит:
Помилуй, граф, он так давно и хорошо служит. Не лучше ли отставить его с пенсионом?
Воля ваша, Государь, я отдал приказ и ни за что его не переменю. Ежели вам не угодно исполнить просьбы моей, так я уж больше не служу.
Государь, подумав немного, сказал:
– Помилуй, граф, сделай с ним, что хочешь, кроме выключки из службы.
Я посадил его с фельдъегерем и отправил в Чугуев!»
Граф сказал нам это с намерением, чтобы доказать свое могущество и… после этого прикусишь язык и, конечно, не захочешь скакать на повозке!
За опоздание войск Шкурину был выговор, а четырех офицеров граф хотел посадить в крепость, но его упросили, и он выписал их в дальний гарнизон.
Граф был самолюбив, и ему казалось, что природа подарила совершенство одному ему; прочих он считал ниже скотов. В одно время расспрашивал он у меня об армейских генералах. Я описывал их достоинства, а когда коснулось В[итта] и я сказал: «Он храбр». – «Что ваша храбрость, подхватил граф, – вот напиши это, – показывая на свои проекты и приказы, – тогда будешь храбр!»
Полк свой считал он совершенным, хотя он далеко был ниже других; назвать его посредственным, даже равняться с ним в глазах графа было преступление. Полк этот составлялся из всей армии, и, конечно, в руках другого он был бы первый в России, Тогда был в моде Семеновский полк. Государю было угодно, чтоб мы были у развода его. После ученья граф спрашивал у нас, как этот полк в сравнении с его? Кто же скажет правду! и натурально, мы отдали справедливость графскому. Граф передал это Государю. Но Государь не согласился с нашим мнением. Да и действительно, в Семеновском полку была особая благородная свобода в движении, ловкость и развязка, пленяющая взор, а графский был… очень обыкновенный[485]485
Ср. с другим воспоминанием, относящимся к более раннему времени: при входе русских войск в Париж в 1814 г. «самый лучший <…> из гренадерских полков Аракчеевский шел впереди» (Петров М. М. Рассказы старого воина об его службе // Москвитянин. 1843. № 6. С. 495).
[Закрыть].
Граф, вводя меня в поселение, приказал привесть из Новгорода в Старую Руссу учебный свой баталион, дабы я принял его правила. Но баталион этот так был дурен, что граф, разбранив всех, полковника арестовал…
Отделавши всех, граф принялся за меня.
– Помилуйте, ваше сиятельство, – говорил я. – Я тут не принимал никакого участия, вы сами изволили отдавать приказания, и следственно, я на свой счет ничего не беру.
– Но у тебя нет вовсе военного глаза, и т. д., – говорил граф. К несчастию, мимоходом попался ему генерал-майор Кузьмин, которого считал он добрым дураком.
– А ты чего же смотрел? – говорит ему граф. – Ты давно у меня уже в поселении и знаешь мои правила. Пожалуйста, ваше превосходительство (обращаясь ко мне), сажайте его чаще на гауптвахту, а я и Государь скажем вам за то спасибо.
В июле 1824 года граф смотрел мой учебный баталион. Баталион учился отлично. Клейнмихель не скрыл его достоинства, и когда граф был восхищен, то и Клейнмихель вторил: «Прекрасно! Посмотрите, ваше сиятельство, с какою аттенциею[486]486
Аттенция (от фр. attention) – внимание, тщательность.
[Закрыть] делаются построения».
Граф после учения на плацу обнял меня и сказал:
– Ты у меня не только хороший хозяин, но и мастер фронтового дела. Государю скажу. Я от него ничего не скрываю.
Граф обедал у меня: был с визитом у жены моей и подарил обоим нам особое свое расположение. На жену мою возложил ввести в городе веселости и оживить дух города, который получал что-то мрачное. Мы дали ему вечер. Он был восхищен, сказав, что он в жизнь свою не имел приятнее этого дня и что он в Старой Руссе оживает и перенесет сюда свою резиденцию… Он хотел завесть там серные ванны и привлечь туда всю Россию. Чтоб оказать внимание к столь высокому посетителю, я спросил его, кого ему угодно будет видеть у меня гостей.
– По мне, кого хочешь, – отвечал граф, – я и с волками уживусь.
Обхождение графа было по большей части грубое, дерзкое; оно было нестерпимое. Но он, от недостатка образования и от излишка счастия и власти, вовсе того не примечал. Напротив, всегда думал, когда он кого бранит, то это значит – учит. Посему он всякому, кого бранил, говаривал:
– Ты мне должен быть благодарен за это, ибо я тебя учу добру. Слушайся только меня и делай так, как я приказываю, ты будешь счастливый человек.
Граф всегда противоречил самому себе: письменно приказывает, как государственный человек, а словесно велит делать, как деспот. Кто его послушает, он сам же после отречется и наделает тьму неприятностей; не послушаться же графа – значит быть уже без вины преступником. Когда один раз был он недоволен (а это бывало у него в час по десяти раз), он начал мне говорить:
– Когда бы я был на твоем месте, я не то бы сделал: я сделал бы то-то и то-то.
Я знал, что графу хочется ввести меня в грубую ошибку, выставить ее пред Царем и потом, в виде милости, простить. Я ему отвечал: «Ежели ваше сиятельство письменно прикажете мне обрить митрополита, я не остановлюсь ни на одну минуту; но ежели дадите приказание под рукою, я ничего исполнить не осмелюсь, ибо после сами же, ваше сиятельство, повторите любимую вашу пословицу, что вы не Бог, а человек и что вы легко могли ошибиться. Но я, как местный начальник, должен был все сообразить и не поступать против рассудка…»
Ежели кого он бранит и тот после признается в небывалой вине и просит у графа прощения, того он называет «умным и славным человеком». Но беда кто спорит, беда кто даст себе сесть и на шею! Тут надобно среднее искусство: «лисий хвост и волчий рот», как говорит пословица.
Характера этого довольно бы было для того, чтоб в графе видеть Аракчеева. Но это было бы еще простительно в частности. Но он в целом разрушал целое. Например, в малороссийском баталионе, при 2000 поселянах, начал бранить начальников без всякой вины и, обращаясь к поселянам, говорил им; «Видите, как я с ними поступаю[487]487
Один день, говоря со мною о хозяйстве, вывел меня из кабинета к представлявшимся офицерам. Вот чем он начал: «Послушайте вашего генерала… Ежели бы я его слушал, то б пропали вы и все ваше поселение. Я знаю армейскую вашу привычку: вы все любите воровать и брать взятки; ты не возьмешь, так возьмет твоя жена» и т. д. Вот характер великого человека.
[Закрыть]? Ежели бы не я, у вас давно бы гнили спины от палок; молите Бога за меня. Не слушайте их и пишите обо всем ко мне – я ваш покровитель! Но когда меня не станет, тогда вы меня вспомните и не раз кулаком утрете слезы».
Между тем требует от начальников порядка и исполнения до деспотизма, и за проступки поселян часто подвергает их аресту. Такое вероломство во всякой другой нации произвело бы бунт и несчастие. Граф как будто поклялся ставить одного против другого и с намерением всегда искал просителей, чтобы, по его мнению, знать все и истреблять злоупотребления, упирая в глаза, что от него ничего не скроется. Жалобы эти не касались до маленьких властей, а относились к высшей, и следовательно, жаловались ему – на него. И граф обыкновенно оканчивал их наказанием самого просителя. В другой раз граф бранил генерала Чеодаева[488]488
Чеодаев Михаил Иванович (ум. 1859) – генерал-майор (1821); с ноября 1824 г. на службе в отдельном корпусе военных поселений, в 1825 г. командовал 2-й поселенной бригадой 2-й гренадерской дивизии.
[Закрыть] по того, что у него от слез сделались сильнейшие судороги. Поступок этот был в присутствии целой бригады. Я подошел к нему и говорю:
– Ваше сиятельство, генерал Чеодаев, полагая, что вы на него прогневаны, плачет, как ребенок. Утешьте его хоть немного!
Граф: «Это ваше дело. Ведь я его учу не к злу, а к добру. Вы бы ему растолковали, что граф – милостивый и справедливый начальник и желает вам же добра, а потому и учит. Но ежели он считает это обидою, так он ошибается. Я бонжурить[489]489
Бонжурить (от фр. bonjour – добрый день) – окказионализм А., означающий, видимо, «быть светским и любезным человеком».
[Закрыть] не умею, по-французски не знаю, комплиментов не терплю, учился на медные деньги, а взыскиваю и говорю с вами, как умею. За это надобно не сердиться, но благодарить меня».
Я извинял Чеодаева новостию и непривычкою к здешней службе (или лучше к здешнему обращению).
– То-то, – подхватил граф, – у вас в армии гладят вас по головке; вы там все бонжурите да играете вместе в бостон, офицеры тоже; а я этого не люблю, да и тебе строго запрещаю.
Граф, успокоившись, сел в мои дрожки. Чтоб возвратить его к себе, я говорю:
– С вашим сиятельством гораздо легче работать, чем с Петром Андреевичем [Клейнмихелем]. Мы осмотрели уже три роты, а он смотрит еще одну.
Граф: «Ну ведь он делает не по-вашему, а все аккуратно».
– Ваше сиятельство, вы еще больше не пропускали ничего (смотрели и бранились) и уже давно кончили.
Граф: «Ну, я более его сделал навык…»
– Надобно отдать справедливость нашим поселянам; извольте посмотреть, с каким они духом идут поротно.
Граф: «А ты думаешь, ты это сделал? Нет, я» – и т. д., и т. д.
– Я ничего не беру на себя; но чтобы уметь исполнять и собственно волю вашу, на это нужен некоторый ум.
Граф далее говорит: «Государь пожаловал тебе 3000 рублей, и я прислал их тебе по эстафете, а ты пишешь, что тебе даны в долг. Перепиши свою бумагу. Государь тотчас догадается и прогневается».
– После тех милостей, которыми Государь осыпал меня, я не смею просить пособия; а если бы попросил, то не три тысячи, а десять тысяч рублей.
Граф: «А десять тысяч Государь тебе бы не дал».
– А три тысячи я бы не взял.
Тут граф был как-то любезнее и ни слова более не сказал, но переменил разговор, говоря:
– Вы думаете, граф собака, он кусает. А ежели бы вы знали, как мне часто за чуб (это его слово) от Государя достается. Я один раз осмелился сказать Государю: «Государь! Ежели бы я служил черту, и тот бы уважал меня более!» Я уже стар; у меня написан уже и прощальный приказ. Пусть Государь изберет другого помоложе и поспособнее меня, – по мне хоть тебя. Я уеду за границу.
– А нас обрадовал слух, что Государь жалует вас новгородским князем.
Граф: «А на что мне это? Ежели бы это увеличило мою жизнь или ввело в царство небесное, тогда было бы хорошо; но это ни к чему не ведет. От этого я не буду ни святее, ни счастливее; мне эти титлы не нужны. (Потом продолжал.) У тебя пока что идет хорошо. Бог тебя знает, может, ты и атеист; но я не проникаю ни в чью душу, а наружным твоим поведением доволен. Едва ты написал письмо ко мне, я ту же минуту поехал во дворец пред самым выездом уже Государя, и он велел пожаловать тебе 3000 рублей. Видишь, как Государь тебя любит!»
Служа и живя с таким начальником, как граф, у которого поутру одно, а в полдень другое расположение и наоборот, нельзя похвастать равнодушием мудреца и спокойствием духа: они ежеминутно в трепетном, по крайней мере, в горько-нестерпимом положении. Самый великодушный человек под эгидою его управления сделается раздражителен…
Он отдал под суд майора Сухачева. Я положил мое мнение, основанное на истине. Граф сделал мне замечание за слабость мнения, но я в другой раз остался при моем.
Граф требовал щегольства и издержек на украшение фронта. Издержки эти, натурально, падали на собственность солдата. Граф сам это знал и одобрял в тишине кабинета. Но когда невольные злоупотребления случайно обнажались, он преследовал их… так, как будто это делалось самопроизвольно.
Я по делу Сухачева объяснился с графом, говоря: «Ежели обвинять за это Сухачева, то, не разбирая лиц, надо судить начальников всей армии и самого меня. Ибо те тысячи, которые употребляются на украшения, равно везде падают на собственность солдата, под скрытыми, но допущенными видами».
Граф мне на сие отвечал:
– Я и сам твоего мнения. Но пока оно негласно, мне нет дела до того.
Следовательно, граф держался пословицы Ваньки Каина[490]490
Каин Иван Осипович (р. 1718) – московский вор, с 1741 г. – одновременно и доноситель Сыскного приказа.
[Закрыть] «Воруй, да не попадайся»…
Граф возложил на меня составить проект для промышленников-поселян. Я сделал его, сообразно с государственным постановлением, приспособив его к званию поселян и к местным необходимостям, способствовавшим им и отправлять свои обязанности, и заниматься с выгодою промышленностью, обогащавшею край. Граф был другого мнения. Боясь рассеянности поселян и толков их, и наоборот, он хотел сжать весь круг их промышленности в кругу одной Старой Руссы, сделав купцов ее монополистами; привязывая всеми способами купцов, полагал торжеством и то, что они не оставили города. Но я воспротивился его мнению, утверждал, что выгода поселянина-хлебопашца есть первостепенная, выгода купца есть второстепенная. Довольно для него (поселянина), говорил я, когда перекупщик, получая рубль на рубль барыша, не стесняет производителя и не лишает его охоты к трудам и умножению произведений земли.
Когда граф упрекал меня, что я не хочу споспешествовать ему, я сказал:
– Ваше сиятельство требовали моего мнения, я изложил его. За мнение никто не сердится: оно есть свидетельство или истины, или ошибки. Высокие умы принимают только полезное и отбрасывают излишнее.
– Но я не хочу, – подхватил граф, – чтоб поселяне были купцами и заражались другими мнениями. Знаешь ли ты, – продолжал он, – что ничего нет опаснее богатого поселянина? Он тотчас возмечтает о свободе и не захочет быть поселянином. Да и кто же из свободы пойдет в неволю?.. Я не верю их чувствованиям и уверениям.
– Так всего лучше, – сказал я, – не писать положения о промышленности, где тень свободы покрывает яркими красками всю картину невольничества.
– Вы все филантропы, у вас везде свое, а я хочу вести по-моему.
<…> Я должен, впрочем, признаться, что я обязан графу точностию идей моих и глубоким исследованием самого себя. Графу нельзя написать того, чего нельзя доказать анализами, а эту науку приобрел я, служа только с графом. Боясь говорить поверхностно, я стал обнимать основательно, и корень извлечений моих не слабее был кубического корня. Взвешивая каждую мысль, даже каждое слово, я видел сам, что поверхностное знание с глубоким и основательным есть то же, что мрак при молнии с дневным светом, при ярких лучах солнца. Граф подал мне первую о сем мысль двумя родами: первый был тот, что он кучу моих предположений проходит со мною сам и на каждый предмет требует неопровержимых доказательств. После чего кладет решения собственною рукою, что можно видеть в штабе Старорусского военного поселения; второй – тот, что граф сильнее рассматривает безделицы, чем важные дела. В один раз, когда он строго поверял строевой рапорт баталионного командира и исписал его кругом своими замечаниями, вот что он мне сказал:
– Ты скажешь, что граф занимается такими пустяками посреди важных государственных занятий, А я тебе скажу, что я важными никогда так не занимаюсь, как пустыми. Ибо важным занимается и вполне обрабатывает тот, на кого это возложено, а бездельным никто не занимается. Но когда я найду и здесь ошибку, тогда все скажут: ежели граф занимается и видит ошибки в безделицах, то что же он увидит уже в важном деле, которое, конечно, читает он с большим напряжением и вниманием?.. И ты учись этому и делай так, как я делаю.
Отчетность в людях и формы о том так были перепутаны и неудобопостигаемы, что граф от дня издания их не обращал на то внимания. При излишестве требований потребовал он и от меня точного изъяснения его формам. Дело это предоставлено было Клейнмихелю, как созидателю форм, и он сам увидел спутанность, затруднявшую собственное его понятие. Итак, формы переменили по-моему.
Граф имел злую привычку, минуя начальника, обращаться непосредственно к его подчиненным. Адъютанту моему прислал он собственноручное повеление, требуя ответа в его действии, Адъютант в испуге принес эту бумагу и, по словам моим, отвечал, что он только исполнитель, но что все пишу и действую я. Граф, увидевши меня, говорит:
– Для чего ты по моему предписанию все принял на себя? Чтоб скрыть адъютанта? Я этого не люблю. Эго значит потворить и баловать подчиненных. Ты бы сказал, когда граф находит тебя виноватым, то ты уж должен быть виноват.
– Ваше сиятельство! Такой способ выведет только подчиненных из подчиненности, и когда я буду что приказывать, то никто меня не послушается, не зная, худо ли, хорошо ли это делается. Я и так едва успел покорить общий отзыв: «Я не смею, граф за это меня арестует». Ежели мой подчиненный будет делить себя между исполнением моего приказания и ответов за то пред вами, то всякий будет уже в зависимости вашей, а не моей. И что тогда будет с лицом, на которое падает общая ответственность?..
Граф три раза велел мне упущенное исправить на счет баталионных командиров, Я взял вину на себя, ибо ее не было, и заплатил 300 рублей. Граф почувствовал несправедливость и деньги приказал мне возвратить.
Все мои письма граф читал Государю. В одном ответе граф мне писал: «И Государь изволил заметить, что ты теперь в лучшем расположении духа».
Граф терпеть не мог похвал и наград, я и того, и другого домогался.
Граф говорит:
– Не хвали ты мне никого: я и сам знаю, кого и чем наградить.
– Ваше сиятельство, ежели бы я был вельможа, как вы, тогда бы одного моего слова, одной улыбки довольно было составить их счастие, но как я простой генерал, то мне надобно показать всю мою признательность, чтобы подвигнуть людей к бескорыстному действию и неимоверным трудам, успеху которых сами вы отдаете справедливость.
Граф: «Ну, с этим я согласен. Да я уже и так произвел трех твоих капитанов в майоры, чего я другим не делаю». (Граф никогда не производил капитанов в майоры, чтобы не было лишних штаб-офицеров[491]491
Штаб-офицеры — военные чины 5–8-го классов (от полковника до майора); обер-офицеры – 9–14-го классов (от капитана до прапорщика). Ср. слова А. в письме к Маевскому: «<…> я не согласен с вами на производство в младшие штаб-офицеры капитанов, ибо в моем корпусе по воле Государя Императора принято единожды правило, что капитаны в майоры производятся не по старшинству, а только те, у которых поселенные роты придут в отличное положение, и после представления вашего оная рота будет мною лично осмотрена» (Граф Аракчеев. С. 295).
[Закрыть] и чтоб они не выбыли в армию и тем избавились бы от ужасов поселения.)
Граф, хотя и не хотел, не мог не отдать справедливости Старорусскому поселению. Оно в полтора года, как будто волшебною силою, сотворилось в прелестнейшем виде. Все его части имели полный вид совершенства. А что всего важнее, не стоив казне ни копейки, составило собственно своего капитала до шести миллионов, разумея с запасами хлеба и с продовольствием от себя поселенных солдат <…>
В 1825 году, при освящении церкви полку графского[492]492
Церковь была освящена 17 мая 1825 г., в праздник Троицы.
[Закрыть] граф говорит при мне всем, бывшим там, петербургским посетителям:
– Мы сей год сделали такую перевозку плиты, какой у меня еще не было. Вот и он (указывая на меня) никогда мне не верил, чтобы это возможно было так скоро сделать. Мы все это сделали по-военному, как делается в больших армиях.
Это правда, что перевозку прожектировал и сделал я по плану моему о продовольствии молдавской армии. <…>
Еще нечто о святости печатных графских приказов.
Граф предоставил мне сделать план для поселян-работников, не вошедших в строевые округи. Граф переделал план этот по-своему, взяв масштаб с полевых рабочих баталионов, и отдал в печатном приказе. Когда дошло до исполнения, то люди, живущие за 80 верст, должны были, подобно волне, сменять одну другою, не оставаясь дома и двух часов. Я арифметически сделал выкладку и поднес графу. Граф рассердился, но, поверяя, увидал, что я еще смягчил выкладку. Тогда, бросив перо, сказал:
– Я ведь не учитель арифметики, а учился ей просто для себя. Но печатного моего приказа ни за что не переменю прежде двух лет. А ты сделай, как хочешь, чтобы «и волк был сыт, и овцы целы». Понимаешь? Я на это буду смотреть сквозь пальцы.
Я всегда был осторожен и всякое распоряжение посылал к нему, а он своею рукою отмечал: «читал» или «аппробую»[493]493
Аппробую (от фр. approuver) – одобряю.
[Закрыть]. И тогда только, когда имел сей акт, приступал к делу. Это впоследствии спасло меня от великих бед <…>
Государь сам-третей осматривал все здания и устройство полку графа. Это любимое было его общество. Граф так искусно умел показывать, что Государь видел все хорошее…
Государь Александр недаром спешил окончательным устройством поселения. Судьба, конечно, ему шептала: «И век великих не свыше обыкновенного смертного».
Граф часто мне говаривал; «Я не знаю, для чего Государь спешит поселением и хочет открыть еще новое в Ярославской губернии. Он молод, силен и тверд в своей воле, но я стар и не доживу до конца всех этих начал. Я и теперь уже утомился этими работами. Я и Старорусское поселение принял в свою команду только потому, что оно близко и под рукою. Но Ярославского ни за что не приму. Я скорее оставлю службу, чем возьмусь за такое дело, которое погребёт семнадцатилетние труды мои и славу творца поселений. Я люблю видеть все своими глазами, но как же мне скакать в Ярославль и Херсон, имея на шее дела всего государства?» <…>
Вскоре Государь уехал в Таганрог, а граф – в Грузино. Несчастная история с его Настасьей лишила его рассудка. Он проклинал свет, людей и, как уверяют, осквернял уста свои богохулением; отказался от всех должностей и, бегая с окровавленным платком и отрубленными пальцами Настасьи, скрывался от всех более двух месяцев. Время, рассудок и увещания известного архимандрита Фотия возвратили его к себе. Он открыл процесс и запутал в него множество людей.
Этот переворот удивил всю Россию, а особенно меня, которому граф за несколько недель до сего печального происшествия говорил:
– Я вижу, что Бог меня любит. Я не знаю еще случая, который бы огорчил меня. Даже мое Грузино и мой сад поминутно приводят меня в восхищение.
Из этого можно вывесть общее заключение, что человек прежде смерти не может похвалиться своим счастием. <…>
Вечером я явился к графу, и внимание его ко мне еще более удвоилось. Он знал чистую и глубокую преданность мою к Императору Александру, и потеря сего великого Монарха еще более связала наши чувства. На другой день, в пятницу, он был с докладом у Государя и испросил мне Высочайшую аудиенцию – знак особого его внимания и милости Государя. Милость эта тем сугубее была велика, что я один из всех удостоился этой чести.
В субботу, в 12 часов, я имел счастие представляться Государю после саксонского посланника. Отеческий прием Царя увеличил мое счастие и удвоил мою преданность.








