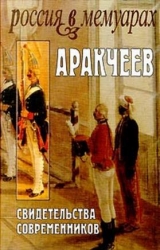
Текст книги "Аракчеев: Свидетельства современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Современному читателю довольно трудно, я думаю, представить себе эту картину: штаб-офицер в эполетах идет по полю за сохою, а за ним плетется целое капральство солдат-поселян!..
Едет граф, видит эту интересную картину, умиляется и, остановившись, спрашивает:
– Что это ты, Федор Евфимович, сам беспокоишься? мог бы, кажется, заставить и помощника своего заняться этим делом.
Евфимов вместо ответа приветствует графа по-солдатски:
– Здравия желаем вашему сиятельству и поздравляем с приездом, которого совершенно не ожидали!
Затем уже Евфимов объясняет, что личное его участие в землепашестве вызывается тем, что многих хозяев надо еще учить, как ходить за сохою.
Аракчеев благодарит его за усердие поцелуем и приглашает к себе в коляску, объявляя, что едет к нему пить чай.
Но Федор Евфимович недолго, однако же, красовался на своем пьедестале. По неразвитости ли, по свойственным ли вообще натуре русского человека нравственной распущенности, самонадеянности и т. п. отечественным добродетелям, но он не мог удержаться на высоте того положения, на которое его подняли фавор и каприз всесильного временщика.
В 1823 году полковой командир делал инспекторский смотр поселенному батальону (то есть 2-му) поротно, начав таковой со 2-й гренадерской роты.
На опросе нижние чины этой роты заявили претензию на своего ротного командира, майора Евфимова, жалуясь, между прочим, на то, что он как их самих, так и жен их жестоко наказывает за малейшую неисправность; что деньги, отпускаемые на продовольствие кантонистов, Евфимов удерживает у себя; что из следующего ежегодно в раздачу поселянам, по случаю падежей рогатого скота[432]432
Скот этот покупался в Архангельской губернии преимущественно известной холмогорской породы и обходился казне довольно дорого. (Прим. Гриббе)
[Закрыть], лучшие особи отбираются ротным командиром и отправляются к нему в усадьбу близ города Валдая; то же самое делается и с овцами; по отчетам же присвоенные себе Евфимовым быки и коровы показываются павшими, а овцы – съеденными волками.
Полковой командир, при всем своем расположении к Евфимову и при всем желании не выносить сора из избы, не мог, однако ж, замять это дело, так как заявленная 2-ю гренадерскою ротою претензия сделалась известною по всему поселению; Аракчеев же хотя и знал, конечно, о воровстве разного начальства и смотрел вообще на это сквозь пальцы, очень хорошо сознавая всю неизлечимость векового зла, но не любил, чтобы об этом говорили, и в подобных случаях не шутил[433]433
Честность и бескорыстие самого Аракчеева не подлежат никакому сомнению: он берег казенную копейку, был очень скуп на нее и строго разграничивал свои собственные средства от казенных. Если он был богат, то этим богатством обязан исключительно щедротам своего царственного друга и той простоте и строгой бережливости, которые он ввел в свой образ жизни и домашнее хозяйство. Всякое плутовство и мошенничество, как только он узнавал о них, строго им преследовались; если же он относился довольно равнодушно к некоторым явлениям полковой экономии, то, кажется, единственно вследствие сознания, что при всем своем могуществе он бессилен искоренить это зло, вошедшее, по-видимому, в плоть и кровь служившего тогда люда. (Прим. Гриббе)
[Закрыть]. Поэтому делать было нечего, пришлось нарядить следственную комиссию, которая кроме подтверждения заявленных ротою претензий открыла и еще кое-какие злоупотребления со стороны ротного командира.
По окончании следствия дело было представлено на рассмотрение графа Аракчеева, который, недолго думая, конфирмовал так: «По Высочайшему повелению имени моего полка майор Евфимов лишается чинов и орденов и записывается в рядовые в тот же полк графа Аракчеева».
Когда дежурный по полку, капитан Дядин, прочел Евфимову конфирмацию и приказал ему надеть солдатскую шинель, тот совершенно спокойно, с полнейшим самообладанием, снял с себя свой сюртук с эполетами и, принимая поданную ему серую шинель, сказал:
– Здравствуй, моя старая знакомая! Опять нам пришлось свидеться с тобой!
Надев шинель, Евфимов громко провозгласил:
– Здравия желаю, ваше благородие! В какую роту прикажете явиться?
Будучи зачислен в 1-ю фузелерную роту, которая занимала в тот день караул при полковом штабе, он отправился в кордегардию[434]434
Кордегардия — караульное помещение.
[Закрыть], отрекомендовался караулу и просил гренадер любить его и жаловать; по выходе с гауптвахты он снял шапку перед первым попавшимся ему унтер-офицером, а при встрече с одним из юнейших прапорщиков вытянулся во фронт. Затем явился к фельдфебелю роты и капральному унтер-офицеру и был помещен в числе непоселенных нижних чинов (то есть унтер-офицеров и ефрейторов), получил всю боевую сбрую, которую и привел собственноручно в полный порядок. На четвертый день по снятии густых эполетов Евфимов шил уже башмаки, отправляя их в свою валдайскую усадьбу для дворни; в этой же усадьбе жила и жена его, заправляя хозяйством.
Ни от каких служебных обязанностей Евфимов никогда не уклонялся и везде был первым. Во фронте он ни за что не хотел встать в заднюю шеренгу, говоря, что «с козел ямской телеги поступил прямо в первую»; когда же он бывал в карауле, то всегда просил не назначать его на часы в какое-нибудь теплое захолустье, а непременно у фронта, на платформе гауптвахты. Зато, когда он стоял на часах, караульный офицер мог быть спокоен, будучи уверен, что караул вовремя будет вызван для отдачи чести начальству, – а тогда караул выходил в ружье при проезде и проходе всякого начальства! Одним словом, Евфимов был до мозга костей лихим русским солдатом старого времени. Никто никогда не слыхал от него ни одной жалобы на судьбу, хотя ему и было на что жаловаться, о чем пожалеть: он все переносил без ропота, усердно молясь Богу…
Беспощадно суровый прежде к своим подчиненным, не знавший, кажется, жалости при наказании провинившихся подначальных ему людей, Федор Евфимович теперь словно переродился, точно постигшее его несчастие принесло для него какое-то откровение свыше о необходимости братской любви между людьми и милосердия к ним… Каждый из его новых сотоварищей-солдат в случае какой-либо невзгоды или затруднения обращался к нему, и он действительно помогал чем мог – делом, словом, советом, участием… Глядя на этого человека, одиннадцать лет носившего эполеты, пользовавшегося особенною любовью Аракчеева, не слышавшего в нем, что называется, души; лично известного Государю, который всегда благосклонно и приветливо относился к этому фавориту своего друга, видя, с какою душевною твердостию и силою воли он нес выпавший на его долю тяжелый крест, невольно удивлялся и жалел, что такая замечательная душа была зашита в такую грубую оболочку…
В следующем, 1824 году Государь смотрел наш полк и при проезде мимо 2-го взвода 1-го баталиона Аракчеев остановил Государя и, указывая рукой на Евфимова, спросил:
– Узнаешь ли, Государь, этого гренадера?
– Нет! – отвечал государь.
– Это твой бывший любимец – Евфимов, – сказал Аракчеев.
Государь заметил, что граф поступил с ним слишком жестоко, но Аракчеев, возвыся свой гнусливый голос, громко проговорил:
– Кто не умел дорожить Высочайшим вниманием и милостью царя, тот не заслуживает никакой жалости!
Терновому поприщу Федора Евфимовича не суждено было, однако ж кончиться обыкновенным образом.
Он продолжал свою службу по-прежнему ретиво и беспорочно, но в 1825 году на него нашла новая туча.
2-я гренадерская рота, которою командовал когда-то Евфимов, при инспекторском опросе полковым командиром фон Фрикеном заявила какую-то претензию и на самого полкового командира, причем в смелых выражениях настойчиво и решительно требовала для себя каких-то уступок и льгот. Будучи заведены при опросе направо и налево, в кружок, люди сплотились очень тесно и слишком близко подвинулись к фон Фрикену, который, опасаясь какого-либо насилия, бросился в толпу, пробился из круга, сел на дрожки и уехал. Вслед ему раздалось несколько голосов, по всей вероятности, повторявших заявленные уже просьбы, но что, конечно, было противно установившемуся порядку службы и правилам строгой воинской дисциплины.
О происшествии этом было тотчас же, разумеется, доведено до сведения Аракчеева, но так как это случилось за два дня до праздника Пасхи, то граф приехал в полк только на третий день Святой недели.
Поселенный батальон был собран, и началась расправа, о подробностях которой лучше умолчу: это был поистине Шемякин суд – били и виноватых и правых, и последним, как это подчас водится и доныне, досталось, пожалуй, еще больше, чем первым.
В этот день я был в карауле при полковом штабе и принимал под арест несколько десятков поселян-хозяев, в том числе и фельдфебеля 2-й гренадерской роты. После всех, за усиленным конвоем, при офицере, привели Федора Евфимова и унтер-офицера Алфимова, с приказанием посадить их в темный каземат под замок, что, конечно, и было тотчас исполнено мною. Спустя час по приводе этих двух арестантов явился и сам Аракчеев, ведя на казнь главных зачинщиков «возмущения». Караул вышел в ружье и отдал честь с пробитием похода. Аракчеев подошел ко мне и спросил:
– Где Евфимов?
– По приказанию вашего сиятельства посажен в темный каземат.
– Показать мне его! – повелительно крикнул граф.
Я распустил караул и повел Аракчеева наверх, во второй этаж, где был заключен несчастный страдалец.
Евфимова вывели… Аракчеев злобно посмотрел на него и скорее проскрипел, чем проговорил:
– Неблагодарный негодяй!.. Железа! – неистово закричал он вслед затем.
Чего другого, а этого добра, так же как палок и розог, на нашей гауптвахте всегда было в изобилии: поэтому кандалы сейчас же были принесены.
– Заковать наглухо! – крикнул граф.
Кузнец был под рукой. Сняли с несчастного Евфимова краги, которые тогда еще носили, и надели на него «арестантские шпоры». Аракчеев оставался до самого конца этой операции, точно наслаждаясь унижением своего бывшего любимца, которого он теперь ненавидел. Когда прозвучал последний удар кузнечного молота и все было кончено, Аракчеев толкнул Евфимова в шею. Тот с непривычки к оковам едва было не упал от этого подзатыльника и, обернувшись к графу, громко проговорил:
– Ваше сиятельство, видит Бог, невинно страдаю!
– Поставить им ушат! дверь на замок, и чтобы всегда была запечатана! По два фунта хлеба и ведро воды! – грозно крикнул Аракчеев, обратившись ко мне.
Нечего и говорить, что приказание это свято исполнялось и переходило в сдачу при смене караула.
Командира 2-й гренадерской роты, капитана Мильковского, перевели за эту историю в сибирские гарнизоны; фельдфебель той же роты разжалован был в рядовые, а через месяц последовал приказ и о том, что «рядовой, из дворян, Федор Евфимов переводится в армейский полк», куда, по снятии с него оков, он и был отправлен по этапу.
За что пострадал несчастный Федор Евфимович, совершенно непричастный ко всему этому делу, один Бог знает! Вероятно, личность этого служаки, умного, сметливого и притом коротко знакомого со всеми тонкостями ротного и полкового хозяйства былого времени, мозолила глаза начальству, которое видело в нем лишнего и не совсем безопасного свидетеля своих проделок по экономической части… Придраться к Евфимову из-за каких-либо упущений по службе не могли: он был всегда исправен и вел себя безукоризненно; оставалось одно – припутать его как-нибудь к скандальной истории и таким образом избавиться от него. Сочинили какие-то подстрекательства и вредное влияние, оказываемое подумали о том, что вследствие жалобы именно этих-то людей Евфимов и попал из майоров в рядовые. Впрочем, несмотря на всю пристрастность произведенного над Евфимовым следствия, виновность его в деле «возмущения» 2-й гренадерской роты не была доказана, и он был удален из полка так называемым административным распоряжением. Ни правильного следствия, ни праведного гласного суда в то время еще не было, и старая пословица: «У сильного всегда бессильный виноват»[435]435
Строка из басни И. А. Крылова «Волк и Ягненок».
[Закрыть]– ежедневно оправдывалась на деле. <…>
Г. С. Батеньков[436]436
Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863) – подпоручик 13-й артиллерийской бригады (1813), с 1816 г. служил в Сибири по ведомству путей сообщения; обратил на себя внимание Сперанского, который, возвратившись из ссылки, устроил его назначение на должность правителя дел Сибирского комитета. В 1822 г. по рекомендации Сперанского (тот писал А. 22 ноября: «за Батенкова я смею ручаться, что он будет трудиться искренно и усердно» – Дубровин. С. 362) был представлен А. в Грузине, а в начале следующего года – откомандирован в Комиссию составления проекта учреждения военных поселений, подполковник (1824); в 1824–1825 гг. член Совета главного над военными поселениями начальника, старший член Комитета по отделениям военных кантонистов. В середине ноября П. А. Клейнмихель получил анонимный донос (т. н. «Записку об истинном и достоверном»), где подробно излагалось мнение Батенькова об убийстве Минкиной: «Тогда как все почти изумлялись и считали происшествие сие ужасным поступком, Батенков изъяснялся об нем в разных шутках, в разных насмешках и всегда в веселом духе. Прайда, что сие делал он неоткрыто <…> На сожаление и удивление, по сему страшному происшествию изъявляемое, говорил он: «Не нужно жалеть! вещи идут своим ходом. Несчастие невелико; впрочем, несчастие одних есть счастие для других <…> Стояние вещей в одном положении невыгодно – в обществе и вредно. Что за беда, что Настасьи не стало, и есть ли о чем жалеть?» В сем месте его разговора изъяснял он о покойной Настасье Федоровне разные нелепости, и столько распространялся в самых язвительных насмешках, что человеку благородно мыслящему невозможно слышать без досады, которая и во мне произошла к Батенкову, видя его в столь развратных, подлых и бессовестных мыслях. Потом, обратя разговор о графе, говорил: «Не беспокойтесь! Если случай сей расстроил графское здоровье и силы, то вместо графа Алексея Андреевича найдется другой граф Сидор Карпович, и при нем, может быть, и нам еще лучше будет. Например, – сказал он, – если таковой случай приблизит по-прежнему к Государю нашего хозяина (хозяином разумел Сперанского, у которого живет он, Батенков, и с ним привезенные из Сибири), то мы без сомнения не проиграли бы, а были бы весьма рады» (PC. 1882. № 10. С. 182–185). Об отношении А. к Батенькову см. рассуждения современника: «Всемогущий временщик, коему уже начали противеть поклонения придворных и их непроходимая низость, полюбил умного, честного и прямодушного Батенькова <…> Дерзкий и грубый на службе, не терпевший противоречий, Аракчеев обходился с Батеньковым вежливо и ласково, выслушивал его возражения, не сердился на его противоречия, имел большую доверенность к его уму и способностям, доверенность безграничную к его честности и, гнуся по своей привычке, говаривал иногда: «Это мой (!!!) будущий министр (Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., 1992). В круг будущих декабристов Батеньков вошел через А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева, о котором впоследствии вспоминал: «Он видимо избегал сближения со мною, опасаясь моего положения, близкого при графе Аракчееве» (Русские пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 103; ср. ниже свидетельство Н. И. Греча). Арестован 28 декабря, осужден по III разряду в каторгу, но не отправлен в Сибирь, а заключен в одиночную камеру Алексеевского равелина; в 1846 г. переведен в Томск, в 1856 г. по общей амнистии получил свободу. Выдержки из следственных показаний Батенькова печатаются по изд.: Восстание декабристов. М., 1976. Т. XIV. С. 142–143; фрагменты автобиографических записей – по: Русские пропилеи. Т. 2. С. 106–108; отрывки из воспоминаний «Данные. Повесть собственной жизни» – по: РА. 1881. № 2. С. 274–275.
[Закрыть]
Об Аракчееве
[Из следственных показаний 31 марта 1826 г.]
Осенью [1822 года] граф Аракчеев пригласил меня в Грузине, и я должен был поступить к нему на службу.
Сперанский мне дал следующие приказания и советы:
Ничего никогда с ним не говорить о военных поселениях.
Ежели не хочу быть замешан в хлопоты, вести себя у графа совершенно по службе и избегать всех домашних связей.
Никогда не давать графу заметить, а лучше и не думать, что я могу кроме его иметь к Государю другие пути.
Все сие исполнено было мною в точности, и я нашелся в состоянии три года быть близким к графу. С Сперанским мы почти расстались <…>
Как ни сильно было лицо графа Аракчеева, но поелику стал он знать меня с портфелью статс-секретаря и членом своего Совета, притом я знал, что ему был нужен, то и мог принять не тот тон, какой наблюдал с Сперанским.
Осмеливаюсь здесь сделать отступление, представив кратко параллель между сими лицами.
Аракчеев страшен физически, ибо может в жару гнева наделать множество бед; Сперанский страшен морально, ибо прогневить его – значит уже лишиться уважения.
Аракчеев зависим, ибо сам писать не может и не учен; Сперанский холодит тем чувством, что никто ему не кажется нужным.
Аракчеев любит приписывать себе все дела и хвалиться силою у Государя всеми средствами; Сперанский любит критиковать старое, скрывать свою значимость и все дела выставлять легкими.
Аракчеев приступен на все просьбы к оказанию строгостей и труден слушать похвалы; все исполнит, что обещает. Сперанский приступен на все просьбы о добре, охотно обещает, но часто не исполняет, злоречия не любит, а хвалит редко.
Аракчеев с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям: ни на что постороннее не смотрит. Сперанский нередко смешивает и увлекается особыми уважениями.
Аракчеев решителен и любит наружный порядок; Сперанский осторожен и часто наружный порядок ставит ни во что.
Аракчеев ни к чему принужден быть не может; Сперанского характер сильный может заставить исполнять свою волю.
Аракчеев в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично; с подчиненным совершенно искрен и увлекается всеми страстями; Сперанский всегда является в приличии, дорожит каждым словом и кажется неискренним и холодным.
Аракчеев с трудом может переменить вид свой по обстоятельствам; Сперанский при появлении каждого нового лица может легко переменить свой вид.
Аракчеев богомол, но слабой веры; Сперанский набожен и добродетелен, но мало исполняет обряды.
Мне оба они нравились как люди необыкновенные. Сперанского любил душою.
[Из автобиографических записей]
8 февраля 1862
Разнородные полиции были крайне деятельны, но агенты их вовсе не понимали, что надобно разуметь под словом «карбонарии» и «либералы», и не могли понимать разговора людей образованных. <…> Трудно утверждать, чтоб какой-нибудь шпион из преданности был верен правительству.
Мудрено ли, что в таком положении дел Аракчеев был полезен как некоторое средоточие, знамя, которое видеть можно. Полиция наблюдала и за ним. Вот случай.
Я шел с ним по набережной Фонтанки. Вдруг указал он мне на одного порядочного человека. И когда сказал я, что в нем ничего не примечаю особенного, он ответил: «Смотри только на него». С приближением нашим щеголь поворотил в сторону и быстро вошел в мелочную лавочку. Это уже заметил и я. Граф пояснил, что вот и шпион, который за ним наблюдает. К тому прибавил: «Государь умен, истинный царь, это не значит, чтоб он в чем-нибудь мне не доверял, но ему нужно знать, где, когда, как и с кем меня видят, и полиция хотя без его приказания, но исполняет на всякий случай свое дело. Меня не так она любит, как свой долг» <…>
В России в это время, кроме Императора, едва ли кто так думал, хотя многие из страха и корысти развивали на деле эту мысль. Аракчеев слушал наушников, подобно диктатору Парагвая[437]437
Имеется в виду Хосе Родригес Франсиа (1758–1840), государственный секретарь правительства Парагвая с 1811 г., после победы антииспанского восстания в Асунсьоне и провозглашения независимости страны. В 1813 г. был избран консулом, в 1814 г. верховным правителем страны на три года (с 1816 г. пожизненно). Проводил политику изоляционизма: запретил иностранцам доступ в страну и свел к минимуму внешнюю торговлю.
[Закрыть], запретил строго въезд в свои Новгородские поселения и ограничил проезд чрез грузинское имение, но в системе шпионства он не был ни образцовым мастеровым, ни страстным дилетантом. Легко можно удостовериться, что в полиции он не имел никакого действия.
Данные. Повесть собственной жизни
<…> Граф Аракчеев имел обширную и непреклонную волю. Нелегко было достичь у него принятия не его собственной или не им самим требуемой мысли. Но единожды обнятого им предмета он уже не оставлял на ответственности предложившего и приуготовившего. Деятель был неутомимый, и хотя главное его предприятие, военные поселения, сильным общим мнением не одобрялось и было причиною неумолимого на него негодования, однако он, несмотря ни на что, и мерами слишком крутыми дал ему обширное развитие. Не наше дело одобрять или охуждать; мы заметим только, что такое дело принадлежит уже государственной науке, и под развалинами военных поселений скрывается драма времен Петра I, поучительнее и резче всех шекспировских и заставляющая обмыслить, не осталось ли чего-нибудь доброго от самого ее представления…
И. Р. Тимченко-Рубан[438]438
Тимченко-Рубан Иван Романович (р. 1814). Из малороссийских дворян. В 1819 г. умер его отец, поручик Преображенского полка, после чего матери пришлось хлопотать об определении детей на казенное обеспечение; в 1821 г. И. Тимченко-Рубан и его брат Степан (р. 1809) вынуждены были жить в семьях разных знакомых, ожидая зачисления в военно-учебные заведения. В 1822 г. они были отправлены из Петербурга в Харьковский кадетский корпус и по дороге оказались в Грузине, где в их судьбе принял участие А. После окончания Павловского кадетского корпуса Тимченко-Рубан служил там воспитателем (1839); с 1840 г. воспитатель в Полтавском кадетском корпусе; с 1865 г. командир кавказского линейного батальона. Отрывок из его мемуаров печатается по: ИВ. 1890. № 5. С. 343–347; № 6. С. 611–613.
[Закрыть]
Из воспоминаний о прожитом
Путь наш лежал через знаменитое село графа Аракчеева – Грузино. Здесь, как и везде при следовании на долгих[439]439
Путешествие на долгих было дешевле, но занимало больше времени, чем езда на почтовых: лошадей на станциях не меняли, а давали им отдохнуть.
[Закрыть], мы остановились на постоялом дворе, чтобы пообедать и накормить лошадей. Хозяйка двора, женщина молодая, стройная, красивая, высокого роста, видя, что Мина Иванович[440]440
Мина Иванович — дворецкий в поместье Висленевых (о них см. примеч. 3 и 4).
[Закрыть] заказывает для нас обед более изысканный против обыкновенного приготовлявшегося у них для проезжающих, полюбопытствовала узнать, кто мы, откуда и куда едем. Брат Степан рассказал ей историю странствования нашего по белому свету со всеми подробностями.
Дня через три мы достигли деревни Висленева[441]441
Висленев Василий Никитич – коллежский асессор, предводитель дворянства Боровичского уезда; у него в имении, селе Любытино, в 1822 г. останавливались братья Тимченко-Рубаны.
[Закрыть], крайне удивя его дочерей неожиданностью приезда. По-прежнему зажили мы припеваючи. Наступил декабрь; приехал Висленев. День нашего выезда в Малороссию назначен на 16-е число. Последние дни проводили мы как-то невесело, с сознанием неопределенности нашей дальнейшей судьбы. Вдруг вечером 15-го числа в страшную метель со стороны мельницы, мимо которой пролегала большая дорога, послышался колокольчик. Звонок слышится все ближе и ближе, и к дому подкатывает курьер в крытых санях.
Курьера провели прямо в кабинет к Висленеву; там он отдал последнему запечатанный пакет, произнеся:
– От графа Алексея Андреевича Аракчеева!..
Страшно побледнев, старик протянул было ему дрожащую руку, но, не успев взять пакета, повалился без чувств. Изумленный курьер как стоял, так и остался, не трогаясь даже с места, чтобы позвать кого-нибудь. К счастью, двери кабинета не были прикрыты, и Мина Иванович, бывший в коридоре, первый поднял тревогу.
Испуганные барышни[442]442
Имеются в виду дочери Висленева, Ксения (в замуж. Мозовская; 1808–1831) и Наталия.
[Закрыть] бросились вместе с нами в кабинет, и скоро общими усилиями старик был поставлен на ноги. Бумага за подписью графа Аракчеева была такого содержания: «Немедленно с сим курьером отправить ко мне двух малолетних Тимченко-Рубанов; прислать и документы на них, буде таковые имеются».
Через час все уже было готово к нашему отъезду. Благословляя нас, старик расплакался, разрыдались и мы, целуя руки нашего благодетеля.
Сели в кибитку и с места помчались во весь дух. Ночь пролетела незаметно Утром попросили у курьера позволения напиться чаю: не тут-то было! Так же любезно поступил он с нами и в обеденную пору. К вечеру мы приехали в Грузине страшно голодные. Нас поместили в ближайшем ко дворцу флигеле[443]443
В грузинской усадьбе между собором и главным домом располагалось шесть флигелей.
[Закрыть]. Следующий день, должно быть, был воскресный, так как тотчас после чая нас повели в дворцовую церковь.
По окончании богослужения мы были приведены в приемный зал. Сюда к нам вышла знаменитая Анастасия Федоровна и, обласкав нас, объявила, что до приезда графа мы можем оставаться в том же флигеле, а к обеду нас будут звать во дворец.
Накануне праздника Рождества Христова приехал и сам граф. Анастасия Федоровна представила ему нас. Он поцеловал нас обоих в лоб, спросил, у кого и зачем мы были в Петербурге, но подробностями, как и зачем мы попали в Новгородскую губернию, граф не интересовался. Потом, обратясь к артиллерии полковнику Куприянову, граф поздравил его с новыми племянниками и предложил поместиться с нами в отведенном уже нам флигеле. Граф приказал, чтобы его архитектор занимался с нами чтением, чистописанием, арифметикою и рисованием, и, отпуская нас, присовокупил, чтобы к обеду мы ежедневно присылались к нему.
Почти весь 1823 год мы провели у графа Алексея Андреевича, сначала в Грузине, а потом в Петербурге. В Грузине мы довольно часто гуляли, в Петербурге же, кроме сада и двора при доме графа, на углу Кирочной и Литейной улиц, нас никуда не выпускали. Поэтому жизнь в Грузине нам была несравненно более по сердцу. Что теперь представляет из себя Грузино – не знаю; но шестьдесят пять лет тому назад оно совершенно было достойно названия второго Царского Села. Дворец графа, конечно, был самым выдающимся зданием. С задней стороны дворца находился сад с оранжереями, парниками и затейливыми беседками. Одна из последних считалась опасной, вследствие отражения из нее эха прямо в кабинет графа. Со стороны переднего фасада дворца, у подъезда, была чистенькая, усыпанная желтым песком площадка, впереди которой, против парадного крыльца, красовалась широкая липовая аллея. Эта аллея шла посреди широчайшей улицы, застроенной различными флигелями. В конце аллеи стоял храм, собор Андрея Первозванного, и рядом с ним павильон, в котором помещалась статуя того же святого во весь рост. За собором находился штаб военных поселений и принадлежащие к нему постройки. Площадь, усыпанная желтым песком, содержалась замечательно чисто: если кому-либо из служащих случалось пройти по ней, то следы от его ног немедленно заметались сторожами. Посторонним запрещалось ходить по этому плацу.
Собор Андрея Первозванного удивлял меня своими массивными размерами, но особой красоты по наружной своей архитектуре не представлял. Так, по крайней мере, казалось мне. Внутренней отделки положительно не припомню. Осталось только в памяти, что при входе в него через северную дверь, на стене, по левую от входа руку, был повешен портрет во весь рост Государя Императора Александра Павловича, у ног которого стоял гроб, заготовленный графом для своих бренных останков. На крышке гроба стояла надпись: «Прах мой у ног твоих», а на боковой наружной части гроба: «Без лести предан».
Любимою нашею прогулкою была дорога, ведущая к пристани на реке Волхове[444]444
В 1815–1816 гг. по проекту В. П. Стасова на берегу Волхова была взамен деревянной выстроена каменная пристань с башнями.
[Закрыть]. Здесь стояли и сновали суда разной величины и конструкции. Между ними красовались два небольшие, хорошенькие фрегата, предназначавшиеся для разъездов самого графа. По углам на фрегатах подняты были или спущены флаги, по чему едущие через Грузино могли узнавать, дома ли граф или в отсутствии.
Пристань обозначалась двумя башнями, построенными на берегу со стороны Грузина. Одна из башен служила кордегардией для караула, в другой была контора для расчетов с хозяевами, прибывшими в Грузино с разными продуктами.
Во время нашего пребывания в Грузине граф был осчастливлен посещением Императора Александра Павловича[445]445
Это произошло в середине марта 1823 г.
[Закрыть]. В другое время в Грузино приезжали великие князья Николай и Михаил[446]446
Михаил Павлович (1798–1849) – великий князь, младший сын Павла I. С 1825 г. генерал-инспектор по инженерной части, с 1831 г. – главный начальник Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов.
[Закрыть] Павловичи с докладами: первый по инженерной части, а второй по артиллерийской. Несколько позже приезжал Цесаревич Константин Павлович, но, недовольный долгим ожиданием приема, чему, как говорили, очень часто подвергались его младшие братья, выбранил графа и уехал, не видевши его.
В конце октября нас с братом перевезли в Петербург, прямо в дом графа Аракчеева. Почти два месяца проболтались мы здесь, ровно ничего не делая. Самого графа в Петербурге не было: он приехал около 20 декабря, а 23-го по записке графа к директору Императорского Военно-сиротского дома, генерал-майору Арсеньеву[447]447
Арсеньев Никита Васильевич (1774–1843) – в 1815–1828 гг. директор Военно-сиротского дома; генерал-майор (1816).
[Закрыть], нас приняли в это заведение. В напутствие нам граф сказал:
– Я помещаю вас в лучшее и любимое заведение, основанное по моему проекту блаженной памяти Императором Павлом Петровичем, и, ежели вы будете учиться и вести себя хорошо, я не забуду вас.
Таким образом мы были пристроены окончательно.
О личности графа Алексея Андреевича я, конечно, немало знаю, читая почти все, что только писали о нем в разное время, но, живя в Грузине, нам, детям, не приходило даже в голову изучать характер этого замечательного государственного деятеля. Все, что я намерен сказать о нем, заимствовано из одних лишь рассказов, случайно нами слышанных в Грузине. Хорошо же они сохранились в моей памяти потому, что и в более позднее время вспоминали мы их с братом.
Деятельность Аракчеева, по словам всех его окружавших, была изумительная. Все в один голос повторяли, что не знают, когда он и спит. Он ложился спать около одиннадцати часов, а уже в два часа ночи посещал и штаб военных поселений, и чертежную, где в это время кипела работа. Дежурные при нем адъютанты должны были быть на ногах целые сутки, в полной форме. Они то и дело рассылались с его поручениями.
Не лишним считаю сказать несколько слов и о сожительнице графа, Анастасии Федоровне Минкиной, которую граф называл «своею Настею». Это была весьма видная, красивая и умная женщина. Происхождения ее не знаю; говорили, впрочем, что она была простая крестьянка графа, поступившая к нему вскоре после похорон его жены. Одевалась она всегда чрезвычайно парадно: бархат, кружева, бриллианты составляли ее обыкновенный наряд. Своею угодливостью и предупредительностью она снискала себе безграничную любовь графа и его доверие. Все дворцовое хозяйство в Грузине было на ее руках; всем распоряжалась она бесконтрольно.
Устроив себе тайную полицию из женщин, она отлично знала, что делается в каждом уголке Новгородского поселения, хотя сама почти всегда сидела дома. Эти свои сведения, когда находила нужным, она сообщала графу, но не иначе, как при гаданиях на картах. Убедясь неоднократно в справедливости этих гаданий, граф пристрастился к ним и никогда не выезжал из дому, не испросив на это соизволения своего домашнего оракула, своего «ангела-хранителя», как называл он Анастасию Федоровну. Дворовые люди ненавидели сожительницу графа и трепетали перед ней. Они называли ее колдуньей, и это название особенно упрочилось за ней после ее предсказания о заряженном ружье у одного из рядовых того батальона, который граф намерен был смотреть. Все были изумлены, когда во время смотра, обходя первую шеренгу, граф неожиданно остановился у второго с левого фланга солдата, и после приказания взять на изготовку и выстрелить в поле выстрел действительно последовал. Виновный тут же сознался в намерении убить графа.
Быть может, женской полиции и мы обязаны нашим определением в корпус. Что мудреного, что хозяйка постоялого двора, на котором мы останавливались при нашем проезде из Петербурга через Грузино, могла передать Анастасии Федоровне, каких гостей принимала у себя?
Прощаясь с нами в 1826 году, граф выразил желание, чтобы мы по окончании курса заехали к нему в Грузино. К сожалению, ни я, ни мой брат не могли этого сделать и только письменно благодарили его за оказанное нам покровительство. Граф прислал ответы через директора корпуса Клингенберга[448]448
Клингенберг Карл Федорович (1772–1849) – выпускник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса (1788); полковник (1822); в 1828 г. в чине генерал-майора был назначен директором Павловского кадетского корпуса; в 1835–1849 гг. главный директор кадетских корпусов, присутствующий в Совете военно-учебных заведений. Сохранился ряд дружеских писем А. к жене Клингенберга Екатерине Федоровне за 1817–1823 гг. (с приписками Шумского и Минкиной): РО РНБ. Ф. 29. № 22.
[Закрыть]. К ответу на письмо брата были приложены двести рублей, принадлежавшие нам и оставленные в Грузине. Удивительно, как граф не забыл об этих деньгах.
Граф Аракчеев скончался в 1834 году. Это событие сообщил нам в Полоцке бывший командир нашего 2-го армейского корпуса, генерал от кавалерии барон Крейц[449]449
Крейц (Крейтц) Киприан Антонович (1777–1850) – генерал-майор (1812); генерал от кавалерии (1831), командир 2-го пехотного корпуса (1831–1845).
[Закрыть], когда, по случаю первого дня Пасхи, все военнослужащие собрались к нему с поздравлениями.
– Теперь, – добавил барон, – уже я стал первым по времени производства в генералы русской армии.
Мир праху твоему, благодетель, граф Алексей Андреевич! Что бы ни говорили и ни писали о тебе, я лично все-таки сохраняю и сохраню по гроб свой память о тебе как об истинном моем благодетеле! <…>
Во время нашего пребывания в корпусе граф Аракчеев часто брал нас с братом к себе в отпуск. Наш ротный командир, подполковник Бриммер[450]450
Бриммер Владимир Карлович – в 1823–1825 гг. майор, в 1831 г. подполковник в Павловском кадетском корпусе (так с 1829 г. назывался Военно-сиротский дом).
[Закрыть], отпуская нас к графу, осматривал во всей подробности наше платье и белье, а выдавая отпускные билеты, наставлял, что именно должны мы отвечать, если граф будет спрашивать нас о порядках в заведении. Мы были до того пропитаны этими наставлениями, что на вопросы графа, обращенные к одному из нас, оба, слово в слово, спешили отвечать словами Бриммера. Однажды граф улыбнулся и сказал:
– Вижу и верю, что вы хорошие дети, ежели так хорошо вытвердили начальнические наставления.
В последний раз граф взял нас к себе на Масленице в 1826 году. К нашему удивлению, мы нашли у него до двадцати кадет других корпусов, с которыми прежде никогда не встречались. Это были дети офицеров, служивших в поселенных войсках и тоже определенные в корпуса графом.
Нас привели в приемный зал, куда немного спустя вошел и граф. Перецеловав всех нас, граф спросил:
– Ну, что, дети, довольны ли вы своими заведениями? Научились ли строго и точно исполнять все требования начальства? Не тяготитесь ли ими?
Получив обыкновенный ответ: «Стараемся, ваше сиятельство!» – граф продолжал:
– Да, да, надобно стараться! Все это впоследствии послужит вам же на пользу. Я говорю вам это по собственному моему опыту. Служба моя в Гатчине, при блаженной памяти Императоре Павле Петровиче, была необыкновенно трудна: не было ночи, чтобы Государь не требовал меня к себе; поэтому и ночью я не знал покоя, я дремал лишь в своем кресле в полной парадной форме. Все это я делал без малейшего ропота на тягость службы, единственно по безграничной любви и преданности к его высокой особе. Так точно служил я и покойному Государю Императору Александру Павловичу. Милость его ко мне была беспримерна! Она выражалась в самой высшей награде: в доверии к моим трудам. С таким же чувством долга и самоотвержения начал я служить и ныне благополучно царствующему Императору Николаю Павловичу, но сам чувствую, что силы мои уже не те: одрях, стал негоден к своей прежней деятельности. Возьмите, дети, пример с меня и поверьте, что для достижения высших служебных положений не нужны ни богатства, ни знатность происхождения: нужен труд и полное самоотвержение для блага своего отечества!
После раннего обеда, собственно для нас устроенного, граф приказал прокатить нас к ледяным горам на тройках. Нас сопровождали полковник Куприянов и два адъютанта графа. С прогулки мы возвратились только в сумерки. Куприянов по старой памяти пригласил нас с братом к себе на чай. Тут один из его знакомых, какой-то статский, с Анной на шее, не стесняясь нашим присутствием, повел с Куприяновым следующий разговор:
– Знаете ли вы, что в больших сферах поговаривают о графе Алексее Андреевиче?
– А что? – спросил Куприянов.
– Графу, кажется, несдобровать! В прошлую пятницу он был с докладом у Государя и по обыкновению вошел прямо в его кабинет. Император взглянул на него весьма холодно и, встав с своего кресла, указал ему на дверь комнаты, в которой он обыкновенно принимал министров. Выйдя потом и сам туда, он сказал: «Не ближе, как здесь, желаю я встречаться с вами, граф!» Вслед за тем он удалился опять в свой кабинет. Понятно, – продолжал рассказчик, – такая неожиданность не могла не поразить графа. Бледный как полотно, с слезами на глазах, он направился к выходу из дворца. На лестнице его встретил великий князь Михаил Павлович. «Что с вами, граф? Больны? За границу, за границу!»
– Если это так, – сказал Куприянов, – то нужно ждать больших перемен. Теперь ясно, под каким настроением говорил так долго граф с этими юношами сегодня. Вот оно что!..
Перед отправлением нас в корпус мы были приведены к графу проститься. Теперь он действительно показался нам грустным. При прощанье граф благословил нас и завещал не забывать его наставлений. <…>








