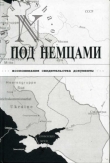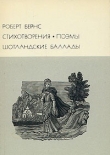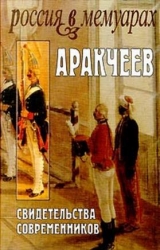
Текст книги "Аракчеев: Свидетельства современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Н. А. Титов[406]406
Титов Николай Алексеевич (1800–1875) в 1808–1810 гг. воспитывался в 1-м кадетском корпусе; в 1817–1833 гг. в военной службе, с 1834 г. чиновник для особых поручений в комиссариатском департаменте Военного министерства, с 1867 г. в отставке в чине генерал-лейтенанта; композитор. Главка из его «Записок» печатается по: PC. 1870. № 2. С. 148–149.
[Закрыть]
Бал у графа Аракчеева в 1820 году
В декабре месяце 1820 года у графа Аракчеева был маскарад и бал[407]407
О подобном новогоднем празднике рассказывал П. М. Волконский в письме к А. А. Закревскому от 12 января 1820 г.: «У графа Аракчеева <…> был маскарад <…> камергер Кокошкин, одетый бурмистром из деревень, около Грузина лежащих, сказывают, бросился в ноги графу и благодарил за милостивое с крестьянами обхождение, представляя в рубище одетых всю фамилию Клейнмихелей, говоря, сколько он им сделал добра» (Сб. ИРИО. Т. 73. С. 12–13).
[Закрыть], устроенный в честь двоюродной сестры моей, В. А. Клейнмихель, к которой граф был особенно расположен. Как родственники В.А., сестра моя А[нна], брат мой А[лександр][408]408
Имеются в виду Анна Алексеевна Титова (в замуж. Измайлова; 1794–1858) и Александр Алексеевич Титов (1796–1855) – впоследствии статский советник.
[Закрыть] и я принимали участие в этом маскарале. Хотя я был портупей-юнкером, но был костюмирован тирольцем и, будучи в маске, обходился весьма фамильярно с графом, так что он сказал своим гнусливым голосом: «Видно, знакомая маска». Маскарад продолжался недолго, вслед за ним начался бал; дамы оставались в костюмах, а кавалеры должны были переодеться в мундиры. Я также должен был явиться на бал, а потому отправились мы с братом на квартиру к П. А. Клейнмихелю, который жил напротив, где переодевшись, явились на бал. Как шалун и проказник, и здесь не мог я удержаться, чтоб не напроказничать. Во-первых, я вошел в первую комнату в кивере, что увидав, Клейнмихель подошел тотчас ко мне: «Ты, мальчишка, и здесь думаешь шутить, как и везде, – сказал он мне, – сними сейчас кивер и пойдем, я представлю тебя графу». Я вошел в зал, в коем граф принимал гостей, и Клейнмихель представил меня графу, сказав, что я двоюродный брат жены его. Аракчеев мне поклонился, пожал мне руку, сказав: «Очень рад». Предложив мне снять амуницию, просил быть без церемонии и танцевать. Повесив в передней на вешалку кивер и тесак, я вошел в зал, надев место перчаток рукавицы. Заметив это, Клейнмихель снова подошел ко мне: «Ты забыл, мальчишка, у кого ты? – сказал он мне, выйдя из себя, – пошел сейчас ко мне и возьми мои перчатки». Я отвечал ему, что, напротив, я очень хорошо помню, что я у графа Аракчеева, а потому и не смел надеть перчаток, не имея на это права, а между тем перчатки были у меня за рукавом. Надев их, я встал удверей. Аракчеев снова подошел ко мне и приглашал танцевать. Так как солдат кланяться не смеет, то я вместо поклонов шаркал и стучал каблуком об каблук, оставаясь все-таки у дверей. Наконец граф подошел ко мне и крикнул: «Да что же ты не танцуешь!» Я, как стоял и увидев прямо перед собой сидящую сестру мою, отправился через зал на нее, но, отуманенный, остановился перед сидящею рядом с сестрою матерью Клейнмихеля[409]409
Клейнмихель (урожд. Ришар) Анна Францовна (1769–1833).
[Закрыть] и, кланяясь ей, сказал: «Ежели ты не желаешь, чтобы я был в Сибири, провальсируй со мною». Старушка захохотала, сказав мне: «Подле меня сестра твоя, проси ее; ты с ума сошел, я не танцую». Провальсировав с сестрой, я снова встал у дверей, но, как бы нарочно, граф всегда стоял или подле, или близ меня, так что, когда разносили питье или мороженое, я не брал ни того, ни другого, а между тем пить хотелось ужасно. Наконец забрались мы с графом Н. в голубую гостиную, где стоял стол с фруктами и где никого не было, и тут-то мы дали себе волю. Во время попурри, который танцевал я с моею сестрою, мне пришлось стоять спиной к знаменам; надо сказать, что танцевали в знаменной зале, а как граф был шефом полка его имени, то и знамена находились в его доме. На мою беду, кто-то, вальсируя, толкнул меня так сильно, что я чуть не уронил знамена. Смотрю, граф подходит ко мне и говорит: «Вы знамена чуть не уронили, знаете ли, что это священная вещь». Я не знал, что и отвечать, но меня выручил стоявший подле меня приятель графа, Г., сказав, что я не виноват, но что меня танцующий сшиб было с ног[410]410
Когда во время попурри танцевали мазурку, то г-жа Е. выбрала генерал-адъютанта Д., и он, к удовольствию графа, сделал с нею два тура. (Прим. Титова)
[Закрыть]. Не дождавшись ужина, мы с братом отправились домой; но когда уселись ужинать, граф заметил наше отсутствие и спросил Клейнмихеля: «Петр Андреевич, а где же братцы твоей супруги?» Он отвечал, что одному из них сделалось дурно, и поэтому они уехали. «Скажи-ка ты им, чтобы они в понедельник приехали ко мне обедать».
На другой день, когда я пришел к Клейнмихелю, он меня сильно журил за мои проделки, а когда сказал мне, что я приглашен на обед к графу, я ему отвечал, что я приду, но принесу с собою деревянную ложку, так как нижним чинам серебряных ложек не полагается. «От тебя всего можно ожидать, а потому лучше не приходи, а я скажу, что ты дежурный».
К. А. Измайлов[411]411
К. А. Измайлов в 1820-е гг. служил в 8-й резервной артиллерийской роте. История о поручике Долгорукове была рассказана ему его командиром Н. Ф. Демором в 1833 г., записана Измайловым в 1881 г.; печатается по: PC. 1881. № 9. С. 201–208.
[Закрыть]
Граф Алексей Андреевич Аракчеев
(Рассказ к его характеристике)
Предлагаемый рассказ, сохранившийся в моих заметках, записан мною еще в 1833 г, со слов бывшего тогда моего, по 8-й резервной] артиллерийской роте, командира – капитана Н. Ф. Демора, который прежде того служил в военных поселениях и едва ли не сам был свидетелем сиены объяснений с графом Аракчеевым действующего лица в рассказе, поручика Долгорукова – не князя[412]412
Не эта ли строка послужила штрихом к портрету героя «Подростка» Достовского, который также был «Долгоруким, но не князем» и находил, что нет ничего глупее, чем такая ситуация. (Прим Константина Дегтярева)
[Закрыть], умершего, надобно полагать, 1826–1827 года.
В молодости моей, в тридцатых годах, еще были свежи воспоминания и рассказы о графе Аракчееве тех лиц, которые служили в военных поселениях. С одним из таких поселенцев пришлось и мне встретиться по службе моей в артиллерии. С горечью передавал он нам, молодым сослуживцам своим, те тяжелые впечатления, которые были вынесены им из его пребывания в этих «скитах», как называл он угрюмые, однообразные связи построек Новгородских военных поселений. Эти рассказы переполнены были повествованиями о таких деяниях временщика, которые могут казаться баснословными. Граф Аракчеев не терпел противоречий, не выносил возражений, и горе было тому, кто порицал его распоряжения. Грубый по природе, подозрительный, злой и мстительный по характеру, пользуясь широкою властью, он не разбирал средств для преследования и кары своих антагонистов; только лесть и беспрекословная покорность его воле были им отличаемы. Обладавшие этими добродетелями могли надеяться на его снисхождение. Вот один из образчиков, подтверждающий эти прекрасные доблести знаменитого графа Алексея Андреевича, – факт, переданный мне бывшим моим сослуживцем.
В первой половине 1820-х годов кипели работы по созданию военных поселений. Известно, что исполнителями их были большею частью артиллерийские офицеры, так как Аракчеев почему-то недолюбливал инженеров и эти последние были только составителями смет и проектов. Впрочем, и сам хозяин зорко следил за производившимися работами, поощряя по-своему усердных и карая нерадивых. Офицеров, желавших служить в поселениях, почти не встречалось, и они были переводимы туда большею частью по распоряжению начальства, то есть по указанию графа или по рекомендации тех начальников, которым он более доверял, – и вот такая доля выпала и на артиллерийского поручика Долгорукова, даровитого, бойкого и смелого молодого офицера. Он служил где-то на юге – и волею-неволею, по последовавшему приказу о переводе его в военные поселения, был немедленно отправлен к месту назначения. Это было в исходе зимы. Проезжая по почтовой дороге от Москвы до Новгорода, Долгоруков вечером остановился на одной из почтовых станций, чтобы погреться чаем. Покончив эту операцию, он стал собираться в дальнейший путь, как вдруг зазвенел почтовый колокольчик – и храп остановившихся под окнами лошадей дал знать о прибытии на станцию нового проезжего, а вслед за тем вошел в комнату пожилой господин, в помятой артиллерийской фуражке, закутанный в поношенную енотовую шубу.
Вновь прибывший проезжий, пытливо осмотрев Долгорукова, приветливо поклонился ему, и Долгоруков почтительно ответил на поклон старика.
– А, артиллерист, мое почтение, куда едете? – спросил проезжий.
– В военные поселения, – был ответ.
– А, к Аракчееву, ну и хорошо, – заключил проезжий, усаживаясь на кожаный диван.
– К сожалению, ничего не предвижу в этом хорошего, – с горечью возразил Долгоруков.
– Да почему же так, или служба там тяжела?
– Не служба, а жизнь. Кто не знает графа, этого жесткого и жестокого человека, у которого нет сердца, который не оценивает трудов своих подчиненных, не уважает даже человеческих их прав, – с горячностью заключил Долгоруков.
– Вот как; а я так знаю, что Аракчеев только лентяев и вертопрахов не любит, пьяниц и мотов преследует, а хорошему слуге и у него хорошо, – протяжно проговорил проезжий, пристально глядя на Долгорукова.
– Хорошо слуге, который льстит ему, слуге, который…
– Смеленько, смеленько, молодой человек, смеленько осуждаете человека, которого знаете только по слухам, – несколько сурово заметил проезжий.
– Не я один осуждаю его, – поспешил оправдаться Долгоруков, торопливо собираясь выйти из комнаты.
– Мое почтение, желаю счастливого пути, доброй службы и советую не слушаться дураков – может быть, увидимся, – проговорил незнакомец на прощальный поклон Долгорукова.
В воротах, при выходе его на улицу, прошмыгнул кто-то мимо его в военной шинели и в фуражке солдатского покроя и прошел на крыльцо станционного дома. «Это слуга проезжего», – подумал Долгоруков, и злая догадка промелькнула в его голове. Последние слова проезжего: «Может быть, увидимся» – несколько его озадачили.
«А что, если это сам Аракчеев? – невольно подумалось ему. – Вот попался!»
Но почтовая тройка тронулась, зазвенел колокольчик – и Долгоруков помчался ухарскою прытью ямской езды, какою славилась Русь до искрещения ее сетью железных дорог, и на другой день, вечером, путник был уже у цели своего путешествия.
Явившись к новому своему начальству, он узнал, что все прибывающие на службу в поселения должны были непременно представляться к самому графу, и как граф накануне выехал в южные поселения, то Долгорукову и предстояло исполнить этот долг по возвращении его.
Известие, что Аракчеев уехал «накануне», неприятно отозвалось в ушах Долгорукова, и теперь он был вполне убежден, что в дорожном незнакомце встретил страшного своего начальника. С приезда своего, в течение трех недель, Долгоруков был без дела и, однако, никому не промолвился о своей встрече, ожидая разрешения своей догадки и придумывая средства, как выйти из затруднительного положения, если бы эта догадка оправдалась. Но вот, наконец, раз вечером он получил форменную записку, содержащую в себе приказание: «Ваше благородие, имеете честь завтра в 10 часов представиться его сиятельству». Тревожно проведена была Долгоруковым наступившая ночь. На другой день, за час до назначенного времени для представления графу, он уже был в знаменитом Грузине, резиденции графа. Войдя в залу, назначенную для представления, Долгоруков нашел уже там двух-трех офицеров. Но вслед за тем молча, тихо, как бы под давлением страха или благоговения, стали входить новые лица – и скоро вся зала наполнилась военными чинами разных родов войск, начиная с генерала до прапорщика. В ожидании чего-то в зале царила глубокая тишина, нарушаемая изредка порывистым шепотом речи старших чинов. У одной из запертых дверей стоял навытяжку офицер в парадной форме: это был дежурный. Дверь, на которую часто обращались взоры присутствовавших, вела во внутренние покои графа. Но вот дверь отворилась, все встрепенулись – и из нее вышел какой-то генерал с бумагою в руке.
– Клейнмихель! – шепнул Долгорукову сосед его.
Он был начальник штаба военных поселений. Генерал, раскланявшись с присутствовавшими генералами, развернул бумагу, оказавшуюся списком представляющихся графу, и стал по ней приводить длинный строй их в порядок вокруг залы. Окончивши эту проверку, Клейнмихель удалился в заветную дверь, а в зале водворилась мертвая тишина. Но не прошло и пяти минут, как та же дверь снова отворилась, и из нее вышел старый генерал, сопровождаемый Клейнмихелем.
Сердце бедного Долгорукова дрогнуло и крепко забилось: это был он проезжий, встреченный им на станции, это был сам Аракчеев, которому Долгоруков высказал о нем же самом столько дерзких истин[413]413
Известно несколько историй об А., построенных по схожему плану: см. воспоминания Л. Г. Немеровского, секретаря А. (в записи Г. С. Демянока: PC. 1872. № 11. С. 589–591); анекдот, почерпнутый из «неизданных записок» генерала И. Т. Радожицкого (ДНР. 1880. № 10); рассказ ксендза Станевского (ДНР. 1875. № 5. С. 99–100). Не исключено, что такие случаи действительно имели место: «В дороге он [А.] иногда переряжался в гражданское платье и заводил с незнакомыми речь о самом себе» (Граф Аракчеев. С. 23).
[Закрыть].
Аракчеев, войдя в залу, остановился, суровым взглядом обвел всех присутствующих, как будто отыскивая кого-то взором своим, – и Долгорукову показалось, что этот обзор заключился на нем. Но вот началось и самое представление. Генерал Клейнмихель по списку именовал представляющихся: граф одних обходил молча, другим выражал за что-то свое одобрение, а некоторым строго выговаривал. Но вот дошла очередь и до Долгорукова. Начальник штаба громко прочел:
– Поручик Долгоруков, переведенный из…
Аракчеев не дал докончить генералу его доклада.
– Мое почтение, – сказал он Долгорукову полунасмешливо, носовою нотою, и тот отдал ему почтительный поклон.
– Мое почтение, – повторил граф с особенным ударением, и тот снова повторил такой же поклон.
– Мы с ним старые знакомые, – сказал Аракчеев, обернувшись к начальнику штаба. – Не так ли? – обратившись снова к Долгорукову и пристально глядя на него, спросил его граф.
– В первый раз имею счастие представляться вашему сиятельству, – смело ответил Долгоруков.
– Как в первый раз? а помнишь станцию на Московской дороге? помнишь, как ты честил меня?
– Я говорил с проезжим, ваше сиятельство.
– О, да ты, я вижу, молодец на слове, каков-то на деле? Повторяю тебе, что Аракчеев дураков и лентяев не терпит. Пусть он будет по-твоему такой-сякой, а посмотрим, ты какой.
– Петр Андреевич! – обратился граф к Клейнмихелю. – Поручить поручику Долгорукову постройку номера… – При этом Аракчеев назвал номер предполагавшейся постройки какого-то нового здания, близ самого Грузина.
Во все время этой сцены в зале царила мертвая тишина. Отдав это приказание относительно Долгорукова и затем пасмурно с места обозрев все остальное собрание представлявшихся, Аракчеев удалился. Все стали расходиться. По выходе из дома несколько лиц обратилось к Долгорукову с расспросами о знакомстве его с графом, и на объяснения свои о том он выслушал предупреждение: «Будьте осторожны, вам предстоит тяжкое испытание».
Работы по устройству военных поселений открывались рано весною: граф торопился окончанием их. Через две-три недели должен был начаться египетский труд. В это время Долгоруков получил для соображения все письменные и словесные наставления. Так как порученная ему постройка находилась близехонько от Грузина, то он догадывался о цели этого распоряжения и приготовился к борьбе со всякою случайностью.
Но вот, наконец, настала и самая пора работ, и молодой офицер со всею горячностью предался порученному делу. Отрешившись ото всех знакомств, товарищеских связей, бросивши все посторонние занятия, он только и помышлял о том, как выйти ему из того тяжкого положения, в какое он поставил себя своею опрометчивостью: он думал, что его труды и усердие все-таки укротят затаенный гнев графа. Прошло несколько дней от начала его занятий, как вдруг граф пожаловал для осмотра работ. Осмотрел их и, не сказав ни слова, удалился. Не прошло после того и двух дней – новое посещение графа, потом скоро не замедлилось и третье – и все три в разные часы дня. Долгоруков понял, что надобно не дремать, а быть постоянно настороже, и вооружился терпением. Чтобы еще ближе быть к работам, он расположился бивуаком в одном из рабочих сараев – и ночь только отдал себе. С раннею утреннею зарею он уже был на работах и с вечернею возвращался в свой сарай на ночлег, а граф неустанно посещал и посещал его, но всегда заставал строителя на месте работ. Уже Долгоруков слышал от графа и слово одобрения: «Хорошо, молодец», и было за что. Работа под наблюдением Долгорукова действительно кипела – и он далеко опередил своих товарищей по той же профессии. В средине лета постройка была совершенно окончена – и через неделю после того Долгоруков запискою был приглашен представиться графу.
– Ну, поздравляю тебя, ты штабс-капитан, – обратился Аракчеев к представлявшемуся ему Долгорукову. – Повторяю тебе, что Аракчеев лентяев и дураков не жалует, но усердие и труды оценивает.
Сказавши это, граф тут же передал приказание генералу Клейнмихелю о поручении Долгорукову новой работы.
Как ни обрадовался Долгоруков чину штабс-капитана, который в то время весьма туго доставался в артиллерии, но едва ли не более был опечален новым поручением. Он не боялся труда, но его крепко возмущал надоедливый надзор за ним графа.
Но и новая работа была окончена, и так же благополучно, как и предшествовавшая, с тем же благоволением графа, и заключалась новою наградою Долгорукова. Таким образом, два с половиною года тянулись тяжкие для него испытания, и за это время он успел получить и чин капитана, и орден. Граф видимо благоволил к нему и даже отличал своим доверием, но, к несчастью, капитан Долгоруков зазнался перед своим грозным начальником.
В то время, когда граф Аракчеев, увлекаемый идеею создать что-то необыкновенное из устройства военных поселений, так ревниво преследовал малейшее порицание этой идеи, он встретил в лице Долгорукова непрошеного, дерзкого противника своей заветной мысли. Долгоруков находил, что устройство военных поселений, обращение мирных поселян с их потомством в пахотных воинов не только не может принести пользы, но в будущем готовит непоправимое зло и грустные последствия. От мнения Долгоруков перешел к делу: в обширной записке он изложил свой взгляд по этому предмету и критически отнесся к этому нововведению, пророча ему в будущем полную несостоятельность и самую отмену его. Эту несчастную записку он имел смелость представить через начальство своему грозному принципалу. История умалчивает, с каким чувством читал граф эту записку, но только она скоро возвратилась по начальству же к ее автору с лаконическою, энергичною пометкою рукою Аракчеева: «Дурак, дурак, дурак!» Говорили, что и посредствующему начальству передача этой записки обошлась нелегко.
Но Долгоруков не угомонился. Оскорбленное ли самолюбие, уверенность ли его в непогрешимости своего мнения, изложенного в записке, и, наконец, не упрямая ли настойчивость подстрекнули Долгорукова, но он успел, вероятно, при помощи врагов графа, а их было у него немало, довести свою записку до сведения Императора Александра Павловича. Государь прочитал записку, и она была им обращена к графу Аракчееву, с изображенною на ней, как говорили, такою приблизительно резолюциею Государя: «Прочитал с удовольствием, нашел много дельного и основательного, препровождаю на внимание графа Алексея Андреевича».
Можно себе представить то раздражение графа, в какое он был приведен дерзкою настойчивостью Долгорукова. Муравей осмелился восстать на слона и беспощадно был раздавлен им: капитан Долгоруков исчез, бесследно исчез в одну ночь. Ходили разного рода слухи, догадки – и даже денщика его не оказалось на квартире капитана. Говорили, что в роковую ночь кто-то видел троичную повозку, отъезжавшую от квартиры Долгорукова с ямщиком и двумя пассажирами. Поговорили, посудили тихомолком об этом событии, а капитан все-таки пропал, бесследно пропал. Минуло около двух лет после исчезновения Долгорукова. Не стало Императора Александра: воцарился Николай Павлович, и совершилось падение всемогущего временщика. Появился наконец и Долгоруков, изможденный, убеленный сединою, со всеми признаками надломленной жизни. Два года несчастный, жертва необузданного своеволия, томился в казематах Шлиссельбургской крепости. Произведенный в подполковники, с зачетом двух страдальческих лет в этом чине, он скоро переселился в вечность.
И мне привелось один раз в жизни встретить всемогущего графа. Это было давно, в лета моего детства, но и теперь еще живо рисуется в моем воображении его высокая, сгорбленная фигура с мрачным выражением лица, закутанная в поношенную енотовую шубу, в трехугольной шляпе, надетой на голове, как говорили тогда, шутя, поперек улицы, то есть по форме. Зимою, в начале 1825 года, мы с братом, новички-кадеты, шли с отцом около старого арсенала, здания, существовавшего на месте, с которого начинается ныне монументальный Александровский мост через Неву[414]414
Одно из названий Литейного моста, построенного в 1875–1879 гг.
[Закрыть].
– Генерал, – сказал нам отец, напомнив этим, что мы обязаны были отдать честь шедшему нам навстречу военному офицеру.
Мы с братом остановились, повернулись во фронт, что сделал и отец наш, приложивши руку к шляпе: он был в отставной военной форме.
– Мое почтение, – произнес сурово, носовою нотою, встретившийся генерал. – Это ваши детки – хорошо, молодцы – видно, что дети военного!
– Кто это? – спросил я отца, когда прошел генерал.
Отец осторожно оглянулся назад – и, наклонившись, шепотом, таинственно произнес:
– Граф Аракчеев – запомните его, он строгий, очень строгий человек.
И запомнили мы его. И сколько наслышались и начитались впоследствии сказаний об этом строгом человеке.
А. К. Гриббе[415]415
Гриббе Александр Карлович (1806–1876) в 1822 г. вступил подпрапорщиком в гренадерский графа А. полк, где и служил до 1836 г., когда перешел в 1-й округ пахотных солдат; впоследствии полковник. По выходе в отставку жил в Старой Руссе, где в 1873–1875 гг. у него снимали дачу Ф.М. и А. Г. Достоевские, вскоре после смерти хозяина купившие его дом (ныне мемориальный дом-музей Ф. М. Достоевского). Заметка об А. печатается по: PC. 1875. № 1. С. 84–111; известны еще два очерка, основанных на воспоминаниях Гриббе о службе: Холерный бунт в Новгородских военных поселениях 1831 г. // PC. 1876. № 11. С. 513–536; Новгородские военные поселения // PC. 1885. № 1. С. 127–152.
[Закрыть]
Граф Алексей Андреевич Аракчеев
(Из воспоминаний о Новгородских военных поселениях 1822–1826)
В ряду разных бедствий и невзгод, перенесенных русским народом в течение тысячелетнего его существования, не последнее, конечно, место занимают военные поселения, оставившие по себе неизгладимые следы не только в памяти значительной части населения России, но и в его экономическом быту.
Как возникла злосчастная мысль об учреждении у нас военных поселений и как применялось на практике ее осуществление, я не буду говорить, так как об этом много уже было писано. Кроме весьма обстоятельно составленной книги «Граф Аракчеев и военные поселения», в некоторых из наших периодических изданий помещено было несколько статей и рассказов из истории и быта военных поселений, преимущественно Новгородских. Полной истории этих учреждений у нас еще нет, да таковая, разумеется, еще и невозможна ныне, когда многое, что было бы в состоянии пролить яркий свет на эпоху царствования Благословенного, лежит пока еще под спудом и, Бог весть, когда выглянет на белый свет. Между тем учреждение и существование военных поселений представляют собою весьма крупное явление Александровской эпохи. В тех приемах, с какими осуществлялось у нас чуждое духу русского народа учреждение, виден характер тогдашнего времени; поэтому я полагаю, что всякий факт из истории этой эпохи, – как бы ни казался он, с первого взгляда, незначителен, – на самом деле никогда не будет лишним, и – кто знает? – быть может, пособит будущему историку представить правдивую картину нашего прошлого.
Эти соображения, а также и настояния некоторых моих друзей побудили меня, старого инвалида-поселенца, взяться за перо, припомнить давно минувшее и передать на бумаге те, уцелевшие в моих воспоминаниях, случаи из быта военных поселений, которые могут отчасти служить к характеристике того времени.
I
20 января 1822 года я, тогда еще шестнадцатилетний мальчик, отправлен был моим отцом на службу в гренадерский графа Аракчеева полк, поселенный в Новгородской губернии, по реке Волхову. В этом полку уже служил, в чине поручика, мой старший брат, и потому неудивительно, что отец, зная о всей строгости службы на глазах самого Аракчеева, что называется на юру[416]416
На юру – здесь: «на бойком, открытом месте» (Даль), на виду у всех.
[Закрыть], решился отдать меня туда: моя молодость и совершенная неопытность требовали, в особенности на первое время, бдительного надзора и руководства со стороны человека более или менее солидного и хотя несколько поиспытанного уже жизнью.
По поступлении в полк, несмотря на новость положения и на кажущуюся свободу, какою пользовались тогда подпрапорщики и унтер-офицеры из вольноопределяющихся, я сильно тосковал первое время и очень смущался некоторыми, дикими для меня, сторонами военной жизни; мне так и казалось, что будто бы я попал в какое-то механическое заведение, где каждое движение, каждый шаг, каждое слово были заранее определены, размерены и отсчитаны.
На другой же день по приезде моем в полковой штаб брат мой представил меня полковому командиру, полковнику фон Фрикену, пользовавшемуся особенною благосклонностью Аракчеева и милостью Александра I.
На немецком языке фон Фрикен выразил свое удовольствие принять меня к себе в полк и обещал содействовать моему определению на службу. Действительно, когда в апреле месяце того же 1822 года Аракчеев приехал в полк, я был представлен ему.
Фигура графа, которого я увидел тогда впервые, поразила меня своею непривлекательностью. Представьте себе человека среднего роста, сутулого, с темными и густыми, как щетка, волосами, низким волнистым лбом, с небольшими, страшно холодными и мутными глазами, с толстым, весьма неизящным носом, формы башмака, довольно длинным подбородком и плотно сжатыми губами, на которых никто, кажется, никогда не видывал улыбки или усмешки; верхняя губа была чисто выбрита, что придавало его рту еще более неприятное выражение. Прибавьте ко всему этому еще серую, из солдатского сукна, куртку, надетую сверх артиллерийского сюртука[417]417
Обыкновенно Аракчеев носил артиллерийскую форму; но при осмотре работ на военных поселениях он сверх артиллерийского сюртука надевал куртку из серого солдатского сукна и в таком наряде бродил по полям, осматривал постройки и т. п. работы. В этой-то куртке я увидел его в первый раз. (Прим. Гриббе)
[Закрыть], и вы составите себе понятие о внешности этого человека, наводившего страх не только на военные поселения, но и на все служившее тогда в России.
– Кто твой отец? – спросил меня граф своим гнусливым голосом, так часто заставлявшим дрожать даже людей далеко не трусливых.
Надо заметить, что Аракчеев произносил сильно в нос, причем еще имел привычку не договаривать окончания слов, точно проглатывал его. Трепеща всем телом, я ответил на вопрос.
– Я принимаю тебя, – сказал Аракчеев, – но смотри, служить хорошо. Шелопаев я терпеть не могу!
Я был зачислен подпрапорщиком в 4-ю фузелерную[418]418
Фузелерная рота — мушкетерская.
[Закрыть] роту гренадерского графа Аракчеева полка и поступил в полное распоряжение капрального унтер-офицера Дмитрия Ефимовича Фролова, бывшего первым моим наставником в военной премудрости.
Фролов, переведенный в 1807 году, в числе 800 человек, из Архаровского полка в Аракчеевский, представлял собою совершеннейший тип капрала старого времени. Геркулес сложением, двенадцати вершков роста, стройный и красивый, он был страшный службист, строгий к самому себе и не дававший пощады своим подчиненным. К такому-то человеку попал я в опеку, и он своими бесконечными дисциплинарными наставлениями нередко доводил меня до слез. Поставит, бывало, под ружье и начнет преподавать истины рекрутской школы, о том, как должен стоять солдат, пересыпая эти пунктики и до сих пор непонятными для меня фразами: «Никакого художества в вас я не замечаю; но только вы всеми средствиями подавайтесь вперед и отнюдь на оные не упирайтесь да на левый бок не наваливайтесь! Стыдно, стыдно плакать! Плачут одни бабы, а нам, молодцам-гренадерам, не приходится!»
II
В том же 1822 году, в июле месяце (числа не упомню), объявлено было, что Император Александр Павлович посетит Новгородские военные поселения[419]419
Неточность: в 1822 г. Александр I посетил Грузине 15 июня.
[Закрыть]. Для встречи Государя приказано было приготовиться той половине полка, по району которой он должен был проехать.
На случай проезда Государя установлен был особый церемониал, который и соблюдался всегда во всех поселенных полках: поселяне-хозяева, с своими женами и детьми, становились каждый перед домом своего нумера; постояльцы каждого хозяина помещались по левую сторону его семейства; все, как хозяева, так и постояльцы, были в мундирах, фуражках и в штиблетах; женщины и дети также наряжались в свои лучшие праздничные костюмы. Ротные командиры находились на правых флангах связей, то есть у домов № 1-го, где и представляли рапорты о состоянии своих рот; полковой же командир встречал Государя на границе своего полка.
При въезде в роту Государь останавливался, принимал рапорт и потом медленно ехал, отвечая приветливым поклоном на громогласное «здравия желаем» гренадер.
В этот день я в первый раз увидел Благословенного. Он ехал в коляске вместе с Аракчеевым, сидевшим по правую его руку. Иногда Государь приказывал остановиться, входил в дом, осматривал житье-бытье поселенцев, пробовал кушанье, приготовленное в этот день хозяевами (а в этот день хозяева ухо остро держали!)[420]420
Чтобы выказать перед Государем удивительную степень благоденствия солдат-поселенцев, а в то же время и себе заслужить похвалу и награду, поселенное начальство поднималось на разные штуки. Читателям известны, я думаю, рассказы о жареных поросенке и гусе, переносимых, по задворкам, из дома в дом, по мере проезда Государя, так что, в какой бы дом царю ни вздумалось зайти, везде за обеденным столом хозяев красовался или гусь, или поросенок, свидетельствуя о довольстве, в каком живут солдаты-поселяне. Все это действительные факты, очень хорошо известные во всех военных поселениях и обычные до того, что никто и не думал придавать им какое-нибудь особенное значение: следовало представить свой товар, ну и представляли, разумеется, с казового конца; не показывать же было обыденных заплат и лохмотьев – ежедневные пустые щи и избитые спины счастливых поселян.
[Закрыть].
За прием и угощение Царя хозяйка дома получала в подарок сарафан, очень нарядный, обшитый серебряною бахромой и усаженный такими же пуговицами. Об этом подарке объявлялось впоследствии в приказе по полку, причем объяснялось, что такая-то за примерный порядок в хозяйстве Всемилостивейше жалуется штофным сарафаном в 150 рублей (в то время считали еще на ассигнации).
На другой день по приезде Государя происходил смотр полку графа Аракчеева и армейским кадровым баталионам. Эти баталионы – несчастная жертва тогдашнего времени – приходили иногда в числе пятидесяти или шестидесяти в Новгородские поселения еще в апреле месяце и были употребляемы в разные работы: вырубку лесов, расчистку полей, проведение дорог, выделку кирпича и т. п. Обыкновенно они оставляли свои бараки на поселениях и уходили на зимние квартиры в разных более или менее отдаленных уездах Новгородской и смежных с нею губерний в сентябре месяце; но иногда те из них, которые не успели выполнить определенных им рабочих уроков, оставлялись на работах в наказание и на октябрь.
Царский смотр сошел благополучно; Государь остался всем очень доволен и, по обыкновению, благодаря Аракчеева за представление в отличном виде подведомственных ему частей, обнял его и поцеловал.
По отъезде Государя все, экстренно подтянутое, начало мало-помалу приходить в свое обычное состояние, и поселенная жизнь потекла будничным порядком; только начальствующие лица все еще продолжали волноваться в ожидании наград.
III
Спустя недели две после Высочайшего смотра приехал в полк Аракчеев. На другой день назначен был развод с церемонией. В караул по полку – очередная рота; состав развода следующий:
1) караульная рота; 2) караул Военно-учительского института; 3) два караула от армейских кадровых батальонов; 4) караул от фурштатской роты[421]421
Фурштатский — имеющий отношение к военному обозу.
[Закрыть]; 5) караул от рабочего батальона; 6) учителя военно-сиротских отделений[422]422
Учителя эти носили трехугольные шляпы.
[Закрыть]; 7) уланы Чугуевского и Херсонского поселений; 8) парольные унтер-офицеры от всех батальонов и 9) унтер-офицеры и рядовые (при офицере) от жандармского взвода и фурштатской роты, верхами являвшиеся ординарцами и вестовыми к старшему при разводе.
Я нарочно привожу этот мозаичный состав развода, чтобы читатель мог составить себе понятие о разводах былого времени.
Все готово. Все подтянуты, выглажены и вылощены; все с трепетом ждут грозного начальника. Тихо так, что слышно жужжание больших синих мух, ожесточенно нападающих на потные лица и затылки гренадер и самого начальства… Старшие офицеры, собравшиеся на правом фланге развода, разговаривают вполголоса, передавая друг другу свои предположения о том, кому какую дадут награду. Офицеры, находящиеся в строю, проходят иногда по фронту, выравнивая ряды, поправляя на людях амуницию и кивера… Звуки подзатыльников и зуботычин раздаются как-то очень глухо – бьют осторожно… крепкое русское словцо, в обычное время неумолкаемым эхом перекатывающееся по плацу, теперь слышится иначе, мягко и сдержанно…
– Идет! – полушепотом проносится по разводу, и действительно, он наконец появляется.
Встреченный барабанным походом, граф после обычного приветствия: «Здорово, гренадеры!» – отправляется по фронту. Музыканты изо всей силы надувают приветственный марш, под звуки которого его сиятельство обходит представляющиеся на разводе части, делая по пути свои замечания. Вот он останавливается перед учителями в треуголках, и по плацу раздается его гнусливый голос: