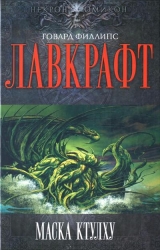
Текст книги "Маска Ктулху"
Автор книги: Август Дерлет
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
И вот я подхожу к той части моего рассказа, которая, к несчастью, останется туманной, ибо я не всегда могу быть уверен в точном порядке или значении событий, в которых принимал участие. Встревоженный суеверным страхом Уэйтли, я отправился прямиком к дому брата и начал просматривать те странные древние книги, что составляли его библиотеку. Я искал еще какие-то ключи к курьезным верованиям Уэйтли, но едва я взял в руки один том, как меня вновь наполнила несокрушимая уверенность, что эти поиски тщетны, ибо что может дать человеку чтение того, что он и так уже знает? И как рассуждают те, кто не знает об этом ничего, – разве это имеет значение? Ибо мне чудилось, будто я вновь вижу странный пейзаж с его титаническими аморфными существами, вновь слышу, как хор поет чужие имена, намекая на чудовищную власть, и пение это сопровождается пронзительной музыкой и завываниями, извергающимися из глоток, вовсе не похожих на человеческие.
Иллюзия эта длилась лишь краткое мгновенье – ровно столько, чтобы отвлечь меня от поисков. Я бросил дальнейшие исследования братниной книги и после легкого обеда вновь попытался продолжить расспросы, но так неудачно, что в середине дня все бросил и вернулся домой в нерешительности; теперь я уже не был уверен, что люди шерифа действительно не сделали для розысков Абеля всего, что было в их силах. Хотя решимость моя довести дело до конца не убавилась, я впервые серьезно усомнился, удастся ли мне выполнить задуманное.
Той ночью я вновь слышал странные голоса.
Возможно, мне уже не следует называть их «странными», поскольку я слышал их и прежде; они были неузнаваемы и чужды, а источник их все так же оставался для меня загадкой. Но той ночью козодои кричали гораздо громче прежнего. Их крики пронзительно звенели в доме и по всему распадку. Голоса объявились где-то около девяти. Вечер был пасмурный, огромные серые тучи давили на холмы и нависали над долиной, воздух пропитался влагой. При этом сама влажность его увеличивала громкость птичьих криков и усиливала странные голоса, как и прежде, вскипевшие внезапно – оглушительные, неразборчивые, жуткие; больше того, их невозможно было описать вообще. И снова это походило на литанию: хор козодоев набухал как бы в ответ каждой певшейся фразе – невыносимая какофония, взмывавшая до ужасных катаклизмов звука.
Некоторое время я пытался разобрать хоть что-то в тех чуждых моему естеству голосах, которыми пульсировала вся комната, но они звучали совершеннейшей белибердой, несмотря на мое внутреннее убеждение, что произносили они вовсе не белиберду, а нечто очень важное, далеко превосходящее мое понимание. Мне уже было все равно, откуда они исходят: я знал, что возникают они где-то в доме, а посредством какого-либо естественного явления или как-то иначе – этого определить я не мог. Голоса были порождением тьмы или – такую возможность тоже нельзя было исключать – возникали в сознании, глубоко растревоженном демоническим криком козодоев, со всех сторон создававших ужасный бедлам, заполнявших долину, дом и сам разум мой этим громом, этим резким, пронзительным и несмолкающим: «Уиппурвилл! Уиппурвилл! Уиппурвилл!»
Я лежал в состоянии, похожем на каталепсию, и слушал:
– Ллллллллл-нглуи, ннннннн-лагл, фхтагн-наг, айи Йог-Сотот!
Козодои отвечали раскатистым крещендо звука – он заливал дом, бился о стены, вторгался внутрь. Голоса отступали, а с холмов возвращалось эхо и разбивалось о мое сознание лишь с немного меньшей силой:
– Йгнайии! Й’бтнк. ИИИ-йя-йя-йя-йаххааахаахаахаа!..
И вновь взрыв звука, нескончаемое «Уиппурвилл! Уиппурвилл! Уиппурвилл!» билось в ночь, в облачную мглу грохотом тысяч и тысяч неистовых барабанов!
К счастью, я потерял сознание.
Человеческие тело и разум могут вынести далеко не все, прежде чем наступит забытье, а с забытьем ко мне в ту ночь пришло видение невыразимой силы и ужаса. Мне грезилось, что я – в какой-то дали, где стоят громадные монолитные здания, населенные не людьми, а существами, которых людям даже с самым необузданным воображением невозможно себе представить; в стране гигантских древовидных папоротников, каламитов и сигиллярий [41]41
Каламиты и сигиллярии– вымершие древовидные растения, широко распространенные в каменноугольном периоде.
[Закрыть], окружающих фантастические постройки; среди ужасающих лесов из деревьев и другой поросли, неведомой на Земле. Тут и там возвышались колоссы из черного камня – они стояли в глубине лесов, где царил непреходящий сумрак, – а кое-где громоздились руины из базальтовых глыб невероятной древности. И в этом царстве ночи сиявшие созвездия не походили ни на одну карту небес, какие мне доводилось видеть, а рельеф не имел никакого сходства ни с чем узнаваемым – если не считать представлений некоторых художников о том, как должна была выглядеть Земля в доисторические времена, задолго до палеозоя.
О существах, населявших мой сон, помню лишь, что у них не имелось никакой отчетливой формы: они были гигантских размеров и обладали отростками, по природе своей напоминавшими щупальца, но существа на них умели перемещаться, а также хватать и удерживать ими что-либо. Отростки могли втягиваться в одном месте и возникать в другом. Существа обитали в монолитных постройках, и многие пребывали там без движения, словно бы во сне, а им прислуживали существа-зародыши – значительно меньших габаритов, но сходной структуры, особенно в том, что касалось изменения формы. Были они кошмарного грибного цвета, не похожего на оттенок плоти вообще, – он напоминал окраску многих построек, – и временами эти твари претерпевали чудовищные телесные превращения, будто бы пародируя криволинейные архитектурные формы, коими изобиловал этот мир сна.
Странное дело, пение и плач козодоев не стихали – они как бы ткали это виденье, но звучали в некой перспективе, подымаясь и опадая фоном, как бы где-то вдалеке. Более того, казалось, что и сам я существую в этом странном мире, но в ином виде – будто сам прислуживаю одному из Великих, что возлежали там, вхожу в страшную тьму чужих лесов, убиваю зверей и вскрываю им вены, чтобы Великие могли кормиться и расти в каких-то других измерениях, отличных от этого жуткого мира.
Сколько длилась греза, сказать не могу. Я проспал всю ночь, однако, проснувшись, чувствовал себя как никогда усталым – будто почти всю ночь работал и задремал лишь под утро. Я еле дотащился до кухни, поджарил яичницу с беконом и без аппетита поел. Но завтрак и несколько чашек черного кофе вдохнули в меня новую жизнь, и я встал из-за стола освеженным.
Когда я вышел за дровами, зазвонил телефон. Звонили Хокам, но я поспешил внутрь послушать.
Голос Хестер Хатчинс я узнал сразу, поскольку привык к ее безостановочному говору:
– …И впрямь говорят, убили шесть или семь лучших коров у него в стаде, так мистер Осборн сказал. Они как раз на том южном пастбище были, что ближе всего к участку Хэрропа. Бог знает, сколько б еще поубивали, да все стадо кинулось прочь, сшибло ограду – да в хлев. Вот тут-то работник осборновский, Энди Бакстер, и пошел на пастбище с фонарем да увидел их. Совсем как коровы Кори да бедняжка Берт Джайлз – горла разорваны, измочалены все, бедные скотинки, так что смотреть страшно! Бог знает, что бродит по нашему распадку, Винни, но что-то нужно делать, или нас всех так поубивают. Я-то знала, что козодои кричат по чью-то душу – вот они и взяли бедного Берта. А теперь по-прежнему кричат, и я знаю, что это значит, и ты тоже это знаешь, Винни Хок. Еще больше душ отойдет к этим козодоям, прежде чем луна снова сменится.
– Господи боже милостивый! Еду в Бостон, как только тут со всем управлюсь.
Я знал, что в этот день ко мне снова зайдет шериф, и был готов к его приходу. Я ничего не слышал. Я объяснил, что минувшей ночью был просто обессилен бессонницей, а теперь мне удалось уснуть, несмотря на шум козодоев. В ответ шериф весьма любезно рассказал мне, что сделали с коровами Осборнов. Убито семь животных, и во всем этом есть что-то очень странное, ибо обильного кровотечения не наблюдалось, хотя глотки разорваны. К тому же, несмотря на такой зверский характер нападения, уже ясно, что убийство совершил человек, ибо нашли фрагментарные следы ног – к сожалению, отпечатков недостаточно, чтобы делать какие бы то ни было заключения. Тем не менее, продолжал шериф доверительно, один из его помощников вот уже некоторое время присматривается к Амосу Уэйтли: Амос иногда делал в высшей степени странные замечания, а вел себя как человек, подозревающий, что за ним следят, – ну или что-то в этом роде. Шериф рассказывал все это устало, поскольку был на ногах с того времени, как его вызвали на ферму Осборнов.
– А вы что знаете об Амосе Уэйтли? – продолжал он.
Я лишь покачал головой и признался, что знаю слишком мало обо всех своих соседях.
– Но я заметил его чудн ы е разговоры, – признал я. – Всякий раз, как я с ним беседую, он говорит очень странные вещи.
Шериф нетерпеливо наклонился ко мне поближе:
– А он когда-нибудь говорил или бормотал о каком-то «кормлении» кем-то кого-то?
Я признал, что Амос действительно говорил что-то подобное.
Шерифа, казалось, это удовлетворило. Он откланялся, косвенным образом дав мне понять, что набирает очки: в сравнении с их следствием я не добился никаких заметных успехов и до сих пор не выяснил, что же случилось с моим двоюродным братом. Меня отнюдь не удивило, что он подозревает Амоса Уэйтли. И все же что-то в глубине сознания резко противоречило теории шерифа; меня тяготило какое-то смутное беспокойство – как гнетущее воспоминание о чем-то незавершенном.
Утомление не покидало меня весь день, и я почти не мог ничего делать, хотя нужно было постирать кое-что из одежды, на которой появились какие-то ржавые пятна. Затем я не спеша стал разбираться, что именно Абель пытался делать с сетями, и пришел к выводу: он связал их для ловли чего-то. Чего же, как не козодоев – они, должно быть, и его то и дело доводили до белого каления? Возможно, он знал об их повадках больше меня и у него имелись более веские причины их ловить не только из-за постоянного крика.
Днем я урывками ложился подремать, хотя время от времени приходилось вставать и слушать потоки перепуганных разговоров в телефонной трубке. Им не было конца: звонки раздавались весь день, причем общались между собой и мужчины, а не только женщины, чьей монополией линия была до сих пор. Говорили о том, чтобы согнать весь скот в одно стадо и хорошенько сторожить его, – но все боялись сторожить в одиночку; говорили и о том, чтобы по ночам держать всех коров в хлевах, и я понял, что именно к этому решению все склонились. Женщины, однако, настаивали, чтобы после темноты никто вообще не выходил наружу ни по какой надобности.
– Днем Оно не приходит, – втолковывала Эмма Уэйтли Мари Осборн. – Ничего ж не делается днем. Вот я и говорю: сидеть дома, как только солнце сядет за холмы.
А Лавиния Хок уехала в Бостон вместе с детьми, как и собиралась.
– Собралась и укатила вместе с детишками и оставила там Лабана одного, – говорила Хестер Хатчинс. – Хоть он там и не один: привез себе постояльца из Аркхема, и они там вдвоем устроились. Ох, какой же это ужас, это ж просто наказание Господне на нас – и хуже всего, что никто не знает ни как Оно выглядит, ни откуда приходит, ничего.
Вновь всплыло и повторилось суеверие: дескать, из коров высосали всю кровь.
– Говорят, от коров и крови много не было, а знаете почему? У них ее просто не осталось, – говорила Анджелина Уилер. – Господи, что ж с нами со всеми будет-то? Нельзя ведь сидеть и ждать, пока нас всех поубивают.
Все эти испуганные разговоры были сродни свисту в темноте: с телефоном им – как женщинам, так и мужчинам – было не так одиноко. Разговаривая, они вроде как держались вместе. Меня нисколько не удивило, что никто ни разу не позвонил мне: я же был чужаком, а в деревенских общинах вроде этой редко принимают в свой круг людей со стороны раньше чем через десять лет – если вообще принимают. Ближе к вечеру я совсем перестал слушать телефон: усталость еще давала о себе знать.
А ночью снова появились голоса.
И видение пришло вместе с ними. Я опять был среди огромных пространств со странными базальтовыми строениями и страшными лесными зарослями. И знал, что здесь я Избранный, я горд, что служу Древним и принадлежу тому величайшему, подобному прочим и все же иному, тому, кто один способен принимать форму скопления сияющих сфер, Хранителю Порога, Охранителю Врат, Великому Йог-Сототу, который лишь выжидает, чтобы вернуться на свою давнюю земную твердь, в то измерение, где я должен буду продолжать свое служение ему. О, власть и слава! О, чудо и ужас! О, вечное блаженство! И я слышал, как кричат козодои, как их голоса поднимаются и опадают вокруг, а гимнопевцы выкрикивают под чужими звездами, под чужими небесами, выкрикивают вниз, в глубокие пропасти, и ввысь, к укутанным пеленой горным пикам, выкрикивают громко:
– Лллллллл-нглуи, ннннн-лагл, фхтагн-нга, айи Йог-Сотот!
И я тоже возвысил свой глас во славу Его, Таящегося на Пороге:
– Лллллллл-нглуи, ннннн-лагл, фхтагн-нга, айи Йог-Сотот!
Говорят, именно это я вопил, когда меня нашли подле тела бедной Амелии Хатчинс: сгорбившись над ней, я рвал горло беззащитной женщины, сбитой с ног, когда она возвращалась по хребту от Эбби Джайлз. Говорят, именно эти слова неслись из моих уст, полные звериной ярости, а повсюду вокруг были козодои, они плакали и вопили, сводя с ума. И вот почему они заперли меня в этой комнате с решетками на окнах. Глупцы! Ох, какие глупцы! У них не получилось с Абелем, и они цепляются за соломинку. Как они могут хотя бы помыслить о том, чтобы оградить от Них Избранного? Что Им все эти решетки?
Но они еще и запугивают меня – говорят, что все это сделал я. Да я никогда в жизни не поднял руку на человека. Я рассказал им, как все было, – если только они захотят понять. Я сказал им. Это был не я, нет! Я знаю, кто это был. Мне кажется, я всегда это знал, и если они постараются – доказательства найдут.
То были козодои, они беспрестанно звали, эти проклятые козодои, они кричали, они таились в ожидании – козодои, козодои в распадке…
Нечто из дерева [42]42
Впервые опубликован в марте 1948 г.
[Закрыть]
(Перевод М. Немцова)
Очень хорошо, что ограниченность человеческого разума нечасто позволяет созерцать в должной перспективе все факты и события, коих этот разум касается. Я размышлял об этом множество раз – особенно в связи с любопытными обстоятельствами исчезновения Джейсона Уэктера, музыкального и художественного критика бостонской газеты «Циферблат», случившегося год назад. Тогда выдвигалось множество теорий: от подозрения в убийстве Уэктера каким-нибудь разочаровавшимся художником, которого больно задели ядовитые инвективы критика, до предположений, что Джейсон просто сбежал неизвестно куда, не сказав никому ни слова, по причине, ведомой лишь ему одному.
Возможно, последняя гипотеза гораздо ближе к действительности, нежели принято полагать, хотя принимать ее или нет – вопрос терминологии, подразумевающий выбор: является отсутствие Уэктера добровольным или же нет. Однако есть одно объяснение, предлагающее себя всем, кто обладает достаточным воображением, чтобы понять, о чем идет речь; а некие обстоятельства, приведшие к этому событию, и впрямь не способствуют никакому иному заключению. Вот к этим обстоятельствам я был непосредственно – и немало – причастен, чего, впрочем, не сознавал и сам, пока исчезновение Джейсона Уэктера не стало фактом.
События начались с одного желания, которое само по себе было более чем прозаическим. Уэктер, живший один в старом доме на Кингз-лейн в Кембридже, достаточно далеко от кипения жизни, коллекционировал произведения примитивного искусства – в основном из дерева или камня. У него имелись такие курьезы, как странная культовая резьба Ордена кающихся грешников [43]43
Орден кающихся грешников. – Существовало несколько католических орденов с таким названием. Здесь, вероятно, имеется в виду орден, основанный в 1272 г. Бернаром Марсельским.
[Закрыть], барельефы майя, эксцентричные скульптуры Кларка Эштона Смита, деревянные фетиши и резные фигурки богов и богинь с островов Южных морей и многое другое. Еще он хотел иметь «нечто из дерева», что как-то отличалось бы от всего остального, хотя, по моему мнению, даже работы Смита предлагали разнообразие, кое могло бы удовлетворить любого. Но Смит не работал по дереву; Уэктеру же хотелось чего-то именно из дерева, чтобы, как он выражался, «уравновесить коллекцию», и приходилось признать, что и впрямь деревянных изделий у него почти не было, если не считать нескольких масок с Понапе [44]44
Понапе– остров в Микронезии, близ побережья которого сохранились развалины Нан-Мадола – города, возведенного из базальтовых блоков на искусственных островках. Происхождение строителей города, как и назначение некоторых сооружений, до сих пор остается загадкой для ученых.
[Закрыть], которые странной и чудесной образностью своей перекликались с работами Смита.
Думаю, не один приятель Джейсона Уэктера искал для него «чего-нибудь из дерева», но именно мне однажды выпало найти то, что нужно, – в незаметной лавке старьевщика в Портленде, куда я приехал провести отпуск. То и впрямь была странная вещица, но сделанная просто ювелирно: нечто вроде барельефа с осьминогообразным существом, поднимающимся из разбитой монолитической конструкции в некоем подводном пространстве. Цена в четыре доллара была крайне умеренной, а то, что сам я никак не мог истолковать эту резьбу, больше прочих соображений увеличивало ее ценность в глазах Уэктера.
Я назвал существо «осьминогообразным», но осьминогом оно не было. Чем оно было, я не знал; его внешний вид предполагал наличие тела подлиннее и вовсе не похожего на туловище осьминога, а щупальцевидные отростки отходили не только от лица – из того места, где должен располагаться нос, как в скульптуре Смита «Старший Бог», – но также от боков и из средней части тела. Два отростка, шедшие от лица, явно были хватательными и изображались так, словно метнулись вперед, как бы стараясь схватить – или уже хватая – что-то. Сразу над этими щупальцами имелись глубоко посаженные глаза, вырезанные со сверхъестественным мастерством: они оставляли впечатление невыразимого и тревожного зла. В подножии статуэтки была вырезана строка на неведомом языке:
«Ф’нглуи мглв’наф Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн».
О природе того дерева, из коего все это было вырезано, – темно-коричневого, почти черного, с совершенно неведомой текстурой витых волокон, – я не знал ничего, вот только для дерева оно было необычайно тяжелым. Хотя вещь была крупнее, нежели я собирался дарить Джейсону Уэктеру, я знал, что она ему понравится.
– Откуда она у вас? – спросил я у флегматичного человечка за прилавком, заваленным всякой всячиной.
Он сдвинул очки на лоб и ответил, что не может сообщить мне на этот счет ничего – разве что выловили статуэтку в Атлантическом океане.
– Может, смыло с какого-нибудь судна, – предположил он.
Неделю или две назад ее вместе с другими вещами принес старик, который обычно роется в мусоре на побережье, ища какой-нибудь ценной поживы, выброшенной морем. Я спросил, что здесь может быть изображено, но об этом хозяин лавки знал еще меньше, чем о происхождении статуэтки. Джейсон, следовательно, волен был изобретать по сему поводу любые легенды.
Тот пришел от вещицы в полный восторг – а в особенности от того, что немедленно обнаружил некое поразительное сходство с каменными скульптурами Смита. Знаток примитивного искусства, он указал мне еще на одну особенность, по которой становилось ясно, что за четыре доллара лавочник эту вещь мне практически подарил, а именно: определенные следы указывали, что изображение вырезано орудиями гораздо более древними, нежели инструменты нашего времени – и даже того цивилизованного мира, который мы знаем. Все эти подробности представляли для меня, конечно же, преходящий интерес, поскольку я не разделял любви Уэктера к примитивизму; призн а юсь, к тому же я испытал труднообъяснимое отвращение, когда Джейсон сопоставил эту осьминожью резьбу и работы Смита. Отвращение это, видимо, коренилось в вопросах, которые я не осмеливался задать вслух, хоть они меня и беспокоили: если этой вещи и впрямь много веков, как предполагает Уэктер, и она представляет собой вид резьбы доселе неизвестный, как же могло получиться, что современные скульптуры Кларка Эштона Смита обладают таким сходством с ней? И не больше ли простого совпадения – что фигуры Смита, воссозданные по фантазиям его зловещей прозы и поэзии, повторяют мотивы искусства, создававшегося кем-то, удаленным от него на многие столетия во времени и многие лиги в пространстве?
Но таких вопросов, повторяю, я не задал. Возможно, если бы я это сделал, последующие события можно было бы изменить. Энтузиазм и восторг Уэктера я воспринял как дань моему хорошему вкусу, и резьба заняла свое место на его широченной каминной доске рядом с лучшими деревянными скульптурами коллекции. Я забыл и думать о ней.
Снова я увидел Джейсона Уэктера лишь через две недели, по возвращении в Бостон, но и тогда, быть может, мы бы с ним не встретились, если бы мое внимание не привлекла особенно жестокая критика, которой Уэктер подверг публичную выставку скульптора Оскара Богдоги, чью работу лишь пару месяцев назад превозносил до небес. Действительно, рецензия была такова, что возбудила обеспокоенный интерес многих друзей Джейсона: она указывала, что у критика наметился новый подход к искусству, и обещала множество неожиданностей тем, кто постоянно следил за его оценками. Тем не менее один наш общий знакомый, по специальности психиатр, признался мне, что испытал легкую тревогу: в короткой, но знаменательной статье Уэктера присутствовали некоторые любопытные аллюзии.
Я сам прочел заметку с немалым удивлением и сразу же заметил определенный и отчетливый отход Уэктера от привычной манеры. Его обвинения в том, что работам Богдоги недостает «огня… элемента напряженности… даже всяких претензий на духовность», были достаточно обычны, но утверждения, будто художник, «очевидно, не знаком с культовым искусством Ахапи или Ахмноиды» и что Богдоге лучше бы заняться чем-нибудь другим, а не гибридной имитацией «школы Понапе», были не только неуместны, но и совершенно необъяснимы: Богдога был выходцем из Центральной Европы, и его тяжелые массы гораздо сильнее походили на произведения Эпштейна [45]45
Сэр Джейкоб Эпштейн (1880–1959) – английский скульптор-модернист, американец по рождению. В своих часто провокационных работах бросал вызов некоторым принятым в то время общественным табу.
[Закрыть], нежели на работы, скажем, М е штровича [46]46
Иван Мештрович (1883–1962) – хорватский скульптор и архитектор, работал в Италии, Франции и США.
[Закрыть], – и, уж конечно, не на тех примитивистов, кои так восторгали Уэктера и теперь совершенно явно стали влиять на его способность рассуждать об искусстве. Ибо вся его статья была усеяна странными ссылками на художников, о которых никто не слыхал, на места, далеко отстоящие от нас во времени и пространстве – если они вообще существовали на этой земле, – а также на культуры, которые никак не соотносились с известными даже самым информированным читателям.
И все же его подход к искусству Богдоги не был совершенно неожиданным, ибо всего двумя днями ранее он написал критическую заметку о первом исполнении новой симфонии Франца Хёбеля цветистым и эгоцентричным Фраделицким: она полнилась отсылками к «мелодичной музыке сфер» и «тем трубным нотам, предруидическим по своему происхождению, которые призрачно наполняли эфир задолго до того, как человечество поднесло к губам или взяло в руки вообще какой бы то ни было музыкальный инструмент». Одновременно он хвалил исполненную в той же программе «Симфонию № 3» Хэрриса [47]47
Рой Эллсуорт Хэррис (1898–1979) – американский классический композитор. Его Третья симфония (1938–1939) считается «квинтэссенцией американской симфонической музыки». На премьере оркестром управлял русско-американский контрабасист и дирижер Сергей Александрович Кусевицкий (1874–1951).
[Закрыть], которую прежде публично ругал, а сейчас называл «блестящим образцом возвращения к той допримитивной музыке, что таится в родовом сознании человечества, к музыке Великих Древних, пробивающейся сквозь наслоения Фраделицкого – но, опять-таки, Фраделицкий, сам не способный к музыкальному творчеству, неизбежно вынужден накладывать на любую работу под своей дирижерской палочкой достаточно самого Фраделицкого, чтобы ублажить собственное эго, не обращая внимания, насколько при этом перетолковывается композитор».
Две эти крайне загадочные рецензии в спешке отправили меня к дому Уэктера; я застал его за письменным столом – погруженным в тяжкие думы перед двумя своими неоднозначными статьями и грудой писем, без сомнения, негодующих.
– A-а, Пинкни, – приветствовал меня он, – вас, конечно, привели сюда эти мои любопытные рецензии…
– Не совсем, – уклонился я. – Признавая, что любая критика вытекает из личного мнения, вы свободны писать все, что вам вздумается, коль скоро вы искренни. Но кто такие, к дьяволу, эти ваши Ахапи и Ахмноида?
– Я сам бы хотел это знать.
Он произнес это настолько серьезно, что в его искренности я не усомнился.
– Но я уверен, что они существовали, – продолжал он. – Как и Великие Древние, по всей видимости оказавшие влияние на изначальный фольклор.
– Так как же вы на них ссылаетесь, если не знаете, кто они такие? – не выдержал я.
– Этого, Пинкни, я тоже не вполне могу объяснить, – ответил он, озабоченно нахмурившись. – Но попытаюсь.
И он пустился в не очень связный рассказ о том, что с ним случилось после того, как я нашел для него в Портленде резьбу с изображением странного осьминога. Не проходило ни единой ночи, когда бы во сне ему не являлось это существо – либо непосредственно и близко, либо смутным ощущением где-то на краю сна. Ему снились места под землей и города на дне моря. Он видел себя на Каролинах и в Перу; во сне бродил по овеянному легендами Аркхему под весьма подозрительными домами с островерхими крышами; на странном морском судне плыл куда-то за пределы всех известных океанов. Резьба, знал он, лишь миниатюра, ибо само существо представляет собой громадную массу протоплазмы, способную менять форму мириадами способов. Его имя, говорил Уэктер, – Ктулху, его владения – Р’льех, жуткий город в глубинах Атлантики. Существо это – из Властителей Древности, которые, как гласит поверье, стремятся из иных измерений, с далеких звезд, из морских глубин и тайных уголков пространства к восстановлению своего древнего господства над Землей. Существо это появляется со свитой аморфных карликов, лишь отдаленно напоминающих людей; карлики эти возвещают его приход, играя на странных трубах музыку, не сравнимую ни с чем. Очевидно, резьба, созданная в глубокой древности, – весьма вероятно, задолго до того, как возникла письменность, но уже на заре человеческой истории, – мастерами с Каролинских островов, была «точкой соприкосновения» с чуждым нам измерением, населенным теми, кто желает к нам вернуться.
Призн а юсь, я слушал его не без недоверия; заметив его, Уэктер резко оборвал рассказ, встал и перенес деревянную резьбу с каминной доски на стол. Он развернул ее ко мне.
– Теперь посмотрите на нее внимательнее, Пинкни. Видите какую-нибудь разницу?
Я тщательно осмотрел вещицу и объявил, что никаких изменений в ней не вижу.
– А вам не кажется, что вытянутые от лица щупальца… ну, скажем, «более вытянуты»?
Я ответил, что не кажется. Но, даже говоря это, уверен я не был. Часто предположение порождает сам факт. Удлинились они или нет? Я уже не мог сказать этого наверняка. Я и теперь не могу этого сказать. Но ясно одно: Уэктер верил, что щупальца вытянулись. Я заново осмотрел резьбу и вновь ощутил то давнее отвращение от сходства скульптур Смита и этой причудливой вещицы.
– Так, значит, вам не кажется, что концы щупалец приподнялись и вытянулись немного вперед? – стоял на своем Уэктер.
– Не могу этого сказать.
– Очень хорошо. – Он взял статуэтку и водрузил на каминную полку. А вернувшись к столу, сказал: – Боюсь, вы сочтете, что у меня не все в порядке с головой, Пинкни, но с тех пор, как она появилась у меня в кабинете, я стал осознавать: я существую в чем-то таком, что можно назвать измерениями, отличными от нам известных, – короче, в тех измерениях, которые видятся мне во сне. Например, я совершенно не помню того, как писал эти рецензии; однако они написаны мной. Я нахожу их у себя в рукописях, в гранках, в своей колонке, наконец. Короче, написал их я и никто другой. Я не могу публично от них отказаться, хотя очень хорошо себе представляю, что они противоречат тем мнениям, которые множество раз появлялись в печати за моей подписью. И все же нельзя отрицать, что их пронизывает некая любопытно внушительная логика. Прочитав их – и, кстати сказать, все негодующие письма читателей по их поводу, – я несколько более подробно изучил тему. Невзирая на те мнения, которые вы, вероятно, слышали от меня прежде, скажу, что работы Богдоги действительноимеют отношение к гибридной форме раннекаролинского культового искусства, а Третья симфония Хэрриса действительноотчетливо и тревожно склоняется к примитиву. И возникает вопрос: не является ли их изначальная оскорбительность для традиционно восприимчивых или традиционно культурных людей инстинктивной реакцией на примитив, который их внутреннее «я» немедленно признает? – Он пожал плечами. – Но это нас ни к чему все равно не приводит, не так ли, Пинкни? Факт остается фактом: резьба, которую вы нашли для меня в Портленде, оказывает на меня иррационально тревожащее воздействие – до того, что я иногда сомневаюсь, к лучшему оно или нет.
– Какое воздействие, Джейсон?
Он лишь странно улыбнулся в ответ:
– Могу лишь рассказать о своих ощущениях. Впервые я почувствовал это сразу после вашего ухода. В тот вечер у меня была компания приятелей, но к полуночи гости разошлись, и я сел за машинку. Мне следовало написать обычную рецензию на фортепианный вечер, данный одним учеником Фраделицкого, и с нею я разделался почти мгновенно. Но все время за работой я как-то двупланово осознавал эту резьбу. С одной стороны – такой, какой она попала ко мне: подарок от вас, предмет небольших размеров, располагающийся в трех измерениях. Другой план моего восприятия был протяжением – или вторжением, если угодно, – в иное измерение, где относительно нее я существовал вот в этой комнате, как семечко рядом с тыквой. Короче говоря, когда я закончил рецензию, у меня осталась очень странная иллюзия того, что резьба выросла до невообразимых пропорций; в некое катастрофическое мгновение я почувствовал, что к изображению прибавилось само конкретное существо, оно колоссом высилось передо мной – вернее, я стоял перед ним прискорбно миниатюрный. Это длилось какой-то миг, затем отступило. Учтите: я сказал «отступило». Видение не просто прекратило существовать: казалось, оно сжалось, втянулось, будто и впрямь отступало из этого нового для себя измерения и возвращалось к подлинному состоянию, в котором должно существовать перед моими глазами, – но не обязательно перед моим психическим восприятием. Так оно и продолжалось; уверяю вас, это не галлюцинация, хотя, судя по вашему лицу, вы полагаете, что я выжил из ума.
Я поспешил его заверить, что вовсе так не думаю. То, что он говорил, было либо правдой, либо нет. Свидетельства, основанные на догадках, вытекающих из конкретных фактов – его странных рецензий, доказывали, что он искренен; следовательно, для него самого то, что он говорил, было правдой. Стало быть, это все имело и значение, и мотивацию.








