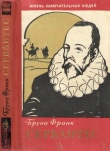Текст книги "Металл дьявола"
Автор книги: Аугусто Сеспедес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Заиграл оркестр: две гитары, два аккордеона и фисгармония, из-за которой видны были только черные очки маэстро. Музыканты играли марши и танцы, останавливаясь лишь затем, чтобы хлебнуть чичи из фаянсового кувшина.
С наступлением вечера заходящее солнце залило золотым потоком полнеба, и его косые лучи сверкающей паутиной переплелись между деревьями, опутывая фигуры гостей в черных костюмах.
Выпитая чича растопила сердце Омонте.
– Да, изрядно я поработал. Об этом здесь мало кто знает. И если достиг я богатства, то все оно принадлежит моим детям и, ясное дело, моей родной земле!
Золотая паутина померкла в тени гуайяв, и тихий птичий щебет поднялся к небу. А небо нежно светилось, словно стеклянный абажур, окрашенный в тон фруктовым долькам, плавающим в стаканах с чичей. Земля тихо дышала. Казалось, вся природа, освободившись от нескромного взгляда солнца, сбросила одежды и подставила свою зеленую кожу дыханию ветерка. Это дыхание обвевало кочабамбинского горнопромышленника, проникало в самую глубь его существа вместе с соком плодов земли – чичей, которая зажигает в крови воинственные и любовные стремления, но будит также и легкую печаль.
– Для родной земли – все! – повторял он хриплым голосом, подняв бокал. – Здесь хочу я окончить свои дни! Пусть знают: все, чего я добился, сделано этими руками. В других местах меня уважают. А вот на моей родной стороне мне говорят, что я чоло… Ничего, придет время, и они еще пожалеют…
В темноте никто не увидел, как на глазах у сеньора Омонте блеснули две капельки цвета чичи. Опечаленный вождь либеральной партии утешал его:
– Все это здешние дела, доктор Омонте. Но и тут есть люди, которые ценят вас по заслугам!..
На следующий день не явившиеся на банкет кабальеро занимались пересудами на площади под сенью терпентинного дерева.
– Говорят, перепились все, как скоты…
– Добрались до веселого дома Осо. Для широкой публики двери были закрыты…
– Там Омонте поставил шампанского…
– Всего полдюжины… Когда принесли вторую порцию, Омонте притворился спящим, и пришлось отправить ее обратно…
Вдруг все замолчали и обернулись. Миллионер, одетый в темный костюм, прошествовал мимо в сопровождении своей свиты.
– Пошел улаживать дела банка…
В самом деле, в резиденции Омонте его поджидала делегация земельных собственников, должников банка, который грозил им взысканием по суду с продажей имущества.
Среди прочих находился там и человек со сморщенным, как пустые мехи, лицом; одет он был опрятно, хотя его брюки и лоснились на заду, а куртка – на спине и локтях. Это был сеньор Обандо-сын. Омонте, со своей безошибочной памятью, сразу признал в нем того самого молодого человека, который семнадцать лет назад гнал его пинками по улице, наказывая за совращение Хесуситы.
– Доктор Омонте, мы с величайшей радостью приветствуем ваш приезд в родные края… Политика Земельного банка, крупнейшим акционером которого вы являетесь, душит Кочабамбу. Мы, земельные собственники, не в силах собрать деньги для оплаты своих долгов и стоим перед угрозой продажи наших имений за бесценок. Нам отказывают в новых кредитах, урожаи крайне низки, а денежный курс очень высок.
Миллионер, обливаясь потом после выпитой накануне чичи и обмахиваясь платком, выразил готовность уговорить остальных акционеров на отсрочку платежей.
Когда депутация удалилась, он спросил у адвоката:
– Что собой представляет ферма этого Обандо? Сколько он должен?
– Ферма «Майка», двести фанег[29]. Должен двенадцать тысяч боливиано.
– Пора им научиться работать. Все они лодыри, живущие на заемные деньги. А потом приедет Омонте и все уладит. Ловко придумано. Но я не так-то прост. Надо объявить продажу с торгов и, главное, не забыть об этой ферме Обандо… Доктор Давалос пришлет вам инструкции.
Инструкции состояли в следующем: поскольку спроса на землю не будет из-за отсутствия у покупателей денег, выждать снижения установленной кадастром расценки на две десятых и тогда скупить фермы через подставных лиц.
Ферма Обандо перешла в руки Омонте, а с ней и восемь других в провинциях Серкадо, Кильякольо и Валье.
Но самого Омонте при этом уже не было. Он возвращался в Оруро, и зеленые ветки хлестали по дверцам кареты под синим взором горы Тунари.
VIII
Огни Парижа
Южноамериканцы! Поезжайте в Париж! Это советуют вам поэты, историки, политики и разбогатевшие выскочки, которые посылают оттуда почтовые открытки с изображением женщины, отплясывающей канкан.
Во всей известной южноамериканцу 1912 года вселенной Париж – звезда первой величины. Остальные столицы подобны ярмарочным диковинам: Лондон, набитый чопорными англичанами и непривлекательными англичанками; Берлин с его пивными и толстыми немками; Нью-Йорк – «этажи до неба, миллионы без хлеба». Зато Париж олицетворяет разумный и понятный идеал, к которому не может не стремиться «латинский дух» южноамериканских дикарей.
Поезжайте в Париж, поэты и писатели, жаждущие бурных переживаний и ослепительного света!
Поезжайте в Париж, экс-президенты республик! Отправляйтесь в золотое изгнание и пишите оттуда письма своим приверженцам, давая понять, что изучаете великие европейские проблемы, хотя на самом деле вы только пьянствуете и охотитесь за мидинетками.
Поезжайте в Париж, «обеспеченные» сеньоры, прихватив деньги, залежавшиеся в ваших сундучках, где хранятся серебряные тостоны, золотые фунты, жемчужные колье, изумрудные серьги и закладные письма.
И вы, боливийские горнопромышленники, – Арган-донья, Пачеко, Арамайо, Патиньо, – оставьте свои индоиспанские приплюснутые горные городишки, выстроенные из необожженного кирпича и черепицы или украшенные серебристой резьбой по вековому камню; городишки, где душными пустыми ночами не встретишь на улице ни живой души, кроме бездомного пса или пьяного забулдыги, где свет, упавший из открытой двери на мостовую, кажется кровоточащей раной на темных круглых булыжниках, между которыми прорастает трава – если город в долине, и набивается иней – если он в пуне.
Поль Фор[30] читает свои стихи; Муне-Сюлли[31] блистает на подмостках театра Порт-Сен-Мартен; Режан[32] кричит в пьесах Бернстейна [33]; и парижане пускают в ход трости на премьере «Шантеклера»[34]. Но все это не дано вам увидеть, если вы не повезете своих детей учиться, а заодно не освободитесь от колониальной морали своих городов, где брак – дело серьезное, где монастырский жизненный уклад обуздывает аппетиты чувственных метисов.
Поезжайте в Париж и ради своей души, и ради тела. Французской столице принадлежит неоспоримая монополия на грех. Поезжайте в Париж, посмотрите, что сотворили гринго в сообществе с дьяволом: Эйфелеву башню, фабрики, банки и кабаре, где, зажигая огонь в крови, танцуют нагишом прекраснейшие белые женщины с султанами из перьев на голове.
В 1912 году поехать в Париж означало перенестись по волшебству в иной мир, изменить самую свою сущность, превратиться в человека будущего, опередить на целый век колониальную Америку с ее бескрайними землями, непроходимыми лесами, сказочными пампами и фантастическими неистощимыми рудниками.
Итак, мы в Париже, Сенон…
Да, мы в Париже. Толпы нуворишей бродят по бульварам, глазея на витрины, рынки и деревья, на омнибусы и велосипедистов.
У Омонте теперь тяжелая походка, он тучен и полнокровен, это заметно по цвету щек и крыльев носа. Голос у него стал хриплым, дыхание с шумом вырывается из широкой груди. В его галстуке сверкает большой бриллиант. В руке – трость с золотой рукоятью. Ему– жарко, он обмахивается широкополой фетровой шляпой. Седые волосы мелькают в его жесткой шевелюре, коротко остриженной по велению моды, весьма благоприятной для его буйной растительности, аккуратно подбритой на шишковатом затылке и выпуклых висках. Бурые глазки, почти лишенные ресниц, окруженные сеткой легких морщинок, прячутся под нависшими веками.
Сеньора Антония выступает рядом с ним. – Ее живые глаза жадно следят за привлекающими ее внимание диковинами; она непрерывно вертит головой из стороны в сторону, и так же непрерывно работает ее язык, комментируя все увиденное.
Впереди шагает няня с малюткой, а рядом, схватившись за руки, – двое старшеньких, которые выглядят уж очень смуглыми на этом белокожем бульваре. В группе туристов не хватает только Сесилии, чье непонятное поведение было единственным темным пятном, омрачавшим безоблачную радость всего семейства в Европе.
В недобрый час взбрело на ум донье Антонии взять с собой в Париж свою любимицу Сесилию, индианку из Сикасики, прислуживавшую ей в Оруро.
– Всегда я не доверяла слугам-иностранцам, а теперь эта индейская девчонка здесь иностранка, – так определила донья Антония несовместимость индианки и цивилизованного мира.
С тех пор как у Сесилии отняли индейскую одежду и обрядили в европейский костюм, ее природа взбунтовалась, и бунт выразился в упрямом отказе от всего. Она ничего не говорила, ничего не хотела делать. Еще на пароходе, в каюте второго класса, она едва не умерла с голоду, отказываясь выйти к столу и принять услуги лакеев. Когда супругам Омонте об этом доложили, донья Антония вынуждена была сама приносить ей в каюту сандвичи и пирожки.
Сесилия, одетая по-европейски, выглядела страшилищем. Сбитая с толку, перепуганная, она молча озиралась вокруг и боялась хоть на минуту отпустить от себя детей, особенно младшую, Антуку, к которой испытывала материнскую привязанность.
В большом доме на Елисейских полях европейские слуги потешались над ней, а она не выходила из своей комнаты, где развела страшную грязь, и целыми днями сидела на полу, не произнося ни слова. Оживала она, только когда ей поручали малютку. Краска заливала ее смуглое лицо, и она носила девочку на руках по просторной спальне или по саду, где, предвещая весну, наливались бурые почки.
Раз как-то донья Антония вытащила ее покататься с детьми в экипаже, чтобы она немного «развлеклась». Они собирались подняться на Эйфелеву башню, и тут-то последовал решительный отказ Сесилии. С билетами в руках, под водительством кучера, они направились к лифту, но Сесилия уперлась и не желала сдвинуться с места.
– Что с тобой? Ты не хочешь посмотреть оттуда, сверху?
– Нет, хозяйка. Ни за что, – отвечала Сесилия, опустив голову и прижав подбородок к груди. Кругом стали собираться любопытные. Донья Антония, вся красная от стыда, боясь оставить служанку одну, должна была вернуться домой и там, позаботившись, чтобы никто их не видел, затолкала ее в комнату.
– Дура индейская, и для этого нарядили тебя в хорошее платье? Так и останешься на всю жизнь индианкой. Надевай свои грязные юбки!
Она снова вместе с детьми села в ландо, и кучер-испанец повез их. Деревья, сверкающие витрины, толпа, весна – все радовало глаз. Дети кричали от восторга и поминутно останавливали экипаж, упрашивая мать купить что-нибудь. Они проехали по Рю-де-ла-Пэ, где она купила часы, и немало времени провели в магазине «Бон Марше», обращаясь за советами к кучеру. Домой они вернулись нагруженные пакетами. Вскрывая их, чтобы показать покупки мужу, донья Антония развивала весьма оптимистическую теорию цен:
– Вот ожерелье от «Буда» – двенадцать тысяч франков. А это корсет из «Бон Марше»– двадцать франков. Как дешево, правда? В Боливии за все заплатишь вдвое, больше чем вдвое.
– И все-таки надо быть осторожной, – заметил Омонте, почесывая затылок. – Все они тут воры.
– Что правда, то правда, – подтвердил кучер, притащивший из экипажа остальные покупки.
– Вы ведь испанец, не так ли?
– Чистокровный испанец, мадам.
– Я тоже… Я – дочь испанца.
И она дала ему на чай, словно кучеру наемной кареты.
Слава о миллионах Омонте привлекла к особняку, снятому на Елисейских полях, бразильского плантатора, в чьих руках, похожих на лапы орангутанга, кофейные зерна превращались в бриллианты; семью доктора Итурбуру, аргентинского скотовода, чьи стада так густо покрывали пампу, что казалось, будто она поросла не травой, а рогами; кубинского сахаропромышленника, который хвалился, что, скачи он верхом хоть двадцать четыре часа, все равно не объедет все свои шелестящие тростниковые плантации; и венесуэльского генерала, который любил рассказывать, как у себя на родине он всегда вместе с саблей носил на поясе мешочек с золотом, чтобы бросать монеты барабанщикам во время веселых местных празднеств (никогда, впрочем, не вспоминая об этих повадках в парижских кабаре).
Вместе с ними появились и кое-какие мнимые боливийские богачи, которые жили в Париже в скромных пансионах, в театры ходили на галерку и обедали в дешевых ресторанах, чем вызывали презрение. некоего настоящего боливийского миллионера, который возомнил себя британцем и обучал своих детей в Оксфорде.
Один из боливийцев, живущих в Париже, дон Панталеон Уркульо, человек с черными бровями и седой шевелюрой, подчеркивающей моложавость его гладкого лица, всегда щеголявший в белых гетрах и кремовом жилете, оказался другом этого миллионера, о чем случайно узнал Омонте, когда пожелал как-то пригласить Уркульо на ужин.
– Очень сожалею, сеньор Омонте, – ответил ему Уркульо, – но именно на этот вечер я приглашен в оперу, в ложу дона Феликса Авелино Арамайо[35]. Он редко приезжает в Париж и на этот раз… никак не могу его покинуть.
Через несколько дней Уркульо принял приглашение Омонте в дорогой ресторан на улице Риволи. На обеде присутствовали еще несколько боливийцев с супругами.
Уркульо язвительно критиковал боливийскую дипломатическую миссию во Франции. В прошлом он был секретарем посольства.
– Теперь, – сказал он, – наше посольство похоже на лавку в квартале Сан-Роке. О, в те времена, когда послом был Аргандонья!..
Вежливые, вышколенные лакеи, изысканное меню, оркестр, тонкие вина, декольтированные женщины, мужчины с крахмальной грудью. Сеньор Омонте удовлетворенно рыгнул и поковырял в зубах. Появился счет, и он вынул бумажник одновременно с Уркульо.
– Вы собираетесь заплатить? – иронически спросил Омонте.
– Нет, если хотите вы…
– Сколько?
– Trois cents quarante cinq francs, monsieur[36].
– Что?
Омонте взял счет и принялся изучать его. Потом вытащил три билета по сто франков и один в пятьдесят и подал лакею. Сдачу он оставил на чай, ничего к ней не добавив. Омонте и не заметил, какую презрительную гримасу скорчил лакей, но тут вмешался Уркульо.
– Позвольте, раз уж я достал бумажник…
И он положил на поднос бумажку в пятьдесят франков.
Лакей просиял, но Омонте нахмурился.
– Ну-ка, постойте, – пробормотал он своим хриплым голосом и, вытащив пятисотенную ассигнацию, протянул ее лакею.?
Все вышли на улицу. Уркульо незаметно задержал Омонте.
– Простите меня, мой уважаемый соотечественник, но в Париже вы новичок… Здесь очень требовательны насчет чаевых. В чаевых – тайна французского воодушевления. Однако преподносить этому бездельнику такой подарок тоже было незачем.
Весь особняк, его сервизы, хрусталь и челядь были в полной боевой готовности к интимному ленчу, который устраивали супруги Омонте, пригласив на угощение «по-боливийски» сеньоров Солорсано и Антекера с супругами, одинокую родственницу доктора Итурбуру и венесуэльского генерала.
Бурная деятельность началась с самого утра. Донья Антония при помощи Сесилии стряпала на кухне креольские блюда, щедро приправляя их привезенным из Боливии индейским перцем. Ей не терпелось похвалиться своим роскошным дезабилье, и под предлогом, что собрались только «свои», она надела его для приема гостей, а в ушах, на шее и на пальцах так и сверкали бриллианты.
Венесуэльский генерал присоседился к стоявшей на мраморном столике бутылке с коньяком «наполеон» и постепенно опустошал ее.
Но вот все уселись за стол. Шумным-одобрением была встречена ярко-красная мешанина, в которой плавали куски цыплят и картофель.
– Пальчики оближешь…
– Угощайтесь, кушайте вволю… Берите руками, туг ведь вилкой не подденешь.
Вскоре все салфетки были покрыты красными пятнами.
– Вино… Лучше бы запивать чичей, но что поделаешь? Рейнвейном тоже неплохо, – сказал Омонте.
На кухне дворецкий, лакеи и горничная обменивались язвительными замечаниями:
– Рейнвейн!.. Много они в нем понимают. Пьют такое, что и грузчики пить не стали бы…
Слуги прятали пустые бутылки из-под хороших вин и потом, тайком наполнив их третьесортным пойлом, снова подавали на стол.
– А что это они едят?
Повар:
– Что-то страшное, угощение мексиканских индейцев пли черт их знает кого, может, и людоедов.
Дворецкий:
– Что и говорить, дикари, но с большими деньгами. Камердинер, зажав двумя пальцами нос:
– А сеньор, когда ложится спать, запихивает свои носки поглубже в туфли, а наутро требует, чтобы я ему их подавал. И спит всегда в рубашке и кальсонах.
Кучер:
– А что за ужасные желтые автомобили они купили себе!..
Служанка:
– И не хотят принимать ванну, ни за что не хотят…
В столовой донья Антония, словно невзначай, давала понять, как велико их богатство:
– Мы собираемся купить дом на Авеню-Гюис-манс…
– Но это район не очень… не очень аристократический, – заметила сеньора Солорсано.
– Как не очень? Рядом стоит шале маркиза де л’Этерель, а немного подальше – посольство, кажется, португальское. Я была… мы с Сеноном были как-то на приеме в боливийском посольстве, и брат того посла сказал, что мы будем их соседями.
– О!..
– Да, да… Нам предлагают много домов. На прошлой неделе нам хотели продать дворец какого-то принца… Сенон предложил восемьсот сорок тысяч, но они просили восемьсот пятьдесят, и я сказала, чтобы он не соглашался. Дело не в десяти тысячах, а просто нельзя им позволять обирать себя…
Она вдруг замолчала, увидев бритого камердинера своего мужа. Донье Антонии в глубине души казалось, будто иностранная челядь – горничная в белой наколке, немка няня, усатый дворецкий – все насмехаются над ней.
– Есть прекрасные дома, можно выбрать.
– Ах, Париж! Не сравнить с Боливией, не правда ли?
– О, Боливия – нищая страна… Там ничего нет.
– Не пора ли вам, – сказал как-то Уркульо Сенону Омонте, – оставить дружбу с этими захудалыми боливийцами… В Боливии они считаются большими людьми, а здесь их ни во что не ставят. Они ни с кем не знакомы. Я слыхал, что недавно Солорсано и Антекера затащили вас в «Гаррон» и, набив за ваш счет свои голодные желудки, заставили вас уплатить фантастическую сумму за ужин с балеринами. Это не дело! Ваше место выше, гораздо выше! Я найду вам общество получше. Вы не знакомы с мосье де Броди-Леруа? Это дипломат, светский человек, журналист. Я познакомлю вас.
Омонте, мосье де Броди-Леруа и сеньор Уркульо, все трое во фраках, посетили некий дом. Привратник в ливрее проводил их в роскошную, освещенную хрустальными люстрами гостиную с мягким голубым ковром и белыми гардинами. Шурша шелками и позвякивая драгоценностями, к ним вышла слегка располневшая, но изящная и величественная дама с манерами герцогини, а следом за ней, легкой нежной поступью, – дамы помоложе, с осиной талией и золотыми кудрями, с чьих губок слетали французские слова; и дамы с черными глазами, темными кудрями и завитками в виде вопросительного знака на щеках, у этих с губок лилась шепелявая испанская речь.
Выпили шампанского.
– Какая вам нравится, Омонте?
Разглядывая женщин своими хитрыми глазками, Омонте задумался. Смуглянки говорили по-испански, с ними он смог бы столковаться, но эта француженка с мушкой на щеке…
– Вот эта, беленькая, – сказал он.
Беленькая тут же погладила рукой его жесткие лохмы, не поддающиеся никаким ухищрениям парикмахеров. Она заговорила с ним по-французски, и Омонте, молча улыбаясь, держал ее на коленях, не узнавая сам себя, словно эта француженка одним своим взглядом уничтожила в нем метиса и чудесным образом заменила его другим существом, достойным составить ей пару.
Девушки, выглядевшие богинями, получив баснословную плату, разделись донага и в отдельных кабинетах продемонстрировали свое искусство в разнообразных эротических извращениях.
– Все они девственницы, – объяснил Уркульо, – но в школе их учили читать по произведениям Аретино[37].
Старший сын занимался французским языком в комнате с балконом, выходившим на улицу. Придя на урок, учитель вешал свою шляпу и старое пальто и опускал жалюзи, чтобы мальчик не отвлекался. Тогда Арнольдо находил себе другое развлечение. Глубоко запавшими глазами, которые на его маленькой мордочке казались еще двумя рябинами среди множества других, оставленных оспой, он принимался разглядывать во всех подробностях висевший на стене портрет Альфонса XIII, арендованный вместе с мебелью и домом. Мальчику не верилось, что на самом деле может существовать сеньор с таким количеством медалей и зубов.
Второй сын, Тино, почти не учился. Он все время болел, лежал в постели или же бродил по пятам за служанками, как рахитичное привидение.
Младшая, Тука, была еще совсем крошка, и немецкой няне предпочитала индианку Сесилию.
Донья Антония терпеливо и настойчиво училась французскому языку вместе с детьми. Ее занятия проходили в гостиной стиля ампир, где она, неизменно щеголяя в бархатных платьях, чувствовала себя вполне непринужденно.
Сам Омонте таким терпением не отличался. Вскоре после приезда в Париж он нанял в учителя седобородого старичка француза в потертом сюртуке; старичок был очень обижен тем, что ему поручили учить только жену и детей Омонте.
Себе Омонте нашел другого учителя, мосье Рише, с мушкетерскими усами и повадками трагического актера. Мосье Рише хватался за голову, слушая чудовищное произношение своего ученика.
– Нет, нет, нет… Derrière, derrière… comme ça, derrière…[38] – усиленно грассировал он.
– Деррьер… – твердо произносил Омонте.
– О, нет, нет…
Пока наконец сеньор Омонте не рассвирепел:
– Послушайте, вы! Ни комон са, ни комон си! Не умеете вы учить! Получайте свои деньги и убирайтесь.
И он вышел первый, пыхтя от ярости. «В конце концов, если хотят со мной разговаривать, пусть учат испанский…»
Он нанял переводчика и секретаря, знающего французский и испанский языки. С секретарем он начинал работать спозаранку, даже если накануне ложился поздно. Отчеты из Боливии и из агентства в Чили… Утверждение заказов на оборудование, которые поступали из рудников… Проект учреждения частного банка в Оруро…
– Ну-ка, прочтите еще раз эту часть счета на закупку железного лома в Пулакайо. Утверждаю, пусть покупают.
– А это что такое? Браслет – пять тысяч франков? Точно такой же месяц назад в том же магазине стоил только четыре с половиной тысячи. Видно, ювелир и та дама стакнулись, чтобы обобрать меня. Это я проверю лично…
– Полагаю, тут не очень точно переведено насчет акций Англо-чилийской компании в Сантьяго. Пусть переведут как следует… Теперь напишите Эстраде, чтобы в пульперии были подняты цены на шампанское, иностранную обувь и шелковые рубашки, а то они там стоят не дороже, чем здесь. Это уж слишком. Так и разориться недолго. Еще одно письмо Эстраде: пеонам пусть выдают не агуардьенте, а спирт. Уж очень они там расщедрились за мой счет!.. Лосе сообщите, что сделка, которую предлагает Рамос, просто курам на смех: двести тысяч боливиано, когда этот мошенник палец о палец не ударил в руднике. Предложить ему двадцать тысяч, и пусть благодарит меня на коленях…
Он потер руки, нагнувшись к камину; выступающие скулы защищали его глазки от яркого огня.
– Я полагаю, – продолжал он, – инженер ошибается, собираясь вести выработку новой жилы в восточном направлении. Напишите ему: я помню, что когда-то проходка шла именно так. Следовательно, чтобы перерезать ее, надо пройти под углом. Другими словами, вправо. Поняли? Разумеется, ничего не поняли. Это письмо я напишу сам, все должно быть ясно, чтобы они там не ошиблись.
Он взял из пачки бумаг какое-то письмо. Поморгал глазами, бросил письмо на стол.
– Вот мошенник!.. Пошлите Эстраде телеграмму, пусть немедленно расторгнет контракт на поставку вагонеток с этим Хуанчо Каламой. Подумать только, говорит, что давал мне деньги для начала работ на руднике! Пьян он, что ли?.. Расторгнуть с ним контракт!
Ко дню рождения миллионера в большом холле резиденции был выставлен его портрет – три метра на два – работы Сесилио Пла; послы Эквадора и Гватемалы, ближайшие боливийские друзья, кубинский журналист, испанский консул, бразильский кофейный плантатор, прибывшие вместе с супругами на прием, восторгались чистотой линий, безукоризненным покроем нового костюма, удачным сочетанием красок. Художник изобразил Омонте в кресле стиля Людовика XV, с перчатками в левой руке; взгляд, одновременно строгий и милостивый, был устремлен вперед, усы подстрижены по требованиям моды, а вырез жилета окаймлен черной атласной ленточкой, подчеркивающей белизну пластрона с ослепительным бриллиантом. Рядом с мужем стояла донья Антония, в синем бархате, с улыбкой на устах; одна рука, унизанная кольцами, была опущена вниз, другая слегка придерживала на груди жемчужное ожерелье.
– Кажется, вот-вот заговорят… Чудесно!
Художник показал себя мастером цветной фотографии, искусным портным и даже чистильщиком сапог, ибо туфли Омонте на портрете блестели умопомрачительно. Сам Уркульо, всегда недовольный и ироничный, искренне похвалил портрет:
– Этот тип настолько богат, что даже стал похож на кабальеро.
Прием в доме миллионера был из ряда вон выходящим по яркости освещения и обилию икры и шампанского. Венесуэльский генерал получил в свое распоряжение целых четыре бутылки коньяка «наполеон» и к ночи настолько воодушевился, что предложил отправиться всем вместе в какое-нибудь кабаре. Гости с восторгом согласились.
Уселись в экипажи и в автомобиль Омонте, наняли еще несколько автомобилей и по залитому светом Парижу отправились на Монмартр. Над входом в «Люцерн» вспыхивали и переливались разноцветные огоньки.
Шумное общество, переговариваясь по-испански, двинулось вниз по устланной ковром лесенке. Встретивший их на последней ступеньке метрдотель с оскорбительной любезностью заявил, что свободных столиков нет.
– А этот?
– О, этот заказан.
– А ложа?
– Все заказаны…
– Скажите ему, – обратился Омонте к венесуэльскому генералу, – что я заплачу, сколько бы это ни стоило.
Генерал обменялся несколькими словами с невозмутимым метрдотелем.
– Дело не в деньгах… Нет мест.
– Да как это нет мест! – разразилась донья Антония. – Попросите, Уркульо, чтобы к нам вышел хозяин. Очень уж они воображают о себе!
Сидящие за соседними столиками с любопытством наблюдали эту сцепу. В одной из лож с шумом появилась компания мужчин и полуодетых женщин.
– Где хозяин?
– Я представляю хозяина.
– Мы хотим говорить с ним самим…
– Завтра утром, сеньор, когда он встанет…
– Завтра? – прорычал Омонте. – Переведите этому наглецу, что завтра он вместе со своим хозяином приползет ко мне на коленях.
На следующий день кабаре, со всеми его лакеями, кассиршами, столиками, оркестром, апашами, костюмерными, лампочками, лесенкой и ложами, перешло в собственность миллионера Омонте, который купил его через своего секретаря. Омонте приказал уволить метрдотеля, и когда тот пришел принести свои извинения, велел передать ему, что, если он явится еще раз, его вышвырнут пинками.
Уркульо решил воспользоваться таким настроением, чтобы попросить взаймы пять тысяч франков, но сеньор Омонте приказал дать ему только пятьсот.
«Неисправимый скряга», – подумал Уркульо, пересчитывая бумажки.
Боливийские коммерческие дела разрастались и усложнялись, как китайская головоломка. Омонте совершил поездку в Италию, затем в Германию, откуда его по совершенно безотлагательному поводу снова вызвали в Париж.
– Ты слишком много работаешь, – говорила ему жена. – Чем же занимаются эти бездельники, твои служащие?
– За всем надо присматривать самому. А не то все разворуют. И чем ты богаче, тем больше будут воровать.
Вот почему он читал и перечитывал отчеты, доискивался до фактов, которые от него скрывали, и диктовал строгие приказы, жестоко отчитывая своих служащих.
Он много работал, но в эту июльскую ночь 1914 года он сидел в своем кабинете стиля ампир праздно и неподвижно. Два происшествия парализовали его энергию. Первое давно уже нависало над домом, как гроза: в больнице умерла Сесилия, измученная тоской по родным горам, и Антония с детьми были безутешны. К этому семейному горю, по его мнению довольно заурядному, поскольку причиной была глупая индианка, прибавилось другое, глубоко личное, утонченное и гнетущее: он узнал, что Мадридка – итальянка с телом белым, как снег, и горячим, как адское пламя, – обманывала его с сутенером, которого содержала на его же деньги. Она клялась, что это неправда, но Омонте все проверил через своих детективов.
Глухая злоба, смешанная и с нежностью и с горечью унижения поднималась в нем, когда он вспоминал, как эта женщина, уличенная неопровержимыми доказательствами, грубо обругала его по-итальянски и выставила из своего будуара, швырнув ему вслед шляпу. Это воспоминание было нестерпимо.
Он отослал из кабинета секретаря, у которого сам же спросил какие-то бумаги.
– Зачем мне эти бумаги? Неужели я не могу отдохнуть? Ничего этого не нужно.
Омонте вышел из дома. Он отпустил шофера и зашагал по улице, медленно расправляя широкие плечи, постукивая тростью и разглядывая огни проплывающих мимо автомобилей.
Он испытывал дурноту от непрерывного кружения в этой золотой карусели вместе с какими-то незнакомцами, всегда с незнакомцами: с немецкими коммерсантами, которые явились к нему в Берлине, чтобы купить олово; с английскими литейщиками, пригласившими его на ужин, чтобы уговорить продать им все его олово. Олово, всегда олово… Неужели они не могут говорить о чем-нибудь другом? Но ведь и сам он говорит только об олове.
Благоухание лета разливалось по ночному Парижу. Все столики кафе, расставленные на тротуаре вдоль бульвара, были заняты влюбленными. Он остановился перед витриной, похожей на полный света аквариум. Мужчины и женщины парами проходили мимо витрины и, окунувшись на мгновение в световой поток, терялись в тени деревьев.
Разумеется, не все можно получить за деньги. Ни знатность, ни орден Почетного легиона, ни дружбу принцев, чьи портреты красуются в газетах рядом с портретом англо-боливийского миллионера, этого друга Уркульо, с профилем индейца-кечуа. Самому же Омонте досталась лишь весьма двусмысленная известность: слава содержателя, покинутого прекрасной Мадридкой, которую он унаследовал от бельгийского короля Леопольда, утешившегося с Клео де Мерод[39]. Но и тут, хотя обычно героев этих морганатических связей журналисты называют по именам, был лишь глухой намек на некоего «аргентинского» миллионера.
Его широкий размах никогда не получал известности в обществе, даже когда он купил автомобиль – двойник автомобиля кайзера. Его богатство импонировало лишь нескольким южноамериканским послам, которые получали свое жалованье с опозданием; парижским банкирам, которые провожали его до самых дверей; директорам отелей, которые лично встречали его на вокзале; метрдотелям, которые оставляли ему столики в кабаре; и самым дорогим продажным женщинам.