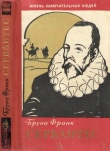Текст книги "Металл дьявола"
Автор книги: Аугусто Сеспедес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Во всех трех секциях рудника допотопная техника уживалась с новой. Здесь применялась и поперечная и вертикальная выемка, забои начинались от основных, этажных штреков по простиранию месторождения; множились скаты, выработанные пространства, колодцы; работали вентиляционные печи. В забое рудника «Контакт» при отвале сыпучей и рыхлой породы образовалось углубление, похожее на часовенку, где была обнаружена жила, тянувшаяся перпендикулярно горизонту. Здесь рабочие устанавливали венцовую крепь на бабках. Поскольку углубление было большого размера, Мак-Ноган приказал заделать выработанное пространство камнем, доставленным с дневной поверхности.
Теперь в этом забое не было подрядчиков. Разработка велась по узеньким, кривым этажным штрекам, расширявшимся только в местах простирания жилы. Груды породы, переходы, похожие на перекрученные внутренности, душный запах окаменевших смол, бесчисленные ячейки и лунки – так выглядела эта подземная пасека.
В некоторых галереях над головой опасно нависала порода, кровля грозила обрушиться, но некогда было производить крепление шахт, ибо спрос на металл требовал незамедлительной выдачи продукции. На клетях не было ни дверей, ни предохранительных проволочных решеток. Компания не принимала никаких мер по устройству нормального освещения не только для производства работ, но и в качестве мер безопасности, особенно на перекрестках штреков с усиленной откаткой.
Работа шла и днем и ночью. Поиски металлических плодов на этом древе с причудливыми ответвлениями штреков и квершлагов, проросшими внутри горы, сотрясали рудник, и само древо содрогалось от ураганного напора людей и техники. Бурение, доставка руды на поверхность, спуск людей в шахту, движение рудооткаточных вагочников, проведение порохострельных работ, прокладка электрических кабелей, монтаж водоотливных устройств, установка воздухопроводных труб, производство врубов, вломов, забивки, закладки, расчистки, сооружение крепи – все это были приемы в той жестокой борьбе, которую люди вели с подземельем, но и оно, в свою очередь, прибегало к ужасающим ответным мерам: оно мстило людям тем, что калечило им ноги, слепило глаза, выводило из строя почки, коварно разрушало легкие, отравляя их металлической и силикатной пылью.
Хуан де Дьос Уачипондо работал в одной из бригад по ведомству Мак-Ногана.
– Да, сеньор инженер, трудная наша работа…
Как только он наставлял перфоратор на скалу, она начинала дрожать, упрямиться и взбрыкивала, точно испуганное животное, стараясь сбросить путы; дрожь охватывала руки и грудь бурильщика, и сердце его бешено колотилось. Ни один бурильщик не мог выдержать этой борьбы более двух часов.
Поначалу, ценой огромного напряжения, жилистые руки Уачипондо, словно сделанные из витой проволоки, выдерживали битву в течение трех часов. Держа перфоратор за обе ручки и сильно навалившись на него грудью, он буквально вгрызался в скалу; дрожь машины передавалась телу рабочего; мириады мелких раскаленных частичек обдавали его, и сам он казался ничтожной букашкой, жалкой молью, прилипшей к огнедышащей стене, из которой вырывались клубы пыли.
Запалив шнуры, рабочие разбегались. Людская масса рассеивалась по галереям. Следуя один за другим, гремели взрывы. Хриплый, дикий рев сотрясал своды рудника и несся по штрекам, яростно ища выхода.
Уачипондо лежал, распластавшись на полу, и, жуя свою коку, смотрел на страшную пасть, которая разверзалась и не могла сомкнуться.
Рабочие возвращались к месту отвала. Выброшенная взрывом порода загромождала галерею; начиналась работа по расчистке. Порода грузилась в вагончики и доставлялась к клети. Клеть поднимала ее на поверхность, и оттуда по канатной дороге руда шла на обогатительную фабрику.
Вместе с рудой на дневную поверхность поднимались рабочие, а на смену им приходили новые партии рудокопов. Там, внизу, они снова разбивались на бригады и, предводительствуемые своими «капитанами», растекались по ненадежным коридорам-артериям мрачной подземной тюрьмы. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Что касается Уачипондо, то он-мог исправно трудиться не более четырех дней, а вторую половину недели предавался загулу. Возвращаясь в забой, он особенно остро чувствовал, как трудно здесь дышать: силикатная пыль резала горло. Поэтому, начиная орудовать буром, он закрывал рот шарфом, но это не избавляло его от надсадного кашля.
Мак-Ноган с раздражением сказал Маруче:
– Вот видишь, только что я был на разведке вольфрамовых залежей в Ками, а на следующей неделе меня усылают в Амайяпампу.
Вечная история. Маруча в упор посмотрела на него своими светло-серыми глазами и, кокетливо поправляя ему галстук – словно затягивала петлю на шее, – пролепетала:
– О, Вилли, ну что это за жизнь… Теперь – эти ужасные рудники.
– Один из этих ужасных рудников предлагают компании «Омонте тин» за десять миллионов фунтов. Эксперты из США считают, что рудник стоит этих денег. Но хозяин хочет, чтобы инженер из Уануни и я снова все точно подсчитали.
– Но к началу экскурсии на плотину ты вернешься?
– Это невозможно… Такая досада. Придется тебе ехать без меня, с друзьями.
– Ах, дорогой, мне очень жаль…
Мак-Ноган отправился в Амайяпампу, чтобы на месте выяснить подлинную стоимость горных сокровищ. В воскресенье супруги Симпсон, Пепе Вилья, Маруча и двое иностранцев из Оруро совершили увеселительную прогулку к зеленой дамбе, построенной в узком ущелье в двенадцати километрах от поселка, откуда рудники получали электрический ток.
Через неделю вернулся Мак-Ноган.
– Чтобы этот рудник стоил десять миллионов фунтов, следует закопать именно такую сумму в одной из его галерей, – заявил он.
В течение трех недель Мак-Ноган наслаждался домашним уютом: сидел у камина, читал журналы и английские книжки, спал в теплой жениной постели. Потом ему поручили руководить работами по установке грузоподъемника мощностью в две тонны с высотой подъема в шестьсот метров. На его долю выпало руководство ночной сменой.
– Ах, дорогой, я так одинока.
Он не высказал никакого неудовольствия по поводу своего изгнания в каменную пустыню, чтобы не тревожить по пустякам Маручу. В десять вечера он шел в шахту, у ее зева уже толпились люди, готовые принести себя в жертву ненасытному идолу. В шесть утра он возвращался, на цыпочках пробирался к себе в спальню и спал весь день.
Однажды он проснулся около двух часов и, лежа в постели, увидел Маручу: она стояла спиной к нему и смотрела в окно.
Мягкий свет, проникавший сквозь гардины в полутемную спальню, золотым нимбом опушил ее волосы, точь-в-точь как солнце золотит нежную весеннюю поросль на вершине холма.
Ноган окликнул жену.
– Маруча…
Словно очнувшись, она обернулась к нему.
– О, добрый день. Я не хотела тебя будить.
– Который час?
– Два часа… Я смотрела на язычки пламени. Тысячи разноцветных огоньков и индейцы в шахтерских шлемах. Очень похожи на испанских конкистадоров.
– Да… Они ищут вагонетки для транспортировки руды.
Маруча подошла к постели мужа; тот сидел, положив поверх одеяла свои волосатые руки.
– Ты встаешь? Будешь обедать?
– Да, но сначала сядь ко мне.
Она села, не поворачиваясь в его сторону. В профиль ему были хорошо видны ее длинные-предлинные ресницы.
– Почта уже была. Я положила тебе газеты.
Он взял их с ночного столика.
– Так… Вильсона не выберут… Да, знаешь, вчера я тоже просматривал газеты, и потом мне приснилось, будто я иду по нью-йоркской подземке…
Ноган погладил ее коротко подстриженный затылок. Женщина повела плечом и отклонила голову.
– Через год мы получим отпуск и поедем в Чили, к морю, и не будет там никаких язычков пламени и никаких индейцев. Неплохо, не правда ли?
Маруча повернулась к мужу лицом. В фас ее подбородок не казался столь энергичным, особенно из-за ямочки. Мак-Ноган поцеловал ямочку. Потом – пухлые теплые губки, потом – тугие, очень теплые груди.
Газета смялась, лицо Вудро Вильсона скривилось в недовольной гримасе.
Что касается до их непотребных празднеств, то лучше о них промолчать и ничего не говорить.
Последний день карнавала. Буйство голосов и красок на дорогах и улицах городка, всеобщее суматошливое оживление, толпы индианок и чол, пританцовывающих под звуки аккордеонов, гитар и флейт.
Женщины в ярких бархатных юбках и мужчины в расшитых куртках гурьбой спускались в поселок, где шла грандиозная попойка, где каждый дом превратился в питейное заведение.
Во главе процессии шел мужчина, изображавший черта. Он был облачен в бархатный камзол, расшитый серебром и усыпанный блестками, на голове – огромная маска с акульими зубами и с рогами, увитыми золочеными змеями. Это был Уачипондо. В его ушах и теперь еще раздавался рев отбойного молотка, – чтобы приобрести этот маскарадный костюм, ему пришлось много поработать, урочно и сверхурочно. Его измазанная грива и обсыпанная мукой грудь сотрясались от кашля, заглушая звуки трещоток, дудок и тарелок; казалось, что не он один, а несколько рудокопов давятся от кашля.
Толпа расступилась, пропуская вереницу мулов, на которых рабочие из копей Чаянты привезли серебряные изделия. Из зева шахты выехала на повозке королева карнавала – огромная кукла, высечанная из черного блестящего минерала, разукрашенная бантиками и увитая лентами серпантина. За повозкой – толпа ребятишек и взрослых. На улицах рвались ракеты, группы танцующих наводнили город и окрестные дороги.
Сельсо Рамос и Лобатон в компании с почтенного вида перекупщиками и подрядчиками засели в одном из отелей и распивали шампанское, путаясь в причудливой сети серпантина и бумажных украшений.
В самый разгар веселья скотовладелец из Сукре, только что совершивший выгодную сделку, запродав компании большую партию скота, предложил сыграть в «лягушку», призвав в пьяном азарте заменить свинцовые монетки на самые настоящие фунты стерлингов. Рамос с двумя парнями из Потоси (одному из них он продавал ворованное олово) составили партию, в другую вошли скотопромышленник, подрядчик и торговец-турок с волосатыми руками. Первые три партии сопровождались шутками, смехом, аплодисментами, пока игроки окончательно не запутались в густых тенетах серпантина.
Проигравшие подбили удачливых соперников на выпивку, и все перешли в соседний зал. Компания расположилась за круглым столом, к ним подсело несколько рудокопов, и игра возобновилась. Начали играть осторожно, но очень скоро страсти разгорелись. По мере того как табачный дым густел и нарастал звон бокалов, рос и ажиотаж вокруг ставок. Кости, словно кролики, метались по зеленому полю.
Рамос вывалил на стол целую кучу денег, взял роговую чашечку и не спеша встряхнул кости.
– Четыре по сто! Вот так! – объявил скотопромышленник, швырнув пачку банкнот. Рамос метнул кости и проиграл. Кучки бумажных денег и золотых монет то вырастали, то таяли на столе перед игроками.
На следующее метание юноша выставил довольно тощую пачку банкнот.
– Ставь больше! Больше ставь!
– Я и так продул две тысячи с лишком!
– Ладно, я ставлю столько же.
Парню из Чукисаки очень хотелось высадить его из игры одним ударом. Но Рамос выбросил пять-шесть и сгреб деньги.
Снова встряхнул чашечку:
– Та же ставка.
И снова выиграл. Скотопромышленник опять уплатил.
– Ну, кто еще? Не одному же мне играть!
Зрители заключали пари. Турок выбросил три-четыре. Рамос – две пятерки. Лица присутствующих сосредоточены словно в спиритическом сеансе, все следят за россыпью костей, падающих с сухим стуком, и за руками, выкладывающими и загребающими пачки банкнот.
С улицы доносилась музыка. В зале атмосфера сгущалась. От дыма и от ненависти. Зажгли лампу.
– Деньги на бочку.
– Ставлю тысячу песо!
В дымном угаре, заполнившем комнату, среди множества судорожно напряженных лиц молодое лицо Сельсо с чистым высоким лбом, обрамленным темными вьющимися волосами, казалось особенно бледным и серьезным. Высоченный худой рудокоп с обвислыми усами, стоявший подле стола, медленно произнес:
– Вот моя ставка, – и положил бумажный сверток.
– Идет, – сказал Рамос, даже не взглянув на деньги.
– Играем на все? – мрачно спросил гигант.
– На все.
Юноша бросил кости. Выпали две шестерки, и он сгреб банкноты и сверток.
– Думаете запугать нас своими фунтиками. Ну, это мы еще посмотрим. Всем по бокалу шампанского.
– Пять по сто.
– Пять по двести.
– Четыре по пятьсот.
– Тысяча и еще тысяча.
Сухопарый рудокоп мрачно сказал:
– Сельсо, у меня на складе есть пятнадцать кинталов олова. Выиграешь – можешь забрать их хоть завтра. Играю на них.
– На все сразу?
– Нет, по частям. Ставлю два кинтала.
Сельсо выпил бокал шампанского, обвел глазами стол и сказал:
– Идет, два кинтала.
С улицы доносились пьяные голоса и песни.
Люди, поглощенные игрой, едва слышали их, склонившись над столом в каком-то странном унылом оцепенении.
Сельсо выиграл все пятнадцать кинталов.
– Пошли, – шепнул ему на ухо Лобатон, – мы тут с четырех часов.
– Еще немножко: мне чертовски везет.
– А как же с Мартой?
Сельсо взглянул на часы: было уже одиннадцать вечера.
Последний день карнавала. Рамос вышел вместе с турком и Лобатоном. Его карманы были туго набиты банкнотами и монетами. Казалось, что по залу пронесся ураган, разметав ленты серпантина и насмерть поразив оставшихся там людей.
– Я чувствую, что немного перебрал.
– Все мы, братец, перебрали, – сказал турок. – Закатимся к Шалой.
– Но у нее, наверное, дон Лоренсо…
– Нет. Думаю, он выпивает в заведении Вымогалы.
– Не важно, пошли к Марте, – предложил Рамос. А что касается Эстрады, то и Шалая и Вымогала наверняка у него. Сначала они напиваются, а потом он спит с той и с другой по очереди.
Из переулков еще доносилась музыка. На дальних горах в деревенских чичериях боязливо помигивали красные глаза-огоньки, там продолжалась пьянка. В доме Марты праздник был в самом разгаре. Двери оказались закрытыми. Когда выяснилось, что пришел Рамос со своими друзьями, их впустили, и они присоединились к компании подрядчиков, перекупщиков и служащих городской администрации.
Марта разгорячилась, раскраснелась – по всему было видно, что она пьяна. Среди гостей оказалось двое знакомых Рамоса. Это были служащие компании «Прогресс». Друзья обнялись.
– Марта! Куколка! Я за всех плачу! – крикнул Сельсо.
Слепой тапер играл на рояле. Сельсо подхватил чилийку и закружился с нею в танце.
– Все это время я только и делал, что огребал деньги. Много денег. Пощупай карманы. Ну и олово у меня тоже имеется. Заберу тебя в Чили.
Марта была как во сне и, прижимаясь к нему, сказала:
– Да, да, в Чили… Мне осточертели и рудники, и рудокопы, и гринго. Вот кончится карнавал…
– Давай куэку! – вопили чилийцы.
– Да здравствует карнавал! Гип-гип-ура!
От топота ног дрожали бокдлы с шампанским. Банкноты, сыпавшиеся слепому музыканту, очень бодрили его, и инструмент бренчал в полную силу. Марта танцевала, стоя против Рамоса, который обвил ее шею платком и, держась за его кончики, то притягивал партнершу, то отпускал от себя. Им бешено аплодировали.
Вдруг совсем близко стали рваться ракеты. Входная дверь задрожала. Снаружи послышались крики:
– Да здравствует карнавал! Магта! Магта!
Кто-то сильно барабанил в дверь, ведущую в патио. В доме притихли.
– Не открывайте… это пьяный гринго.
– Но он разнесет дверь.
Марта нахмурилась, остановилась посреди комнаты и потом приказала служанке:
– Открой!
В дверном проеме показался Харашич, грузный, красный, в огромной широкополой шляпе, в расстегнутой рубахе и высоких сапогах. Позади него темнела фигура его приятеля. Харашич переступил порог, запалил петарду и направил ее прямо в середину зала.
– Это не динамит – не бойтесь. Что притихли, как на похоронах? Это мой друг. Входи, друг, входи.
За Харашичем в залу ввалился пьяный, мрачного вида метис. Югослав обратился к Марте:
– Ты не откажешься принять моего друга. Я гринго, и на меня можно наплевать. Но это мой друг, и у него пересохла глотка, хотя он и набирался с самой Льяльягуа. Потеха. Принимайте гостя. Где он может присесть? Он грубоват, но вы его извините. Ведь я тоже грубиян. Когда же выпить, как не теперь. Правильно я говорю, ребята?
– Да, да, – поддакнул один из рудокопов.
– Нужно говорить «да, сеньор». Когда я спрашиваю, я люблю, чтобы мне отвечали «да, сеньор». Ха-ха-ха! Правда, Магта? Подавай шампанского.
– Да, гринго, но зачем было ломать дверь?
Она сняла с шеи серпантин, швырнула на пол и потом принесла бокалы с шампанским.
– В Льяльягуа я дал под зад официанту. Тот огрызнулся, не помню, что он мне сказал. Тогда я его – раз за ухо. Легонько так дернул. Со страха он стал бегать между столиков. Потеха. Давай еще шампанского. Смотрите-ка, этот юнец Рамос забрал себе гитару, а играть не играет. Так пусть отдаст. Серьезно говорю. Все равно не играет. Магта, как ты думаешь, есть у меня деньги или нету. Обобрали меня сегодня… то есть вчера. Ха-ха-ха. Но кое-что осталось.
Он вытащил несколько золотых монет, подбросил их; они покатились и затерялись. в ворохе серпантина.
– Послушай, гринго, – сказала Марта. – Не очень-то зарывайся.
– Правильно, – сказал метис, – сеньор не должен так делать.
– Что я не должен так делать, сукин ты сын? Это мои деньги или не мои? Может быть, это ваши деньги? А, здесь и сеньор чилиец! Опрокиньте бокальчик. Это не повредит.
Марта слегка потянула гринго за полы пиджака, но тот отстранил ее своей лапищей, взял бокал, осушил его и разбил об пол.
– Музыку давай! Давай музыку!
Рояль снова забренчал.
– Пошли танцевать. Я танцевать хочу, чегт побери. Мне все нипочем. Мой приятель – хромой, он не умеет танцевать, он вообще ничего не умеет. Я вижу, здесь все хромые. Скажи, они хромые?
В зале осталось только пять человек. Все они были пьяны, робели перед гигантом и вымучивали из себя улыбки, слушая его болтовню. Немного потанцевав, гигант сел и пытался было усадить к себе на колени Марту, но женщина оттолкнула его и ловко увернулась.
– Отвяжись от меня, ты пьян.
Сидевший в углу Сельсо буквально впился в Харашича глазами. Тот снял пиджак и швырнул его на пол. Марта подошла к Лобатону и, сделав вид, что хочет дать ему выпить, шепнула:
– Уведи отсюда Рамоса. Гринго совсем пьян.
В этот самый момент Харашич прорычал:
– Чего вы все перетрусили? Гринго не связывается с такими…
Снова заиграла музыка. Рамос осушил бокал, встал, подошел к Марте и пригласил ее танцевать.
– Это индейский карнавал. Тут танцуют только индейцы, слышите вы, свиньи, только индейцы!
Марта, которая уже подала было руку Рамосу, повернулась и зло сказала:
– Гринго, ты всем осточертел. Ведешь себя как последний индеец.
– Если кто хочет танцевать, просите у меня разрешения. Магта, иди ко мне, иди к своему гринго. Танцевать будешь только с моего разрешения. Слышишь, что я сказал?
Сельсо взорвался, оставил Марту и, подойдя вплотную к Харашичу, крикнул:
– Я танцую, когда хочу и с кем хочу. Понятно?
Воцарилось тягостное молчание.
– Послушай… – начала было Марта, беря юношу за руку, но тот оттолкнул ее и, бледнея от злости, сказал:
– Мы не собираемся терпеть его выходки.
Харашич встал, сделал круглые глаза, снял шляпу и, шутовски раскланиваясь, произнес;
– Конечно, сеньор, конечно. Я очень вас боюсь. Танцуйте, пожалуйста, дорогой сеньор.
Стальным блеском сверкнули его глаза, когда он повернулся к таперу:
– Музыку!.. Теперь танцуйте…
Вмешалась Марта:
– Послушай, гринго, ты пьян. Я не потерплю безобразий в моем доме. Тебя ведь не трогают.
Но Харашич не обратил на нее никакого внимания и смотрел поверх ее головы на Рамоса.
– Танцуй, падаль.
– Теперь я не желаю.
– Тогда – вон отсюда! Проваливайте и вы все, вонючие свиньи.
Резким толчком он отстранил Марту. Женщина вспыхнула, брови ее сдвинулись, и в бешенстве она схватилась за бутылку.
– Подонок, мне надоели твои штучки.
– Заткнись, шлюха!
– Сам заткнись, сукин ты сын!
Он метнул взгляд на Марту, и злые огоньки блеснули в его глазах. В этот самый момент Рамос нанес ему удар в лицо. Шляпа Харашича свалилась на пол. Гигант схватил обидчика за полу пиджака и крутанул его с такой силой, что тот завертелся волчком. Широкой своей ручищей он закрыл Марте лицо, проволочил ее до порога спальни и втолкнул туда.
– Помогите, помогите! – вопила служанка. – Держите его!
Лобатон и другие гости пытались его утихомирить. Одним махом он отбросил всех, встал над Рамосом и, не обращая внимания на удары, которые тот наносил ему ногами, схватил юношу одной рукой за ворот пиджака, другой – за пояс, поднял его, донес до двери и выбросил на улицу, прямо в грязь.
От двери он направился было в зал. Гости попятились. И тут появилась Марта, вид у нее был ужасен: глаза опухли, волосы растрепаны, на шее нелепо болтались ленты серпантина. В руках ее блеснули ножницы.
– Сукин ты сын!
– Брось ножницы, не то я размозжу тебе…
– Попробуй возьми теперь меня!..
Харашич обернулся.
В дверях стоял Сельсо Рамос, галстук его съехал в сторону, костюм был перемазан в желтой глине. В руке он держал никелированный револьвер. Харашич на какое-то мгновение заколебался, но тут же ринулся на юношу. Раздался глухой выстрел, через секунду – второй. Гигант остановился, лицо его исказилось. Он повернулся в четверть оборота, вдруг согнулся, стал медленно оседать, схватившись за живот обеими руками, и повалился в ворох серпантина.
– Бегите, сеньор, – крикнула служанка.
– Закройте двери! Двери закройте! Сюда, сюда, за мной, – бормотала Марта, увлекая за собой Рамоса. Она провела его через патио к невысокой глинобитной стене.
– Я напишу тебе, как только доберусь до места. Где это будет, я сам еще не знаю.
Он перемахнул через стену и узким проулком добежал до дороги. Некоторое время он еще слышал вдалеке голоса, крики, а потом – только звук собственных шагов.
Однажды ночью, когда Мак-Ноган был на руднике, у него случилась неприятность: разбились очки. Он как раз сидел в своей конторке на глубине трехсот метров, разбирал чертежи, когда зазвонил телефон. Был час ночи.
– Не знаю точно, что произошло, – услышал он голос одного из начальников смены, – но, кажется, раздавило несколько каменщиков, работавших на нижней площадке.
– Что, что?
– Упала вагонетка-самосвал.
Вагонетка весом в два центнера сорвалась и, набрав чудовищную скорость, обрушилась на рабочих, которые готовили цементную площадку для подъемника на дне огромного котлована.
– Их должно было быть шесть, но, кажется, работали только четверо.
– Я сам спущусь туда, – сказал Мак-Ноган и быстрым шагом направился в галерею, на повороте столкнулся с каким-то рудокопом и вот тут обронил очки. Он нагнулся, чтобы поднять их, но случайно наступил на них ногой и раздавил на мелкие кусочки. Без очков он почти ничего не видел. Мак-Ноган дошел до выхода из галереи, где услышал глухие голоса старших рабочих и рудокопов, дал первые распоряжения и, добавив: «Я скоро вернусь, только съезжу за очками», вошел в клеть, поднялся на поверхность, доехал в вагончике до выхода из шахты и на попутном грузовике быстро добрался до дому, – благо это было совсем близко.
Его дом в квартале служащих горной администрации мирно спал, нахлобучив по самые окна цинковую шапку-крышу. Он вошел в дом, миновал небольшой холл, едва освещенный ночником, и открыл дверь в спальню. При слабом свете, проникавшем сюда из холла, он разглядел пустую кровать, покрытую – без единой складочки – одеялом. Подошел ближе, включил свет – Маручи не было.
Сердце у него упало, потом бешено заколотилось, и его удары, словно удары колокола, гулко отдались в мозгу. Кровь бросилась в голову.
Кровати стояли нетронутые, с аккуратно отогнутыми уголками простыней. В спальне жены не было.
– Маруча, Маруча!
Ноган оторопело стоял возле постели жены. Ужасная догадка, поразившая его, казалось, возникала не у него в голове, а рождалась из тишины пустого покинутого дома. Неподвижные предметы причудливых очертаний выжидающе смотрели на него, а в зеркале шкафа застыл едва различимый в полутьме другой, еще один Мак-Ноган.
Не слышно было дыхания Маручи, и теперь комнату заполнила мертвая гнетущая тишина. Ноган вдруг вспомнил, как однажды, когда он учился в колледже, в наказание за какую-то провинность его оставили в пустой спальне, среди пустых постелей. И еще почему-то вспомнил, как в галерее он столкнулся с рудокопом, у которого рот был измазан зеленой слюной. Пытаясь бежать от главной правды в мир воспоминаний, он вдруг провалился в глубокий колодец, на дне которого лежала истина: Маруча каждую ночь уходила к Пепе Вилье.
Он открыл шкаф, взял оттуда очки и пачку сигарет, погасил свет, закрыл за собой дверь и очутился на улице.
Сел на попутную машину. В ушах засвистел резкий, холодный ветер. На черном ночном небе паслись бессчетные стада блестящих звездочек.
У входа в шахту подремывали сторожа. Ему сообщили, что вагонетка при падении сбила рабочих со строительных лесов и увлекла в пропасть. Он спустился, приказал подвести к самому краю шахты электропровод, пристроить балки таким образом, чтобы можно было спустить на тросе рабочих. Дно котлована было завалено обломками.
– Вот к чему приводит неосторожность. Они так неосторожны.
В.пять часов утра трупы были уложены в мешки, потом их подняли, провезли по галерее до клети и доставили на дневную поверхность.
Ноган покинул рудник в десять утра. Одна из бригад проходила по галерее как раз в то время, когда вагончики везли тела погибших; люди прижимались к стенам, чтобы пропустить печальный поезд. У входа в шахту собрались индианки с детьми. Женщины плакали, обратив взоры к небу. Поодаль от толпы стояла Маруча; на ней была бежевая юбка и красный шерстяной платок. Она поджидала Ногана. В серых ее глазах отражался яркий, утренний свет, разлившийся по вершинам окрестных гор.
Она бросилась навстречу Ногану, но тот остановил ее:
– Не подходи ко мне. Я весь в грязи.
– Да, да, – сказала она, – у тебя даже в волосах комья грязи.
На светлых висках Ногана действительно застряли комочки земли, словно гранитные валуны на ржаном поле.
Всюду кипела жизнь: на рудниках, на участках, в поселке. Горы, чреватые оловом, словно кровожадные боги, заглатывали человеческие души и молча принимали жертвоприношения – пьянство, расточительство, своекорыстие, кровь.
– Сеньор инженер, подайте Христа ради.
Это был Хуан де Дьос Уачипондо. Он был черен лицом и телом, словно жар преисподней заживо обуглил его, превратив в глыбу антрацита. Из вороха лохмотьев торчала голова – костлявый треугольник с дырами вместо щек. Мускулы шеи, идущие от самых ключиц, вибрировали при каждом приступе кашля, и темная, словно обгорелая, кожа вздрагивала.
Мак-Ноган наклонился и бросил монетку.
– Да хранит вас господь…
Теперь инженер работал в дневной смене. По вечерам он наведывался в поселок и стал завсегдатаем заведения Марты, которая, хотя и относилась к иностранцам с неприязнью, сделала для Мак-Ногана исключение, была к нему внимательна и обращалась как с настоящим кабальеро. После ночной попойки в доме Марты или в иностранном клубе ровно в шесть утра он был уже на руднике, и день его начинался с разноса, который он учинял рабочим на своем ломаном испанском языке.
Из подземной конторы он управлял бурением, взрывами, устройством креплений, перемычек и прочих приспособлений. Он следил за работами, обходя галереи и штреки, и вид истерзанных скал наполнял его душу тоской. Подземелье давило его своей огромной плотной массой, поражало своей необъятностью; оно скрывало от него небо: гора являла собой весь универсум, бесконечный, беспредельный, страшный.
Он чувствовал себя безнадежно затерянным в этих сгустках мрака; ощущение одиночества не покидало его, когда он видел рудокопов-индейцев, покорно и бесстрашно делающих свое дело. Он обращался с ними жестоко, не скрывая холодного презрения, точь-в-точь как тюремщик не скрывает своего раздражения и презрения к арестантам, с которыми он вынужден обретаться в одной тюрьме.
– Скоты, – говорил он им, – все несчастные случаи – от вас самих, потому что вы скоты и всегда лезете куда не надо.
Он подолгу оставался под землей и научился жевать коку, принялся изучать кечуа, чтобы разговаривать с рабочими-индейцами на их языке, постепенно постигал жуткую тайну недр, которые заглатывали людей, отторгали от них душу, пережевывали денно и нощно их тело и потом выталкивали его из себя, как выталкивают бесполезную жвачку.
Порой ему казалось, что громада скал вот-вот навалится на него и раздавит своей тяжестью, и тогда его одолевало страстное желание разбить кулаками своды, пробить головой гору, вырваться к небу, на волю и пуститься на поиски своей Маручи. Но она была далеко: где-то на дневной поверхности, где-то за нагорьем, за Кордильерами, за океаном.
Как они и договорились при расставании, Маруча прислала ему из США заявление о разводе. Между тем участок рудника «Провидение», руководимый инженером Вильямом Мак-Ноганом, превзойдя все ожидания администрации, стал ежемесячно выдавать на-гора по тридцать тысяч кинталов олова высокого качества, что вкупе с другими участками составило добычу в пятьдесят тысяч кинталов.
XI
Твердый сплав
Одни говорили – это голова, сильный человек; другие говорили – у него руки загребущие, обуян гордыней, жаден до денег; от него придет разор в Потоси…
«Маджестик» пересек Атлантический океан. Еще до приезда Омонте в Америку там поднялся настоящий бумажный вихрь: на читателей обрушились биржевые сводки, газетные репортажи, бюллетени литейных компаний. В Гаване и в Панаме журналисты оказали магнату восторженную встречу. Затем он продолжил свое путешествие на пароходе компании «Пасифик стим навигейшн», вызывая восхищение пассажиров, и высадился в Арике, где его встречали представители чилийского правительства и консул Боливии.
Боливия выразила ему свое почтение молчанием, как и подобает суровой загадочной стране, воздвигнутой под самыми облаками. Когда поезд пересек границу и шел уже по нагорью, безмолвная пустыня окружила его: по обе стороны расстилалась пампа и высились дальние горы. Казалось, он затерялся В этой беспредельности; только изредка попадались на его пути станции: несколько домиков под цинковыми крышами и словно выросшие из-под земли детские фигурки. Голодные маленькие индейцы, чумазые и оборванные, тянули руки к окнам, вымаливая подаяние, или стайкой налетали на объедки, выбрасываемые из вагона-ресторана. Миллионеру было неприятно видеть все это, и он задергивал занавески на окнах своего персонального вагона. Боливия… Боливия, которую он не видел двенадцать долгих лет.
Древняя земля своей причудливой расцветкой напоминала огромную географическую карту, на которую голубыми пятнами океанов легли четко очерченные тени облаков. Голубые тени и освещенные солнцем островки серой земли тянулись, перемежаясь, до самого края света, окаймленного цепью гор с белоснежными вершинами, похожими на облака. Тоненькие струйки пыли спиралью взвивались с земли и неслись в вихре танца, словно балерины на пуантах, с обеих сторон поезда, мчавшегося точно по диаметру огромной окружности, вычерченной горизонтом. Необъятный мир, чистый r своей первозданности, гордый в своем одиночестве, простирался за окнами поезда. Величавая красота природы угнетала Омонте своим безмолвием.