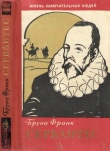Текст книги "Металл дьявола"
Автор книги: Аугусто Сеспедес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Так Омонте бросил свою службу и отправился вслед за Уачипондо на поиски богини…
IV
Слепые мулы
Дважды побывал здесь святой отец. Первый раз он увидел; как танцуют и веселятся толпы индейцев, а в одном кругу с ними, под видом индейцев, пляшут-черти. Во второй раз увидел он, как эти адские духи в пьяном сне валяются у дверей кабаков.
В те времена, когда Омонте жил в Оруро, работали в Пулакайо два человека, которым суждено было сыграть немалую роль в его жизни: Лоренсо Эстрада и Франсиско Тахуара, которого все звали уменьшительным именем Сиско.
Они принадлежали к разным общественным классам: Эстраде случалось быть и надсмотрщиком, и полицейским агентом рудничного управления, и вербовщиком; Тахуара был просто индейцем-рудокопом. Эстраду он узнал при весьма неприятных обстоятельствах.
Пулакайо – индейская деревушка, выросшая на высоте четырех тысяч двухсот метров, рядом с рудниками, о которых рассказывал Сентено. Между двух ущелий поднимались трубы рудничного поселка, а по склонам лепились скособоченные лачуги, словно сползшие с вершины горы и чудом остановленные в своем падении. Перепутанные улочки неожиданно проваливались под землю, а все селение выглядело так, будто некогда его потрясли какие-то неведомые катаклизмы.
На крышах лаяли псы. Расположенные одна над другой жалкие хибарки сообщались между собой посредством каменных и глинобитных ступеней или деревянных лестниц, соединявших кривые петляющие переулки. Двери домов напоминали пустые глазницы черепа или беззубый рот. На выбеленных известкой стенах дожди оставили желтые подтеки и пятна сырости, проедающей дома насквозь. Полусгнившие стены сливались с землей, а соломенные крыши казались выросшей из нее колючей горной травой. Эту пыльную серую деревушку словно выкопали из могилы, после того как она прошла все стадии разложения, и теперь просушивали на ветру ее кости, ее седые волосы и зловещие беззубые рты ее домов.
Зимой шел снег, летом сухая земля завивалась воронками, распространяя ядовитые химические запахи, серные пары прорывались сквозь землю из глубин рудника. Ветер гнал на деревню дым фабричных труб и газ обжиговых печей.
Люди дышали зловонным, сернистым воздухом, и им казалось, будто в печах обогатительной фабрики сжигают трупы. И деревня и поселок были могилами. В Пулакайо только холод вызывал ощущение жизни. А вокруг – и вверху и внизу – одни лишь колодцы, ямы, пещеры. Дома, подобные мрачному входу в шахту, входы в шахту, подобные домам из дурного сна. Ветер свистел над могилами, от его дыхания люди старились, коченели, покрывались темным налетом металлической пыли.
Против поселка находился собственно рудник, а перед ним – рудничный двор и обогатительная фабрика. Там, занятые на разных работах, суетились мужчины, женщины и дети. Гора изрыгала через шахты серые, бурые и черные куски руды, добытые в ее недрах. Руда накапливалась на верхних горизонтах, а затем поступала в обработку, проходя через целую систему деревянных, железных, а то и каменных приспособлений, расположенных уступами на одном из склонов горы между отвалами пустой породы.
Уклон горного ската определял последовательность процессов, которые проходила руда, следуя за потоком воды. Желтоватая, бурлящая вода, эта чудодейственная стихия, проникая сквозь частицы раздробленной руды, сортировала и промывала их, а руки человека сообщали воде нужную скорость и направление.
Каждый день, выйдя из шахты, Тахуара встречал на рудничном дворе, где прямо на земле громоздились горы добытой породы, индианку в черном сомбреро и пунцовой накидке. Это была Долорес, жена Мариано Колке, невысокая женщина со смуглым скуластым лицом и монгольскими глазами. Низко нагнувшись, она вместе с другими женщинами сортировала руду. Одни дробили крупные обломки молотком, другие отделяли кремнезем и риолиты, выбирая куски, которые, судя по цвету и весу, содержали металл. Пустую породу индианки оттаскивали в сторону и сваливали в ближний овраг, а руду несли к обогатительной фабрике, упирая груженую корзину в бедро. Иные женщины тащили руду в руках, а за спиной у них сидел подвязанный шалью малыш.
Работа на рудничном дворе заключалась в дроблении и отборе руды. На фабрике руда снова дробилась и измельчалась в толчеях, просеивалась через огромные, ритмично вздрагивающие грохоты, а потом промывалась водой в вашгердах. В следующем отделении фабрики индианки, сидя вдоль желоба, по которому шла струя воды, особой щеточкой отбирали частицы металла.
После воды вступал в действие огонь. Металл, еще не свободный от примесей серы, обжигался в печах, изрыгающих через высокие трубы, словно вколоченные в гору, днем дым, а ночью– огонь. Мариано Колке и другие пеоны, работающие у дровяных печей, плясали, как черти, в облаках серных паров. Пары ядовитой слюной оседали на коже, оставляя на ней страшные язвы. Жар от пылающих дров и раскаленного металла обжигал людей, и язвы на черном теле Колке казались тусклыми искрами на куске угля.
Эстрада ценил Тахуару как искусного бурильщика. Индеец обладал той «тригонометрической интуицией», что помогает бурильщику по одному видимому углу и строению скального грунта почти безошибочно рассчитать неизвестные углы и объем каменной массы, которая взлетит на воздух в результате взрыва. Тахуара, определяя направление шпуров, которые бурил в продольных и поперечных слоях, добивался наилучшего использования взрывной силы динамита: на глазок он производил настоящий геометрический анализ.
Он работал в глубине старого рудника. Кровь многих поколений струилась в теле горы, сама прокладывая себе путь и создавая артерии. Тысячелетиями шел в недрах земли вулканический процесс, и в толще гранита и порфира появлялись металлические жилы, среди риолитов и грауваков. Теперь в подземное царство вторгся человек, пробивая сложный лабиринт туннелей. Чтобы проникнуть к месту работы, Тахуаре приходилось спускаться зигзагами в головокружительную глубину, передвигаясь по деревянным лесенкам, которые опирались на уступы, высеченные в каменных боках колодца через каждые десять метров.
Лестница кончалась, но шахта шла дальше вниз. Становилось все жарче и жарче. Рабочие раздевались чуть ли не догола. В подземной пещере они оставляли одежду и в большой бадье, подвешенной на тросе к блоку, спускались еще ниже.
Обнаженные люди стремительно летели вниз, словно вонзаясь в темную пропасть, в глубине которой яростно клокотали серные воды.
– У-у-у-у– поднимался снизу глухой рев.
– А-а-а-а… – обрушивалось в ответ сверху.
В шахте собирались проложить спроектированную инженерами галерею для стока воды, – вода проступала повсюду. На глубине трехсот метров она доходила почти до колен.
Здесь было еще жарче, пар оседал на лицах горячими каплями. Борясь с дурнотой, рудокопы утирали руками мокрый лоб, они задыхались, чувствуя себя словно в паровом котле под высоким давлением; кругом разливалась адская жара. Вынести температуру этой геологической пучины было бы невозможно, если б в этой же бадье не доставляли холодную воду, Проведенную по трубам с поверхности земли. Люди обливались водой и снова окунались в клубы слепящего, обжигающего пара.
Пар шарил бесформенными руками по руднику Пу-лакайо, хват. ал Тахуару за горло, крался вдоль каменных стен, словно выползшее из тайника подземное чудище, разбуженное этими обнаженными гномами, которые в ужасе пытались загнать его обратно.
Эстрада был высок ростом, на орлином носу у него сидели желтые очки. Рудокопы считали его нечувствительным и к собственным и к чужим бедам. Говорили, будто в Туписе он убил человека. Здесь он руководил работами как подрядчик и со всеми был холоден и груб.
Тахуара познакомился с ним не в добрый час. Как-то вечером он вышел из шахты последним и, запоздав, не успел получить заработанные деньги. Он спросил их у Эстрады, а тот. сказал, что скоро вернется, и велел подождать у дверей конторы. Но Эстрада не вернулся. Был праздничный день, и Тахуаре не терпелось поскорее выпить. Он был в грязной куртке, с шарфом на шее, в грубых самодельных башмаках из бычьей кожи. Его лачуга стояла далеко в горах, над оврагами, а он хотел переодеться, прежде чем пойти на праздник. Потеряв терпение, он спустился с горы вдоль канавы с грязной серной водой, перепрыгнул через нее и, спотыкаясь о камни, направился в поселок к дому Эстрады. Раз, другой постучался в дверь.
– Войдите, – раздалось в ответ.
Открыв дверь, он увидел лежавшего на кровати Эстраду.
– Чего тебе?
– Это я, ты сказал, что заплатишь мне…
– И ради этого ты разбудил меня? Получай же!
И Эстрада, вскочив одним прыжком с постели, схватил стоявший на полу тяжелый глиняный кувшин. Увидев летящий ему в голову кувшин, Тахуара понял, что сейчас будет убит. Он пригнулся, и кувшин, ударившись о косяк, разлетелся на мелкие черепки. Тахуара бросился бежать со всех ног.
Однако Тахуара не сомневался в своей правоте. Ему необходимо было выпить, – вот уже две недели он не пил ни капли. Работал он по двенадцать часов, так же как женщины и дети, так же как все, работал и под землей, и на рудничном дворе, а иногда, чтобы зашибить побольше, не выходил из шахты по двадцать четыре часа без перерыва.
Ему необходимо было выпить и побыть рядом с Долорес Колке, которая наверняка сидит сейчас, принарядившись, в какой-нибудь чичерии возле железнодорожной станции вместе со своим мужем Мариано.
В конце концов Тахуара разрешил свои экономические проблемы, заложив в магазине поселка заборную книжку из рудничной лавки в обмен на две бутылки спирта.
На руднике и обогатительной фабрике было пусто. А в деревне кипело веселье. Черепные коробки домов ожили. Казалось, будто сотни пьяных червей вылезают из пустых глазниц, расползаются по улочкам, извиваясь, спускаются вниз по тропинкам. Куда ни глянь, повсюду только пьяные пеоны.
У порогов домов и в песчаных оврагах валялись спящие индейцы с бутылкой в руках. Под палящим солнцем пуны высыхала слюна, стекающая у них изо рта.
Шел второй день пьяной гульбы. Звон гитар и крики женщин перемежались ритмичным уханьем насоса, доносившимся из глубин Пулакайо.
Вверх и вниз по горным склонам, по улицам деревни неустанно сновали пестрые толпы индейцев. В чичерии на улице Президента Арсе сидела в дым пьяная компания рудокопов в расшитых куртках и женщин в ярких юбках. Тахуара, еле ворочая, языком, пытался что-то втолковать Долорес Колке, неподвижной, как идол. Они пили разведенный водой спирт.
Мариано Колке ударил свою жену, Сиско Тахуара хотел ударить за это Колке, но тот уже свалился сам и, забившись в угол, захрапел на залитом чичей полу. Кругом отплясывали какой-то мрачный танец индейцы. Долорес плакала.
Прошли долгие часы. Издали доносился шум насоса. Уже стемнело, когда все трое, пройдя через деревню, стали карабкаться вверх по тропинке к своим лачугам. Мариано Колке качался из стороны в сторону, налетал на стены домов, а выйдя из деревни, – на каменистые откосы горы, пока снова не свалился и не заснул.
Долорес нашарила его в темноте и принялась трясти. Она пыталась поставить его на ноги, тащила за волосы, но индеец только рычал в ответ. Сиско поднял упавшее на землю сомбреро индианки и, подтолкнув ее, сказал:
– Брось его. Пошли…
Он ухватил ее за накидку и потащил за собой вверх по тропинке, едва заметной на крутом склоне. Горы тонули во мраке, и пьяный Тахуара не видел ничего, кроме дьявола вожделения в образе Долорес.
Он снова потянул ее за накидку и прижал к себе. Но индианка яростно отбивалась.
– Нет, нет!
Вдруг она крикнула:
– Потом!.. Убей его раньше! Убей!
Теперь уж она схватила Тахуару за куртку и потащила за собой вниз. Тахуара сопротивлялся, они боролись, почти не видя друг друга. Долорес вырвалась и, нащупав на земле камень, бросилась туда, где остался ее муж. Тахуара побежал за ней, споткнулся и упал. Он услышал шум обвалившейся земли, чей-то крик – и заснул, словно окаменел.
На следующее утро из ущелья извлекли труп индианки Долорес. Наверху, рядом с тропинкой, спал Мариано Колке, а чуть подальше – Сиско Тахуара. На похоронах они перепились, обоих доставили в полицию, но через две недели выпустили. Один вернулся к своим печам, а другой – в рудник, на работу под началом Эстрады.
Перед тем как снова спуститься в шахту, Тахуара осенил себя крестом, остановившись перед часовней. Это была пещера в одной из штолен, неподалеку от устья шахты. Там, освещенная светом свечей, разукрашенная бумажными цветами, стояла небольшая статуя святого и принимала поклонение двух слепых, которые молились, сидя на пятках и жуя коку. Они жевали коку в честь святого, так же как по установленному обычаю рудокопы ели и пили вместо святого, который не мог это сделать сам. Рядом со слепцами стоял на коленях Мариано Колке, он просил простить душу его жены – ведь, по его мнению, в пропасть ее толкнул сам дьявол.
Тахуара прошел дальше, в глубь штольни. Рудник снова подчинял его себе, затягивал в свои недра, давил тьмой, словно вся тяжесть горы сосредоточилась в этом тесном пространстве, под сводами туннеля.
Тахуара спустился вместе с Эстрадой и двумя крепильщиками в наклонную штольню, от которой через каждые тридцать метров отходили в стороны боковые штреки. Плотный воздух еще больше сгущался в глубине забоев, и рудокопы задыхались, словно в ночном кошмаре.
В этом мертвом сне земли, безмолвно сжимавшейся при каждом шаге, масляные лампочки казались последним воспоминанием о жизни на вольном воздухе.
– Ну и жара, – произнес Эстрада, чувствуя, что задыхается.
Глубокая штольня тянулась более двух километров, местами сужаясь и чуть не расплющивая рудокопов, местами поднимая свои своды повыше. Люди пробирались ползком по нескончаемой галерее. Навстречу им попался полуголый человек, тоже продвигавшийся ползком.
– Слава деве Марии…
– Без греха зачавшей, – привычно откликнулся Эстрада.
Свет лампочек озарял воспаленные внутренности горы. Люди ползли вперед под брюхом огромного безголового чудовища, задыхаясь в его зловещей тени. Где-то впереди мелькали тусклые огоньки, словно в преддверии далекой затерянной страны.
Там копошились странные существа, казалось, не выходившие из подземелья с незапамятных времен. Хрупкие, обтянутые кожей скелеты бесстрашно проскальзывали внутрь исполинских нагромождений желтого порфира, на которых покоилась земля. В этом фантастическом, скрытом от всех мире меднокожие мертвецы обретали вторую жизнь, отступая в беспросветную окаменевшую тьму, которую они сверлили, припав к шершавой стене. Рудокопы прощупывали израненную толщу огромного горного мира и мерно били обушком, погружаясь с каждым ударом все глубже, как будто обратный путь был им заказан, как будто единственный выход из недр земли лежал через этот дикий каменный лес с переплетенными ветвями, с перекрученной, отвердевшей за миллионы лет листвой, в которой умирали человеческие голоса.
Обнаженные мертвецы спускались в этот потайной склеп тысячи лет. Свет масляных ламп вырывал их из вечной тьмы, и под неверным мерцающим лучом необычными казались цвет, облик, движения этих людей. Зловонный чад горящего масла крался по штольне, а она скалила щербатую пасть, истекая черной кровью металла и желтой кровью серы.
– Ну и жара, – повторил Эстрада.
Так Тахуара проработал бурильщиком целых полгода. Под землей трудно было дышать. Тайные силы теснили рудокопов. Придавленные страхом, заживо погребенные люди двигались медленно, как во сне. Безмолвные, покорные, словно позабыв о прошлой жизни, глядя перед собой невидящими глазами, они мерными ударами пробивали каменную грудь горы. Другие собирали вырубленную породу в мешки и оттаскивали прочь. Долгие часы, дни и годы вырубали они и оттаскивали миллионы тонн земли, под которой были погребены навеки.
Вокруг рта, на землистых лицах этих двуногих кротов расползались зеленые пятна, они жевали коку. Кока – сонное зелье земли для усыпленных подземельем.
У этих наемных мертвецов были сыновья, – они становились подручными. Дети толкали тележки с рудой или перетаскивали на новое место инструменты. Они, как меднокожие эльфы, летали в бадье по стволу шахты, рисовали рожицы на деревянных креплениях, кувыркались среди куч пустой породы.
Часто ребятишки лепили из глины фигурки и ставили их, словно часовых, у входа в заброшенный забой. Фигурки с рогами изображали Тиу, вездесущего подземного злого духа. Тиу шалил в штольнях, вырубая в сводах острые выступы, о которые разбивали головы рудокопы, устраивал обвалы, скрывал жилы, раскачивал тросы, царапался по стенам, высекал на камнях страшные рожи, а главное – похищал души у спящих рудокопов и уносил их в свое темное царство.
В каменных пещерах Таху аре слышался зов злого духа. Темнота обступала индейца со всех сторон. Свет лампочки скользил по мокрому от пота лицу, по обмотанной тряпками голове. Под ногами скрежетали осколки камня.
Вдруг из глубины штрека донесся хруст камней под чьей-то чужой ногой. Тяжелые размеренные шаги звучали все громче, все ближе. Тахуара поднял лампу над головой и увидел огромную черную волосатую морду с длинными ушами. Закричав не своим голосом, он бросился к стволу шахты, ушибаясь то головой, то коленями о каменные выступы.
– Тиу! Тиу!
Услыхав эти вопли, рудокопы впали в панический страх. Все бросились к стволу, крича, чтобы спустили клеть. Прибежали горный мастер с инженером и направились в глубь штольни. Но тут появился кто-то из мальчишек и совершенно спокойно объяснил:
– Да это же слепой мул…
Люди отправились на поиски. Действительно, это оказался мул, возивший вагонетки с рудой. Мулы теряли зрение в постоянной тьме и работали, пока не подыхали тут же в руднике.
– Наверно, прошел по какому-нибудь выработанному ходу…
Но Тахуара не захотел больше оставаться в руднике Пулакайо.
– Как мог спуститься слепой мул сюда в штольню? Не иначе это была душа Долорес.
Тахуара вышел из рудника. Сияло солнце, безоблачное, синее небо смотрело сверху на грязь и мерзость развороченной горы, обогатительной фабрики и деревни. На рудничном дворе, с малышами за спиной, трудились замученные горной болезнью и чахоткой индианки в развевающихся по ветру лохмотьях.
V
Мертвец стоит на страже
«О, господи! – воскликнул он. – Сколько же испанцев послали вы в ад!»
– Сеньор Боттгер, вот я опять пришел…
Старый австриец поднял голову, словно привязанную к лацкану пиджака черным шнурком пенсне. Омонте, заросший бородой, с обветренными скулами и носом, в пончо и сапогах, выглядел заправским рудоискателем.
– А, Сенон, отлично… Я получил твое письмо. Садись, садись. Давненько не виделись! Где же это ты шатался?
– Обошел всю зону Чаянты и вернулся через Унсию.
– И как обстоит дело?
– Руды много… Но нужны деньги.
– Деньги, о да, деньги. А как жена? Как сын?
– Давно их не видел, сеньор…
– Нет, нет, не сеньор. Кум. Забыл разве, что я крестил твоего малыша? Ладно, будешь работать на прежнем месте, у меня.
– Да, дон Арнольдо… кум… спасибо.
Омонте устроился в двух комнатушках вместе со своей женой Антонией Сентено, племянницей дона Диего, и снова приступил к работе в торговом доме Боттгера. Холодными ночами рядом с ним была подруга, она согревала его своим теплом, а он лежал с открытыми глазами, вспоминая и обдумывая свои поиски в горном районе Льяльягуа и особенно на горе Сан-Хуан-дель-Йермо. Там Уачипондо показал ему заброшенную шахту, над которой поднималось жаркое дыхание земли.
В глубокой темноте ночи, вытянувшись на спине, прислушиваясь к вою ветра за окном, он мысленно подсчитывал свои затраты и убытки. Он купил ворованную руду и продал ее по хорошей цене, но… триста боливиано были взяты в долг на покупку рудника в Амайяпампе в компании с подрядчиком Тумири. Неудачное дело. Все пошло прахом.
Двести боливиано истрачены на получение отвода и установление границ участка «Провидение», расположенного между «Монтекристо» и участком Уачипондо; ему не хватило денег, чтобы начать работы, и теперь, если истечет срок, его права на «Провидение» будут объявлены недействительными. Нужны деньги! Семья, сын, служба… Если бы выгорело дело с подрядчиком Тумири… Во тьме бессонной ночи, словно озаренное внезапной вспышкой, перед ним возникло смуглое лицо Тумири с приставшими к губе табачными крошками. Тумири считал полученные от него деньги. Потом внезапно лицо исчезло, и вместо него Омонте увидел кровавое месиво. А вокруг чьи-то беззвучные голоса повторяли: «Мерзлый динамит! Мерзлый динамит!» Триста боливиано погибли, потому что сделка с Тумири была заключена без всяких документов, и когда тот подорвался на мерзлом динамите, все получила вдова: и растерзанный труп, и деньги.
Еще сто боливиано пропали, когда он ходатайствовал об отводе в компании с Рамосом. Как могло случиться, что какой-то Артече, как сообщили ему из Потоси, предъявил более ранние права на этот затерянный в пустыне клочок земли? Зато четыре гектара Уачипондо были вне всяких посягательств. Как только удалось этому индейцу заполучить их именно в том месте, которое сразу приворожило Омонте?
Порывы ветра, проникая под крышу, колебали ситцевый полог. В глубокой темноте Омонте чудились странные очертания двугорбой горы, издали – фиолетовой, вблизи – темно-бронзовой, окруженной вертикальными скалами, над которыми поднимались две ее вершины, два каменных полушария, округлых, как женская грудь. На сто пятьдесят метров ниже вершины среди нагромождения голых скал разверзлась шахта, подобная забытой могиле. Тут был участок Уачипондо: четыре гектара, расположенные вверх от шахты. Рядом с ним и просил Омонте свои пятьдесят гектаров.
Жена повернулась на другой бок и тихо застонала во сне.
Вот все, что он приобрел, с тех пор как ушел из Кочабамбы: жена, ожидавшая второго ребенка, прилавок у сеньора Боттгера, погрузка и выгрузка товаров… Начать работу в руднике… Омонте видел, как взбирается он в гору со своими мулами-и своими индейцами. Видел, как начинают рыть шахту… Но нет… Следовало бы откупить права у Уачипондо и продолжить проходку из той же шахты дальше на север… И постепенно в сумятице вялых, неясных мыслей начало проступать это намерение, как будто подводное течение понесло его в нужном направлении, как будто мысль его была твердой горной породой и он нащупал в ней металлоносную жилу. Да, из шахты Уачипондо, с юга на север…
Он вскочил и отправился на склад.
В заброшенной шахте, на участке Уачипондо… До каких же пор будет терзать его это наваждение, притягивая, словно магнитом, к тем землям, где бродят одержимые рудоискатели?
На складе Боттгера Омонте чувствовал себя как в тюрьме. Он взвешивал и перевешивал руду, воображая, будто она принадлежит ему. Он неустанно вел тяжбу в Потоси за «Провидение» и каждый день заставлял доктора Сенобио Лосу писать жалобы и добиваться получения отвода. Участок могли перехватить, и тогда ему остались бы только четыре гектара Уачипондо.
Об индейце не было ни слуху ни духу.
В душе Омонте какая-то таинственная сила заглушала все голоса, кроме голоса Уачипондо. Жалкая жизнь этого индейца, словно слабый огонек рудничной лампы, была окутана чадным облаком надежд, отравляющих сны Омонте. Он возненавидел свою работу у Боттгера и, колотя кулаком по оцинкованному прилавку, обдумывал один план за другим.
У него было только двести боливиано, вложенные в компанию с Рамосом… Двести… Пятьсот можно одолжить у Боттгера. Если он не получит участка… В самом деле, единственное, что сулит верный успех, – это рудник Уачипондо. Необходимо войти в компанию с индейцем, ведь он только на то и годится, чтобы искать руду. Но куда запропастился этот проклятый индеец?
«Я найму пеонов, раздобуду динамит, продовольствие, деньги. И из шахты мы поведем проходку на север…» Он остановился и поднял голову, чтобы взглянуть на вершину горы, но гора была не здесь, она была далеко, там, за Унсией. Ветер врывался в дверь, неся с собой песчинки, а может быть, и частицы металла. «Куда же запропастился проклятый индеец?»
И в этот момент Северино Уачипондо вместе с другим индейцем появился в дверях склада.
Они сняли войлочные шляпы, оставив на голове лишь повязки, закрывающие уши. Уачипондо был уже стар, его смуглое лицо, безбородое, как у всех индейцев, было иссечено трещинами и морщинами.
– Добрый день, дон Сенон.
– Когда приехал Северино?
– Сейчас только. Всю ночь были в пути.
– Привез руду?
– Вез я ее, да оставил по дороге. Хочу поговорить с доном Арнольдо.
– Его нет. Садись. Почему же ты оставил руду?
Индеец присел на мешок с картошкой. Сенон, выйдя из-за прилавка, уселся на другом мешке. В темных углах просторного склада громоздились горы товаров.
– Трех лам молнией убило, – сказал индеец. – Везли руду, совсем серебряные стали.
– Серебряные? Как так?..
– Молния руду расплавила, – одна лама блестит, как чистое серебро…
– Гм… А на руднике побывал?
– Ай, тата. Побывал!
– Нашел что-нибудь?
– Вот, только это.
Он вытащил из-под пончо шерстяной мешочек и вытряхнул его содержимое на пол. Из мешка выпало несколько камней. Омонте, присев на корточки, оценил их опытным взглядом. Тяжелые камни таинственно поблескивали, словно осколки далекой золотистой звезды.
– Это олово, – сказал Омонте. – Ты нашел?
– Я, с ним вот…
Омонте взглянул на индейца.
– Как тебя зовут?
– Сиско Тахуара, сеньор.
– Ты искал жилу?
– Нет, это все из обломков, там, в шахте. Жилу искать теперь не будем.
– Почему?
– Я раскапывал обломки, зажег лампу, а там мертвец.
– Мертвец, Северино?
– Мертвец. Теперь хочу продать рудник дону Арнольдо. Этот мертвец – сам нечистый. Нечистый дух стережет рудник.
– Не будь дураком! Говорил ты уже с доном Арнольдо?
– Вот хочу говорить. Двести песо я ему должен. Пусть берет рудник. Мертвец наслал молнию на моих лам.
Рамоса не было. Ветер, пригоршнями швыряя песок, барабанил по железной крыше. Омонте, дрожа от волнения, взглянул на индейца, провел языком по пересохшим губам и после долгого молчания произнес другим тоном:
– Простынешь ты. Пойдем пропустим по стаканчику.
Он кликнул одного из служащих, велел ему присмотреть за магазином и вышел вместе с Уачипондо и Тахуарой на унылую, насквозь продуваемую ветром улицу. Какой-то пьяный гринго выкрикивал непонятные речи и мочился против ветра, стоя посреди широкой мостовой. Они зашли в ближайшую пульперию. Хозяйка радостно приветствовала Омонте:
– Где это ты запропал, дон Сенон? Как поживает Антония?
– Помаленьку. Подай-ка нам агуардьенте.
Они устроились в углу, усевшись перед низким столиком на скамье, накрытой плюшевым покрывалом.
– Ваше здоровье, – начал Омонте. – Так сколько ты должен сеньору Боттгеру?
– Двести песо.
– И расплатиться не можешь?
– Вот хочу рудником расплатиться.
– Ладно, выпей еще глоточек, – холодно. Знаешь ли?.. Дону Арнольдо не нужны рудники. Продай его мне. Ты говоришь двести? Я дам двести двадцать. Идет? Он все равно потребует с тебя деньги. Да еще может в тюрьму посадить.
Индеец промолчал.
– Выпей-ка. Твое здоровье. Я тебе дам двадцать боливиано, а двести выплачу дону Арнольдо: вот и будет двести двадцать. А если ты продашь ему за двести, у тебя ничего не останется. Понял? Ну-ка, покажи мне свои бумаги.
Индеец извлек из-под пончо грязный сверток, увязанный в тряпку. Бумаги были в порядке.
– Выпей еще стаканчик. Сейчас мы пойдем, я возьму дома двадцать боливиано и дам тебе. Хорошо? На что тебе этот рудник с мертвецом? Пей, пей!
– Ладно, только дай мне тридцать.
Когда Уачипондо и Тахуара вышли с Омонте на улицу, оба индейца были пьяны. Борясь с ведром, они добрались до дома адвоката. Тот сидел в своей конторе за письменным столом, лицом к двери, выходившей прямо на улицу.
– Доктор Лоса, составьте-ка быстренько купчую, а то индейцу завтра утром нужно отправляться дальше.
Они подписали акт о передаче прав. Надо было еще забежать к нотариусу, в другую лачугу. Омонте торопливо шагал, без умолку разговаривая с Уачипондо, который едва поспевал за ним.
– Теперь все в порядке. Когда я начну работы, будешь помогать мне со своими ламами. Тахуару я возьму с собой. Ничего не говори дону Арнольдо. Я ему уплачу. Рамосу тоже ни слова. Я хочу устроить ему сюрприз, – соединю оба рудника. Рудник с мертвецом в шахте! Ах ты, продувной индеец.
Пришлось дать пять песо нотариусу и два – писцу.
– Теперь распишись здесь. Умеешь расписываться?
– Да, умею. А деньги?
– Вот, держи. Здесь двадцать песо. Я обязался уплатить долг в двести песо сеньору Боттгеру. Все будет сделано…
Северино Уачипондо пересчитал монеты по реалу и увязал их в грязный платок. Он вернулся к своим ламам и снова погнал их через красновато-серую пампу, поросшую жесткой травой. Крохотный караван затерялся в беспредельном пространстве, на пути к далеким горам, поднимающим крутые вершины к самому небу. Так шагал Уачипондо за своими ламами из Унспи в Уйюни, из Уйюнн в Потоси, где через несколько лет умер в больнице.
Под подушкой у него нашли мешочек с темными камешками, отливающими звездным блеском.
Земля стремилась к небу, вздымая одну над другой горные вершины, лиловые и округлые издали, а вблизи – красноватые и обрывистые. Горы поглотили равнину; повсюду, куда ни глянь, возникали новые красно-желтые хребты геологических напластований. Плавными волнами разбегались однообразные, сглаженные ветром косогоры, и вдруг среди мягких осадочных пород грозно поднимался из самых глубин земли скалистый утес. Ломая гибкую линию холодных спокойных гор, острые скалы в своем головокружительном взлете вонзались в черные тучи.
Земля и небо спали вечным каменным сном, а невидимый неустанный ветер свистел над домами Унсии, налетал на гору Сан-Хуан-дель-Иермо.
Омонте прибыл сюда с пятью пеонами. Один из них был Сиско Тахуара; двое пришли с женами. Часть поклажи они тащили за спиной: динамит, рудничные лампы, запальные шнуры, запас вяленого мяса, соли, крахмала, муки, спирта, сигарет и спичек. Кроме того, на лам были навьючены котлы, кайлы, буры, топливо и четыре длинных шеста. Вместо постелей – овечьи шкуры. Все – и Омонте и пеоны – были в одинаковых пончо.
– Динамит хранить на брюхе, – приказал Омонте.
Но индейцы и сами знали, что, если хочешь избежать взрыва от малейшего удара, следует держать динамит в тепле, между рубахой и животом.
– Теперь надо отрыть в горе место для лагеря, – продолжал он.
Но индейцы уже сами принялись копать прямоугольную пещеру рядом с входом в шахту и пристраивать к ней стену, укладывая камень к камню. Крышу смастерили из деревянных жердей, покрыв их соломой.
Они выстроили два жилья: в одном на овечьих шкурах спали трое индейцев и две женщины, в другом, тоже на овечьих шкурах, Омонте и еще двое индейцев. Всех их заедали вши.