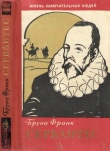Текст книги "Металл дьявола"
Автор книги: Аугусто Сеспедес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Сенон почувствовал себя несколько уязвленным, но все же расстались они дружески. Сеньор Морато отправился завтракать в харчевню на улице Калама, а Омонте – проведать ослов и мулов, на которых привезли они товар с фермы.
Поблизости от хлебного рынка под эвкалиптами стояли прибывшие со всей округи мулы, отмахиваясь хвостами от роя мух, а рядом, примостившись на кучах гуано, сидели и лежали стерегущие их погонщики. На углу бродячие стряпухи зазывали покупателей, накладывая остро пахнувшую еду на глиняные тарелки. Омонте, а с ним бывший смотритель рынков и двое молодых барышников, Ариспе и Хордан, позавтракали у одного из лотков. Пачкая пальцы в красном соусе, они хватали руками куски цыпленка и картофеля. Их выкрашенные соусом губы казались распухшими. Из стоявшего в холодке кувшина торговка наливала им чичу в тыквенную посудину, и сотрапезники опорожняли ее одним махом.
Омонте, который нынешним утром заполучил свой собственный барыш, сверх того, что причиталось дяде, заплатил за четыре порции цыпленка и чичу восемь реалов. Тогда Ариспе и Хордан предложили выпить еще по глоточку в одной отличной чичерии[8].
– Там чича что надо!
В чичерии, где непрерывно сменялись шумные посетители, они уселись на скамью и принялись опустошать стакан за стаканом, беседуя на кечуа вперемежку с испанским.
Оба барышника побывали в Оруро.
– Там черепицы и не увидишь!.. Все крыши железные. И деревьев нету. Пять дней карабкаешься в гору и приходишь в голую пампу. Ни деревца. А холод какой!
– Большой город Оруро?
– О, большой и красивый! Полно всяких гринго[9]. И еще железная дорога… Железная дорога… это, как бы вам объяснить… Похоже на длинную, длинную черную змею. Видали бы вы, как она мчится, выпуская то черный, то белый дым! А там, внутри полно людей, и все смотрят в окна.
Омонте и бывший смотритель слушали, раскрыв рты.
Ариспе решительно подтвердил:
– Да, так оно и есть. Двадцать, тридцать вагонов, и тащит их паровоз. А в вагонах, ну и ну! Сидят за столами гринго, угощаются не хуже чем в ресторане и сосут свои трубки. Едут все из Чили на рудники.
– На рудниках, – добавил Хордан, – в ходу одно золото. Ассигнации они просто рвут. А во время карнавала швыряют деньги пригоршнями на улицу.
– И только гринго могут ездить по железной дороге? – спросил смотритель.
– Не будь дураком, – откликнулся Омонте. – Есть у тебя деньги – поезжай, как любой другой.
– Правильно, – подтвердил Ариспе. – Покупаешь билет, а когда поезд уже тронулся, приходит контролер и проверяет билеты. Если не купил, тебя выбросят на ходу, им наплевать, что голову себе разобьешь.
Они спросили еще кувшин. Еду здесь давали бесплатно, платить нужно было только за выпивку. Потом смотритель, взяв гитару, стал наигрывать какую-то однообразную мелодию, и Омонте сам не заметил, как заснул.
Проснулся он от града сыпавшихся на него ударов и увидел над собой как бы спустившееся с потолка лицо дяди Никасио. Дядя вытащил его за шиворот на улицу и, дав ему хорошего пинка, заорал:
– Пьяница проклятый! Мула украли! Ищи мула, так тебя и так!
Он порывался дать ему еще пинка, но Омонте, проснувшись окончательно, надвинул шляпу на самые брови и заявил:
– Хватит, дядя! Я вам не слуга. Обращайтесь со мной как следует.
Изрядно выпивший дон Никасио слегка опешил, но все же продолжал свои гневные обличения:
– Знаешь, что кругом вор на воре, и напиваешься!
На обезлюдевшей рыночной площади стояли только вьючные мулы сеньора Морато, но одного не хватало. Сеньор Морато, который уже отколотил индейца, сторожившего животных, снова отвесил ему две оплеухи. Омонте вскочил в седло и отправился на поиски. День склонялся к вечеру. По дорогам, поднимая клубы голубой пыли, разъезжались из города крестьяне и фермеры, кто на лошади, кто на муле, кто на осле, рассыпаясь, словно разноцветное конфетти, по огромной равнине.
Мула как не бывало. Дон Никасио пустил свою лошадь быстрой рысью по дороге к ферме. Омонте трусил вслед вместе с индейцем, подгонявшим ослов, как вдруг за поворотом дороги, среди пустынных полей с кое-где разбросанными деревьями, он заметил двух медленно бредущих расседланных мулов. Омонте велел индейцу подвести караван поближе к этим мулам, а потом, как бы невзначай, погнал их вместе со своими. Когда<они прибыли на ферму дона Никасио, у них оказалось не меньше одним мулом, а больше.
Поразмыслив, Омонте вручил одного из приблудных мулов дону Никасио взамен утерянного. Другого он укрыл в коррале у знакомого индейца и через две недели, уничтожив старое тавро и выкрасив мулу шерсть, продал его на ярмарке в Клисе, а деньги припрятал.
Жаркое дыхание чувственности разливалось вокруг, оно сгущалось, уплотнялось, неотвязное, прилипчивое, как мухи на стенах дома. А за окном воздух, напоенный запахом люцерны, дрожал от ржания молодых жеребцов. По ночам пьяные песни вдребезги разбивали хрупкое безмолвие улиц.
Весной и летом все исходили потом. Воды было мало, еле хватало для питья, эту воду индейские ребятишки, молодые индианки и слуги-индейцы набирали в большие глиняные кувшины, окружая, словно пчелиный рой, еще не совсем иссякшие городские колонки на перекрестках. Там не умолкала разноголосая перебранка на кечуа и споры из-за очереди подставить кувшин под кран. То и дело вспыхивали драки; вода, проливаясь из кувшинов, из крана, лужами стояла на мостовой.
Но вот наступило время дождей.
– Пошли на реку, Сенон!
– Пошли на реку…
То был великий праздник. Река Роча, огибавшая город, несла свои бурные полые воды. Порой она выходила из берегов и затопляла город, а люди затопляли берег и плескались в больших грязных лужах. Райскими теплыми вечерами Омонте бродил вдоль реки. Под прибрежными ивами стояли нагие мужчины и, прикрывшись руками, не сводили глаз с женщин, входящих в воду под защитой простыни, которую потом подхватывали с берега подружки. Купальщики, взмахнув руками, тоже прыгали в поток, испещренный пятнами света и тени.
Полуголые мужчины, в рубашках чуть ниже пояса, бродили между деревьями в тенистых местах, пытаясь хоть на мгновение увидеть обнаженные женские груди и бедра. Стайки подростков, возбужденные ласковыми прикосновениями теплого ветерка и зрелищем женских тел, мелькающих среди листвы и в воде, блуждали вокруг с ошалелым видом.
Среди зеленых кустов пестрели, словно цветы, зонтики креолок. Важно выступала под зонтиком, вся в черном, донья Клотильда Обандо, старая дева, сестра дона Клементе Обандо, ведя за собой его малышей, Хесуситу – квартеронку, со свежим, как спелый плод, личиком в рамке черных волос, приемыша семьи, – и целую ватагу прислуживающих индианок. Они расположились в укромном местечке на берегу, защищенном ивами и зарослями тростника. Старая дева руководила купаньем, в котором принимали участие все, кроме нее самой.
– Прикройся, бесстыдница!
Пока Хесусита раздевалась, порыв ветра высоко поднял ее рубашку. И Омонте, спрятавшись вместе с дружками в тростниках, увидел розовые ягодицы этой нимфы равнин.
Не одно жаркое лето прошло под навесами крыш, над зеленеющей на улицах травой. Прошли теплые зимы. Сенон вырос. Он теперь доставлял сельскохозяйственные продукты торговым фирмам, которые перепродавали их в Оруро. Кроме того, он приобрел немалую судебную практику, следя за тяжбами вместо стареющего дяди Никасио.
Парусиновую блузу сменил костюм из черного кашемира, а вдобавок появилась соломенная шляпа и оранжевые ботинки, поскрипывающие при каждом шаге. Однажды Омонте встретил на углу возле клуба своего брата Хоакина, но тот притворился, будто не видит его, и оживленно заговорил с какими-то «приличными молодыми людьми».
А эти приличные молодые люди заводили ссоры с чоло[10] из-за какой-нибудь чолы в чичерии. В те времена больше других славилась чичерия Тустун-сики; эта чола в молодости была любовницей полковника Лосады, расстрелянного по приказу Мельгарехо[11].
Как-то Омонте пришел туда, а с ним его дружки: Тринидад Кирога, некий Немесио Кадима, у которого деньги водились не часто, Хуску-пунью да еще Росон-сими, корый отрастил завлекательные усики, играл на гитаре и пел фальцетом.
Миновав покрытый лужами дворик, они вошли в небольшой зал. Вдоль стен выстроились деревянные скамьи, застланные плюшевыми одеялами, диван и пианино; с потолка свисали пропыленные цепи из разноцветной бумаги; главным украшением были литографии: боливийский герб, Боливар Освободитель и генерал Камачо[12]. Оба героя казались конопатыми, так их засидели мухи.
В чичерии собрались несколько кабальеро, они пили чичу. Один из них плясал куэку под звуки пианино, помахивая красным платком над головой Хосефы, а ее муаровые юбки вращались словно пестрый волчок. Прекрасную черноокую чолу завистницы прозвали «вшивой танцоркой».
– Она ужасная гордячка, – объяснил Кадима, – ведь она незаконная дочь доктора Устареса и его кухарки.
Хосефа и правда гордилась своим происхождением и поэтому «имела дело» только с кабальеро и презирала полукровок.
Кабальеро и пузатые ремесленники объединились, разгоряченные винными парами и зачарованные пением Росон-сими. Омонте подобрался поближе к красотке и обратился к ней с каким-то комплиментом, но в ответ получил лишь презрительную гримасу и дерзкие слова:
– Ха, дон Безродный! Что это вам вздумалось?
Дом семьи Обандо на улице Санто-Доминго был двухэтажный, с дверьми величественными, как ворота феодального замка. Перед подъездом стояла карета с опущенным дышлом, наглядно свидетельствуя о высоком положении своих владельцев.
Ближе к вечеру из задней двери барского дома быстрым шагом выходила Хесусита в наброшенной на голову черной шали, выставив туго обтянутую лифом грудь. В сопровождении служанки, которая несла за ней плетеную корзину, она пробегала полквартала и на углу сворачивала к пульперии[13], где покупала хлеб и керосин. Донья Клотильда следила за ней с балкона.
Но когда девушка скрывалась за углом, донья Клотильда уже не могла видеть, как поджидавший Хесуситу Омонте преграждал ей путь, а она, пытаясь ускользнуть от него, сходила с тротуара на мостовую. Пуская в ход и руки, и лукавые взгляды, и полуулыбки, Сенон старался удержать ее.
– Нет, нет… Оставьте меня. Могут сказать сеньору… А сеньора на балконе…
Иной раз Хесусита сопровождала слугу-индейца к колонке, чтобы защитить его право на очередь, которую, пользуясь его тупостью, у него частенько отнимали. Колонка была местом «девичьей погибели» – пока девушки стерегли очередь, местные сатиры осыпали их непристойными шуточками.
На уговоры Хесусита сдалась ровно через месяц. В девять часов вечера, блистая, как всегда, здоровьем, раскрасневшись от смущения, она стояла под спасительной сенью ворот, куда не. проникал с улицы свет городского фонаря, – встречая Омонте, который крался, как волк, прячась за великолепной каретой, мирно дремавшей перед домом.
Подталкивая Хесуситу, он проник через полуоткрытую боковую дверь в дом, и как бедняжка ни сопротивлялась, в конце концов она была побеждена. В коридоре, совсем темном из-за развесистого дерева, затенявшего окно, Хесусита отбивалась, шепотом уговаривая Омонте и, наверно, еще ярче разгораясь стыдливым румянцем, но он ничего не видел, он только на ощупь мог ощутить жар, исходящий от кожи юной самочки.
На углу у дома Обандо Сенон заколебался. Ему надо было сегодня же вечером выполнить наказ дяди, вручившего ему двести боливиано[14] для уплаты долга. Но его беспокоило, что Хесусита, после нескольких месяцев пылкой любви, вдруг перестала выходить на свидания. Днем она тоже нигде не появлялась. Омонте в нерешительности помедлил и прошелся несколько раз перед домом. На верхнем балконе ему почудилась внушительная фигура почтенного кабальеро. Убоявшись, он обогнул квартал и притаился на углу. Все было спокойно, и он снова направился к дому.
И тут в дверях появилась Хесусита! Омонте в восторге бросился к ней, хотя девушка делала ему какие-то знаки. Он был уже совсем рядом, как вдруг Хесусита исчезла, и вместо нее чудом возник сам Обандо-отец, а за его спиной – Обандо, старший сын.
Омонте понял, что попал в засаду.
Он круто повернул кругом и ускорил шаг, но оба кабальеро бросились вдогонку.
– Эй, чоло вонючий! Стой, сукин сын!
Омонте остановился и решил встретить опасность лицом к лицу. Сеньор Обандо, с ощетинившимися от ярости усами, грозил ему палкой. Их немедленно окружила кольцом толпа индейцев. Схватив Омонте за лацкан пиджака, старый Обандо кричал:
– А, пащенок! Я научу тебя, как оскорблять мой дом! Да я тебя ногами затопчу!
Он не затоптал его ногами, но раза два стукнул палкой. Отвечать тем же такому знатному сеньору было невозможно, и Омонте, растолкав индейцев, пустился наутек, преследуемый Обандо-сыном, который награждал его пинками в зад и громко кричал:
– Хватайте его! Хватайте!..
Крики и топот становились все громче… К счастью, преследователь, оступившись, упал в яму. Омонте свернул за угол и убежал, оставив на поле битвы шляпу, которую отец и сын Обандо унесли в качестве военного трофея.
Весь в поту, едва отдышавшись, Омонте отправился уплатить долг дона Никасио, как вдруг на пустынной улочке, озаренной бледным светом, лившимся из окоп чичерии Тустун-сики, он столкнулся с Хуску-пунью и Кадимой, беспечно наигрывающими один на гитаре, другой на чаранго[15]. Дружки затащили его в чичерию. Несколько веселых чол, среди которых выделялась красавица Хосефа, праздновали день рождения ее брата. В углу компания пьяных пыталась успокоить какого-то здоровенного кривого сапожника, а тот орал во все горло, рассуждая на отвлеченные темы.
Кадима запел, аккомпанируя себе на гитаре:
Я почти в тебя влюбился,
и почти влюбилась ты,
на тебе почти женился,
слава богу, лишь почти.
Омонте все больше возбуждался и от выпитой чичи, и от мыслей о полученной трепке. Вдруг он вспомнил о двух сотнях боливиано дяди Никасио. Он вытащил из кармана двадцать.
– Два кувшина чичи, – сказал он громко, чтобы его услыхала Хосефа, и расплатился.
Кадима тут же воспользовался случаем и попросил у Омонте двадцать боливиано в долг. Делать было нечего, пришлось дать.
Кривой сапожник хриплым голосом выкрикивал здравицы в честь Алонсо[16], но, не встречая поддержки, полез с кулаками на Кадиму, продолжая орать:
– Да здравствует Алонсо, говорят тебе! Да здравствует Алонсо, черт побери!
Однако Кадима был либералом и тоже не ударил лицом в грязь.
– Да здравствует Пандо[17], так-перетак! – крикнул он.
Ударом кулака сапожник уложил пандиста на скамью. Чолы с визгом заметались по комнате, их юбки кружились разноцветным вихрем. Сапожник, в свою очередь, рухнул под кулаком Омонте, но был настолько пьян, что тут же заснул подле своего кувшина.
Захмелевшая Хосефа вступилась за свалившегося на пол сапожника, внезапно почувствовав ненависть к Сенону. Из ее прелестного ротика вырывались пронзительные вопли:
– Вот всегда так! Всегда лезет не в свое дело этот нахал чумазый!
Сенон возмутился, уловив отвращение в глазах красавицы, и крикнул:
– Эй, ты! Заткнись, вшивая красотка!
Вся вспыхнув, Хосефа так и затряслась от гнева, даже подвески зазвенели у нее в ушах.
– Что ты сказал? Что вы сказали?
Сдвинув набекрень шляпу, уперев одну руку в бок, а другой схватив стакан с чичей, она выступила вперед и, подойдя к Сенону, – бац! – выплеснула ему всю чичу в лицо.
В тот же миг вскочил брат Хосефы, грозя кулаками и крича во всю глотку:
– Это кто здесь вшивый, сукин ты сын! Кто?
Не дожидаясь ответа, он ударил Омонте ногой в живот, а потом пустил в ход и кулаки. Захваченный врасплох, Омонте попятился в дальний угол. Из общего шума вырывались пронзительные вопли женщин.
Омонте утер нос тыльной стороной руки и подошел к обидчику.
– Эй, ты, ублюдок, это был предательский удар. Выходи на улицу, если ты мужчина!
– Вот и выйду!
Толкаясь и крича, все высыпали на улицу, едва освещенную падавшим из окон светом. Противники встали лицом к лицу, и завязалась драка. Они то колотили друг друга ногами, то, хрипя и задыхаясь, сплетались в один клубок, то, расцепившись, снова дрались ногами. Но вот Омонте оступился и упал на землю под зарешеченным окном. Его противник изо всех сил ударил его два раза ногой в бок.
– Не бей лежачего, свинья!
Омонте увидел над собой Кадиму – он отбивался от чол, грозивших ему зажатыми в кулаках камнями. Омонте удалось встать. Цепляясь рукой за решетку, он нанес своему врагу страшный удар ногой в пах.
Чоло захрипел и свалился как подкошенный.
Из чичерии притащили свечу. В лучах бледного света желтое лицо чоло стало страшно.
– Видать, кончился! Помогите!
– Иисус, Мария и святой Иосиф! Помогите!
Хосефа вцепилась в куртку Сенона, она охрипла от крика и могла только шептать:
– Убийца, убийца…
Кадима отшвырнул ее в сторону.
– Беги, беги!.. – крикнул он Сенону. – Скорее, туда…
Уже слышались свистки полицейских и топот копыт конного патруля.
– Сюда, сюда, братец… Удружил ты красавчику. Ему больница, а тебе тюрьма, дело верное.
Омонте, обливаясь потом и кровью, в перепачканной рубашке и изодранной куртке, помчался по улице, свернул на другую и вскоре очутился в доме дона Никасио.
Он зажег свечу и произвел учет своего личного имущества и своих потерь. Жалко было порванной одежды, потерянной шляпы и растраченных сорока боливиано из дядиных денег. Однако он быстро сообразил: «Тюрьма – что за сорок, что за двести. А потом, сам-то он хорош, сундучок с серебром зацапал…»
Кочабамба – чистая, ясноокая женщина на ложе из зеленой люцерны. Безмятежная, неизменная и ласковая, как мать.
Оруро влечет к себе, как разукрашенная порочная девка… Оруро… Оруро…
Сенон Омонте купил в магазине Гердеса кожаные гетры, переметные сумы, несколько коробок сардин, шарф, шляпу, непромокаемое пончо, перочинный нож (все это его брат Хосе-Пепе уступил ему по своей цене) и на третий день после происшествия, ранним утром уселся на мула и с погонщиками каравана, везущего резину, отправился в Оруро.
Взошло солнце, и Тунари, голубая гора с белой шапкой на вершине, увидела, как он едет вдоль ее склонов, а вокруг волнуется море зеленой листвы и распевают январские птицы.
III
Горная богиня
В этом году (1575), исследуя богатейшую жилу рудника «Сентено» и углубляя одну из его шахт, в ста сорока эстадо [18] от поверхности земли нашли статую ростом в одну и три четверти вары [19] , отлитую из различных металлов. Лицо ее было прекрасно, хотя глаза почти не выделялись, и сделано оно было из серебряного блеска; тело до пояса – из светлой красной руды; руки – из разных сплавов; ног у нее не было, и, начиная от пояса, она становилась все уже, заканчиваясь острым зубцом; эта часть вся была из черного серебра.
На Боливийском нагорье земля раскинулась широко, словно небо. Вдали от океана, вдали от всего мира начинаются они, и небо и земля, – на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря и идут дальше, за линию горизонта, теряясь в безграничном пространстве, где волнистая пампа переходит в нескончаемое нагромождение вершин и сливается с необъятным голубым простором.
Земля, поднимаясь к небу бесчисленными ступенями, вздымается, низвергается, снова идет вверх, проваливается, собирается в складки, создает стада гор, – и все не может достичь горизонта. А там, по всему боливийскому Западу, раскинулись в дикой геологической наготе Кордильеры, словно земля другой планеты, соединенная с нагорьем силой притяжения, дождями и ветром, но хранящая в своих космических громадах безмолвное воспоминание о далеких породивших ее звездах.
В недрах этого застывшего океана, под островерхими волнами горных цепей, затаилась Богиня металлов. Богиня или колдунья?.. Что хранит она: серебро, золото, медь или олово?
Это непостижимое существо растет из самого сердца планеты. Его некогда однородная материя претерпела немало изменений, пробиваясь сквозь трещины в скалах, где были заперты неистовые атомы, рвущиеся на свободу из каменной темницы, подобно слепой подземной туманности, которая стремится выйти вновь на потерянную орбиту.
В бездонной глубине злая колдунья обдирала свое огромное тело, проползая между порфировыми колоннами, по базальтовым переходам подземелья, срываясь с крутых выступов, падая на сланцы и песчаник, карабкаясь по гранитным плитам туда, туда – к самой поверхности земли, чтобы подстеречь искателя руды, живого человека, который бродит среди мертвой неподвижности окаменевшего мира.
К ее владениям ведут невидимые пути по твердой земле нагорья, по жесткой траве, исцарапавшей ноги холодному ветру. Бескрайняя пустыня, бесплодная горная степь и сфинксы вершин стерегут в каменном кругу нерушимое безлюдье царства колдуньи.
На поверхности земли правит добрая богиня Пача-мама – разливая волны прозрачного воздуха, она одевает горы зеленью и багрянцем. А в глубине таится зловещая богиня горного мира, коварная и лицемерная. Она ненавидит солнце и губит души людей. Она питается кровью. Она не знает любви, но владеет тайной сочетания атомов и творит металлы.
Грудь ее сделана из серебра, соски из светлой руды цвета топаза. Однажды в начале 1545 года индеец Уанка разбудил ее в недрах холодной горы Потоси, и целых три века серебро в его природных формах: роговое, черное, светлая красная руда, серебряный блеск, самородки; серебро, превращенное потом в монеты, драгоценности, фигурки, церковную утварь, алтари, – целых три века это серебро било ключом из груди богини и, поднимаясь по пяти тысячам шахт горы Потоси, шло на потребу Испанской империи в обмен на кровь восьми миллионов индейцев, принесенных в жертву Жаждущей богине.
Голова ее – из золота. Огненно-рыжие волосы разметались среди вулканических гор, ниспадая косами на зеленое ложе долины, извиваясь в реках, омывающих тропические леса Боливии. С незапамятных времен инки вырывали у богини ее золотые волосы и воздвигали алтари богу Солнца, своим поклонением. платя выкуп за подземный золотой огонь. Но испанские конкистадоры возродили другой, не менее древний, роковой культ; они воздвигли своим богам алтари из сплава золота и крови, а золотое солнце храма Инти[20] разыграли в кости.
Сыны Солнца выгнали испанских пришельцев. Колдунья уснула, забытая всеми, и тысячи шахт зияли, как раны, в вечном камне. Но вот и метисы познали злые чары израненных темных глубин, где спят неистощимые богатства чародейки, где скрыты ее золотые глаза, ее руки из сурьмы, ее бока из меди и живот из олова. Белый дьявол нового поколения метисов ринулся на поиски сокровищ и, подчиняясь адской власти, принес в жертву богине индейцев, ибо коварной нужны человеческая кровь и плоть, чтобы поставлять металл промышленности, а души – сатане.
Жадные люди надеются покорить ее, усыпив заклинаниями.
Они наделяют ее поэтическими эпитетами: «Желанная», «Сулящая надежду», «Вожделенная», «Вновь обретенная», «Приносящая счастье», «Чудесная».
Расточают ей хвалы: «Сказочная», «Посланница судьбы», «Прекрасная», «Спасительница».
Дают ей имена великих женщин и святых: «Мария Пресветлая», «Принцесса Кристина», «Бланка», «Святая Роса», «Пресвятая Мария Златохранительница».
А иной раз и оскорбляют, желая отомстить: «Шлюха», «Вонючка».
Мрачная горная богиня – таинственная, лишенная измерения и формы, жадная и тоскующая – пускает в ход силы своей подземной власти, стремясь погубить человека, это странное, непонятное ей существо. Разметавшись в глубине, она разрушает штольни и убивает рудокопов или отравляет их своим ядовитым дыханием, несущим чахотку и силикоз.
Скованная беспросветной тьмой, она живет во мраке, призывая себе на помощь честолюбие, капитал и болезни.
Что же хранит она – золото, серебро, олово?..
Так это и есть Оруро? Ни деревца, ни травинки. Холодная обрывистая гора, подобно идолу, высится над домами. Дома по большей части одноэтажные, крытые соломой, с дверьми, похожими на беззубый рот, и выпяченными застекленными балкончиками, так называемыми «фонарями». Встречаются и крыши из оцинкованного железа, ветер скользит по ним, завывая, и от этого воя сердце леденеет, как холодное железо.
Закутанные люди с красными от ветра глазами; навьюченные ламы, обросшие густой шерстью и гордо несущие на длинной шее маленькую головку с глазищами из черного алмаза; грязные отели, забитые белыми и метисами в сапогах, в грубых кожаных и шерстяных куртках или вигоневых пончо; а на пустой, выложенной холодным камнем площади – бар со стеклянной дверью, сквозь которую Омонте рассмотрел блестящие столики, отраженные в зеркалах, и краснорожих гринго, с видом победителей распивающих какие-то странные напитки.
На следующий день он увидел и поезд, прибывший из Антофагасты. Толпы людей, посиневших, с красными носами, кутаясь в шарфы или пончо, встречали его, как никогда не увядающую новость. Гринго, приехавшие на поезде, курили трубки и с презрением белокурых конкистадоров смотрели из окон на этот пораженный удивлением меднокожий сброд. Омонте, дрожа от холода, засунув руки в карманы и приподняв плечи, во все глаза смотрел, как выходят гринго из поезда и в сопровождении слуг, несущих за ними чемоданы, идут сквозь толпу индейцев, а паровоз шумно выбрасывает плотные клубы дыма.
– Сенон, поедешь с нами?
На постоялом дворе для погонщиков и крестьян Сенон занимал одну комнату с Тринидадом Кирогой и Хуанчо Каламой.
– Нет, хочу наняться, в какую-нибудь торговую фирму.
За дверью в коридоре громоздились мешки с зерном и разная упряжь.
– А вы куда завтра?
– Везем грузы на Алантанью, в Поопо!
– Это что, рудник?
– Нет, не рудник, только обогатительная фабрика.
– Обогатительная фабрика?
– Понимаешь, – объяснил Хуанчо Калама, – руду, которую добывают здесь, в ближних рудниках, везут туда, чтобы там ее сделали получше. Разные есть рудники. В нашей стороне «Мариэта», «Канделярия» и «Уануни». А в сторону Чальпаты будет «Унсйя», а еще дальше – «Льяльягуа». По железной дороге можно доехать до Уйюни, а оттуда в Уанчаку, это самое богатое место. Там добывают серебро. Пеоны прячут серебро, как могут, даже засовывают его в себя сзади. А тогда знаешь, что делают хозяева? Ха-ха! У выхода на шахты, вот на такой высоте, установлен горизонтальный брус, и каждого поодиночке заставляют подтянуться на руках и подогнуть ноги. Человек слабеет и… бац! Серебро падает на землю.
Хуанчо и Тринидад отправились в путь. Потом вернулись. Потом снова уехали. Сенон снял комнату в приземистом домишке с соломенной крышей и просторным патио. В доме жили две нарядные чолы; они щеголяли в ярких шелковых юбках, и к ним приходили богатые горнопромышленники выпить и повеселиться, укрывшись от ночного холода, посеребрившего камни, мостовой.
Однажды ночью, томясь в одиночестве, Омонте прислушивался к звону гитары и голосам, доносившимся из комнаты чол. Когда дверь открывалась, он успевал увидеть мужчин в высоких сапогах и женщин, которые пили и танцевали в клубах табачного дыма. Вдруг поднялся шум, веселье прервалось, и какой-то тип выскочил из комнаты, за ним другой, а обе чолы подняли отчаянный крик:
– Он убьет его! Убьет!
Омонте бросился в патио и обхватил преследователя сзади обеими руками, другой тем временем выбежал на улицу.
– Пусти меня! Пусти!
– Сейчас отпущу… сейчас отпущу…
Омонте отпустил его. Их окружили чолы и другие мужчины.
– Ну, ничего, ничего. Пойдем обратно. Вы тоже заходите, сеньор. Выпейте с нами стаканчик. Извините, что не дали вам поспать.
Все вернулись в комнату, и пошла прежняя веселая кутерьма при тусклом свете керосиновой лампы.
За столом спокойно сидел, так и не сдвинувшись с места, широкоплечий белокурый мужчина. Разноцветные кружочки конфетти, прилипшие к усам и запутавшиеся в волосах, несколько смягчали суровое выражение его лица.
– Видели? Видели? Он разбил мне губу!
Белокурый мужчина отмахнулся:
– Пустяки. Ну и задира тот парень. Дайте-ка стакан писко[21]. Это лечится каплей писко снаружи, – намочив платок, он приложил его к ране своего собеседника, – и другой каплей – внутрь. – И, поднеся ему стакан к губам, он заставил выпить его содержимое залпом.
Одна из чол примирительно сказала:
– Его уже здесь нет, он уже далеко. Да и вы все тоже его задирали. Ведь мы у себя не принимаем кого попало… А теперь – ваше здоровье, приятель, и жить вам сто лет.
Другая чола подошла к Омонте.
– Мы вас побеспокоили, молодой человек! Ну вы и силач! Уж вы нас извините. Все мы перехватили немножко, пили за здоровье дона Риго. Выпейте и вы с нами.
Она поднесла ему кружку с пивом. Омонте выпил. Он все время приглядывался к белокурому кабальеро. Не тот ли это, у кого в Карасе свалился в реку золотой мул? Он, он самый! Немного поседел, а усы, как прежде, огненно-рыжие, только отросли подлиннее. Омонте не сводил с него глаз, пока тот не обернулся. Поглаживая рукой усы, он приветливо сказал:
– Угощайтесь, молодой человек. Угощайтесь.
– Благодарствуйте, дон Риго.
Но дон Риго не обратил внимания на попытку Омонте напомнить о себе. Тогда осторожными расспросами Омонте все-таки дознался, что это дон Ригоберто Ренхель (он самый!), скупщик руды. Он праздновал в отеле свой день рождения, вдали от семьи, которая жила в Сукре, потом друзья уговорили его нагрянуть к этим веселым девушкам.
Пьяное веселье возобновилось, кто-то из гостей взял гитару, одна из чол пела, другая – плясала куэку, сначала с доном Риго, потом с Омонте. Обсыпанный конфетти стол ломился от бутылок с вином, писко и пивом.
Проплясав куэку, Омонте подсел к дону Риго.
– Вы, верно, не узнали меня? Нет? Помните Карасу? Дон Риго теребил усы, напрягая память.
– Караса, Караса, да, да… Вы из Карасы? Напомните-ка мне… Я стал немного забывчив…
Омонте, улыбаясь, спросил:
– А помните золотого мула? И тату Морато?
Тут лицо дона Риго просияло, и он с удивлением воскликнул:
– О! Вот оно что! Тот самый паренек, что помог мне выловить ящик. Ну, брат, обними меня. Кто бы мог подумать! Ведь прошло, погоди-ка, прошло не меньше десяти лет. Давайте выпьем за моего старого друга, который стал мужчиной. И даже с усами!
Воспоминания о случае на реке Карасе привели к новым возлияниям. Усевшись с Омонте в уголке, под портретом императора Франца-Иосифа, дон Риго стал рассказывать ему о своей жизни, о своем положении, предлагая работу в Уйюни, но Омонте уже ничего не соображал и только тупо глазел на портрет императора.
Мужчины и женщины то и дело выбегали по нужде во двор. Омонте тоже вышел и почувствовал на лице холодное дыхание ночи. Он увидел женщину, присевшую на корточки; когда она встала, над каменными плитами поднялось облачко пара и растаяло в кристальном воздухе, пронизанном лунным светом. Это зрелище поразило его.
Дон Риго, уже совершенно пьяный, бахвалясь своим положением, хотел послать кого-нибудь со своей визитной карточкой в отель за шампанским, но друзья отговорили его и увели спать.