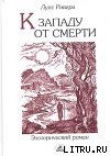Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– У тебя бывают сравнения получше.
– Почему ты такая злая? Из-за того, что я за тебя беспокоюсь?
– Я никогда не была злой. Я только сказала, слава богу, у тебя бывают сравнения получше, чем “бледная, как стена”.
– Мы еще никогда так не разговаривали, – сказал я.
– Потому что ты еще никогда не врал мне в глаза.
Мы замолчали.
– Не сердись, – сказала она. – Закажешь мне еще пива?
– Да. Только давай не будем ссориться.
– Я очень хочу ребенка.
– А я нет, – сказал я.
– По крайней мере, сейчас ты говоришь правду. Сложно?
– Сложно.
– Ничего не придется менять. Ну или почти ничего.
– Все изменится.
– Я хочу только ребенка. Я не хочу, чтобы ты переезжал ко мне.
– Знаю, – сказал я.
– Тогда отчего ты дергаешься?
– Я не хочу больше Вееров, – сказал я.
– Глупости. Он будет не только Веером. Ты и сам не чистый Веер, – сказала она, и дым застрял у меня в легких.
– Перестань! Я не хочу больше Вееров, и точка.
– Понимаю. Не ори.
– Не понимаешь! Никогда, ни от кого! Ни чистого Веера, ни грязного! Поняла?
– Да. Поняла, – сказал она тихо.
На следующий день она получила макет луны и даже обрадовалась подарку. Мы отыскали кратеры, названные в честь венгров, место, где приземлился “Аполлон”, и район, где находилась база Спокойствие. Лунный шар прокатился по ее животу, и по сдвинутым бедрам, обогнул одежду, валяющуюся на ковре, два бокала и тарелку с пирожными, по дороге сбил мандарин, приземлился на двухсотлетней шахматной доске, которую Эстер подарила мне, и закатился между шуршащих упаковок обратно под елку, украшенную свечами и звездами. Он спустился с небес на землю, прямо как я. Впадина Маре Транкуилитатис наполнилась земным потом. Мы замолчали.
– Мне надо идти, – сказал я.
– Тогда иди, – сказала она и поцеловала меня в глаза, ее лицо было бледным, как стена, хотя иногда у меня бывают сравнения получше. Я пошел домой, шлепая по декабрьской вечерней слякоти. В одних окнах ярко горели подсвечники и сверкали рождественские гирлянды, в других одиноко мерцала свечка и ронял блики телевизор. На улице было тихо, только пьяный цыганский скрипач да старушка, выгуливающая собаку, нарушали комендантский час.
– Гдетыбылсынок?
– Уменябылиделамама.
– В это время все дома со своими семьями. Таков обычай.
– Я знаю, поэтому и спешил домой. – Я украсил елочную ветку, поставленную в вазу, тремя стеклянными шариками и тремя большими конфетами в золотой обертке, такими потрепанными, будто их принес Фрици Берек-младший еще в сорок четвертом.
– Пришло письмо от Юдит, мама. Она передала через одного моего знакомого.
– Раньше она никогда ничего не передавала через знакомых, сынок.
– Так получилось. Они случайно встретились в Ницце с Фрици Береком.
– Кто это, сынок?
– Вы его не знаете, мама, – сказал я. Она вытащила карту мира и фломастер, и пока она искала Ниццу, чтобы пометить ее крестиком, я зажег свечи и принес фамильное древо Вееров, которое нарисовал, основываясь на архивных записях Эстер. Мы рассчитывали, что фамильное дерево станет приятным подарком для безумной, но мамино лицо медленно посерело, и я вдруг понял, что для сумасшедших подлинная реальность – это сущий ад. Я понял, она никогда не простит мне, что мы представляем всего-навсего боковую ветвь, и половина дотрианонской Венгрии принадлежит какому-нибудь шестиюродному племяннику.
– Для тебя даже Рождество не свято? Я не позволю себя обокрасть, прими это к сведению! Я знаю, что ты со своей потаскухой хотите меня уничтожить! Сначала натрахаешься, а потом приводишь сюда эту мразь! – закричала она и швырнула в меня рисунок в рамке, словно пригоршню дерьма. И снова я не почувствовал ничего. Я принес веник и совок, чтобы смести туда осколки бокала, разбитого об мой лоб, а потом пойти спать.
– Не дождетесь, – сказала она.
– Никто не хочет вас обокрасть, мама.
– Шакалы! И не думай, я это так не оставлю!
– Я не думаю, мама.
– Я донесу на тебя!
– Пишите, я отнесу на почту, мама.
– Я не буду ничего писать. Я скажу Кадару. Он все устроит.
– Кадар давно умер, мама.
– Да?! Это мы еще посмотрим, – сказала она и по одной стала выбрасывать из шкафа изъеденные молью тряпки, пока не появился черный шелковый костюм. И она начала одеваться. Небытие уже опутывало ее тело своими сетями, словно паук божью коровку. Но даже сейчас пассажиры снова потребовали бы, чтобы седьмой автобус не обгонял Клеопатру, и матери, выходящие из торгового центра “Пионер”, закрывали бы глаза своим детям, и почтенные жены артистов мечтали бы повернуть головы своих мужей к огнеупорному окошечку в крематории, чтобы те потом даже во сне видели, как их курва обугливается в своем шелковом костюме.
– Что вы делаете, мама?
– Тебе на меня насрать, да? Я засажу за подделку документов тебя и твою шалаву, – сказала она, разломала рамку и сунула рисунок себе в карман, чтобы я не уничтожил вещественное доказательство. А когда она накинула на себя каракулевую шубу, у меня в руках задрожал совок, я почувствовал, еще секунда и я задушу ее. Запихну ей в глотку все эти тринадцать лет мучений вместе с фамильным древом Вееров и осколками стекла.
– Не смей! Не смей, ты, сука! – заорал я и, схватив ее за руки, швырнул на кровать. – Не смей, поняла?! – хрипел я, и, пока я сдергивал с нее каракулевую шубу, она хохотала мне в лицо.
На матрасе валялись клочья разорванной луны, словно разбитое яйцо, из которого какое-то дикое животное успело высосать желток. Я оторопело стоял в пустой квартире, и меня вдруг осенило, почему вместо луны с небес она просила у меня младенца, и подумал, что, может быть, еще успею предотвратить неизбежное.
Я по очереди обзвонил больницы и узнал, что она лежит в Кутвелдьи, но, когда я приехал туда, сестра сказала, что из гинекологии ее перевели в неврологическое и посещения только завтра.
– Это моя жена! – заорал я на медсестру прямо в коридоре. – Я тебя урою, если ты меня не пустишь! Я писатель, я тебя по стене размажу, ты, говно вонючее!
Она лежала в четырнадцатой, возле зарешеченного окна, и смотрела на меня, словно сквозь запотевшее стекло, ее руки и ноги были привязаны к кровати.
По маминому опыту я знал, что с помощью коньяка и марочных сигарет можно устроить что угодно, так мне удалось перевести Эстер в отдельную палату. Мне даже разрешили отвязать ремни, но три дня она пролежала неподвижно. Двойня, только и читал я по ее губам, но даже это она говорила не мне, а куда-то в пустоту. Потом успокоительное перестало действовать, она постепенно приходила в себя, в первый день нового года сняли капельницу, и мы, обнявшись, ходили по комнате.
– Давай сядем, – сказал я, потому что у нее дрожали колени.
– Подожди. Еще разок, – сказала она, хотя ноги не держали ее. Мы сделали еще один заход, пять шагов до двери, пять – до окна, затем я взял ее на руки и положил на кровать.
– Не вздумай меня жалеть, – сказала она.
– Я и не думаю, – сказал я.
Она сковырнула пальцем со стены отстающую краску. Отвалился кусочек, она взяла его в рот, потом выплюнула.
– Я забыла, – сказала она. – Представляешь, забыла.
– Что ты забыла? – спросил я.
– Лекарство. Принять лекарство, – сказала она и наконец расплакалась.
Мы стояли в длинных сермяжных одеждах на берегу Дуная, в какой-то заболоченной местности. Вниз по течению плыла лодка, в ней ребенок лет семи-восьми тоже в сермяжной рубашке, с завязанными глазами. Когда она поравнялась с нами, мальчик снял с глаз черный платок и пристально на нас посмотрел. Ни вопроса, ни упрека не было в его взгляде. Он просто посмотрел на нас, потом снова накрыл глаза платком, и лодка поплыла дальше. Она уже исчезла в дымке, как вдруг я понял, что на веслах никого не было. И река перед нами застыла в неподвижности.
Сколько раз я рассказывал Эстер свои сны. До рассвета она лежала рядом со мной, и, если бы кто-то увидел нас в эти часы, подумал бы – вот она, идиллия, но до идиллии было далеко, как до звезд. Это скорее походило на то, как мужчина рассказывает новой любовнице о своих прежних, чтобы успокоить ее, ведь она хочет знать о нем все, и мужчина тут же попадает в ловушку. Сначала вспомнит пару мелких случаев, потом начинает выдумывать и в какой-то момент замечает, что женщина до крови искусала губы и искромсала окурки в пепельнице. Да, наши ночные разговоры очень напоминали обычные мужские рассказы о бывших. Эстер никогда не расспрашивала меня о прежних любовницах, но она цеплялась к моим снам, и несколько лет я думал, что она ревнует к ним из-за мамы. Потом выяснилось, она с таким упоением слушает про них потому, что сама она уже много лет не помнит ни одного своего сна, от этого она словно лишалась половины жизни.
– Вряд ли я когда-нибудь тебе снилась, – сказала она.
– Я специалист узкого профиля. Меня интересуют исключительно кошмары, – сказал я и не стал рассказывать ей сон про лодку и про мальчика, думаю, ей бы не понравилось.
– Когда был первый? – спросил я.
– Не спрашивай, мы договорились, – сказала она.
– Теперь все по-другому. Я должен знать.
– А вот и не по-другому. Все то же самое, понял? То же самое.
– Ради бога, я с ума сойду.
– Успокойся, ты никогда не сойдешь с ума, – сказала она.
– Лучше бы ты дала мне пощечину, было бы не так больно.
– Я тоже никогда не сойду с ума. Теперь лучше?
– Лучше ударь меня, но не молчи, как могила.
– Твои сравнения с каждым разом все ужаснее, – сказала она. – Уйди, прошу тебя.
– Я никуда не уйду. Прежде ты так со мной не разговаривала.
– Как хочу, так и разговариваю, уйди, ради бога.
Я ушел не попрощавшись, но едва я вышел из подъезда, как увидел, что какой-то мужчина спускает со второго этажа рождественскую елку. Сухие хвоинки, кружась, падали в грязь, когда елка приземлилась, женщина, ожидавшая на тротуаре, еще раз окинула взглядом красные станиоли, не осталось ли где конфет, перерезала маникюрными ножницами шпагат, словно пуповину, и бросила елку между двумя припаркованными машинами.
– Скажи детям, пусть принесут веник, – крикнула она мужчине, высунувшемуся из окна.
– Вот еще, – сказал мужчина.
– Я хочу подмести. Пусть эта Дорак не пеняет мне, что я развела тут свинарник.
– Я сброшу веник из окна, – сказал мужчина.
– Не бросай, упадет на машину, и, когда я вошел в подъезд, по лестнице уже летел ребенок с веником под мышкой и в джинсовой ковбойской шляпе на голове, которую ему наверняка принес младенец Иисус, и я расслышал, как мать сказала ему, на вот, возьми, и, полагаю, вложила ему в руку последнюю конфету с елки.
Эстер лежала на матрасе и рыдала, все ее тело тряслось, точно от электрошока.
– Я никогда больше не буду так уходить, – сказал я и лег рядом с ней. Она забралась ко мне под пальто, но даже там в укромной тишине она оставалась безнадежно одинокой, как те, для кого Бог забыл сотворить мир.
– Великолепно, великолепно! Только чуть экспрессивнее, все-таки это Паганини, – сказал преподаватель Вагвелдьи.
– Партитура Паганини, скрипка моя, – сказала Юдит, на что преподаватель попросил, чтобы свои остроумные комментарии она оставила на потом, для журналистов, тогда Юдит взяла инструмент и положила на кафедру. – Пожалуйста, тогда играйте, как я, и кривляйтесь, а я послушаю, – сказала она. Все замерли в оцепенении, Юдит повернулась и вышла из зала. Ее не стали выгонять из музыкального училища, поскольку в этом случае она не смогла бы защищать честь страны в Белграде. И в последний месяц Юдит очень редко заглядывала в училище, потому что занималась по двенадцать часов в сутки. Ноты были для нее чем-то вроде пустоты, оставленной человеческим телом в застывшей лаве, пустоты, которую исполнитель должен заполнить собой. Поэтому она исписывала и изрисовывала партитуру разными значками и пометками. Начало – скорый у Зугло [6]6
Название одного из районов Будапешта.
[Закрыть], мать в агонии (вторая пол.), Греко: кающаяся Магд. – примерно так были исчерканы все ноты за несколько недель до того, как она приступила к репетициям.
– Хватит уже. Ты окочуришься, – сказал я.
– Не сейчас, – сказала она, опустила печенье в стакан с кефиром, положила в рот, затем снова натерла смычок канифолью и начала сначала. Интересно, ей никогда не приходило в голову схитрить, порвать струну и наблюдать потом за произведенным эффектом. Наверное, тем, кто смотрел, как она играет, сперва было скучно глядеть на сцену – исполнительница спокойно стоит, прямая, словно тополь. Но потом зрителям становилось не по себе, им уже хотелось кричать – пусть уж она лучше рухнет. Сломайте ей позвоночник, подрубите ее топором, только пусть не стоит она вот так, сдвинув ноги и закрыв глаза, потому что от этого с ума можно сойти.
Чем яростней мама спрашивала: чтоэтозачушьсынок – и чем сложнее было Эстер находить буквы на пишущей машинке, тем больше я убеждался, что у меня хорошие рассказы, по крайней мере, читая их и пробираясь между строчками моей книги, каждый будет молчать о чем-то своем. Я точно знал, на другое нечего рассчитывать, ведь и я молчу о своем, когда передо мной, скажем, “Борский блокнот” [7]7
Последний цикл стихотворений венгерского поэта Миклоша Радноти, написанный им в концлагере.
[Закрыть], для этого и нужна литература. И все же я переживал из-за моей книги, поскольку литература, с моей точки зрения, – это как пустота, оставшаяся от человеческого тела в Помпее. Каждый волен делать с ней все, что захочет. Он может улечься там голышом, а может залить ее паршивой гипсовой смесью, и протиснуться туда уже будет непросто. А еще, оказывается, нелегко принимать предложения – однажды я получил письмо из издательства, дескать, весной – нет, поскольку изменился бюджет, но осенью – непременно, так как отзывы рецензентов исключительно положительные, дальнейшей приятной работы желает вам редактор Эва Иордан, и у меня было такое чувство, словно откладывается моя казнь. А Эстер, наоборот, пришла в бешенство, словно речь шла о жизни и смерти, а не о книге, она даже собралась идти в издательство, чтобы спросить, чем они думают, и мне еле удалось отговорить ее.
– Ты судишь предвзято, – сказал я.
– Ошибаешься. Меня бесит, что какой-нибудь их собутыльник проспался и закончил наконец свои писульки, и вот нате вам, меняется бюджет. Всегда одно и то же.
– Возможно, и собутыльник, но не уверен, что писульки.
– Именно что писульки.
– Да нет же.
– Молчи. Меня бесит, что в этой стране писателей больше, чем грамотных людей.
– Я тоже не знаю, как правильно, раненный или раненый.
– Не сейчас. Буду тебе очень благодарна, если ты меня обнимешь.
– Насколько благодарна?
– Насколько это возможно, – сказала она. Мы обнялись, и я надел пальто, потому что после Кутвелдьи на большее рассчитывать не приходилось. Помнится, после больницы она хватала ветки на острове Маргит и судорожно обрывала с них почки.
– Я видел картину у старого Розенберга, – сказал я.
– Ага, – сказала она.
– Сегодня пришли деньги от Юдит. Завтра заберу.
– Эта Юдит далеко не дура, – сказала она.
– Что ты сказала?
– Ничего. Просто она все предусмотрела и посылает субсидии за месяц тюремного содержания.
– Если ты ненавидишь маму, это твое право. Юдит оставь.
– Не сердись. Кстати, я нормально отношусь к твоей матери.
– Ты ведь знаешь, что Юдит…
– Конечно. Я сказала не сердись. Какую картину ты видел?
– Не важно. Один пейзаж. Просто понравился.
– Потом покажешь, прежде чем нести домой.
– Я хотел сюда.
– Я отвыкла от них, – сказала она.
– От пейзажей? – спросил я.
– От картин.
– Когда отвыкла?
– Не важно, забудь, – сказала она.
– Конечно, – сказал я и решил, что в детстве ее отодрал какой-нибудь стареющий кобель, высокохудожественный папочка, который проткнул ее из последних мужских сил и бросил привязанной ремнями к больничной кровати, чтобы они спокойно могли довершить выскабливание матки и шоковую терапию. Когда тебе за шестьдесят, несказанная удача, если появляется малолетка, для которой как откровение даже отрыжка и которая часами готова возиться с твоей дряблой писькой. Только не будем выказывать лишних восторгов, если юная нахалка вздумает отелиться. “Я не переношу вони, золотко мое, даже от скипидара. Мне совершенно ни к чему сраные пеленки, поэтому вот тебе две тысячи форинтов и устрой все. Что, а я там зачем? В конце концов, ты большая девочка. Да я и не успею, зато на выставке в Эрнсте на всех полотнах будешь только ты”. Из-за вернисажа он не успевает в неврологическое, но он подавлен, печален, это замечают коллеги и критики, как-никак яркий штрих в великолепной творческой биографии. Но я найду его и убью, думал я. До тех пор буду искать, пока не найду, думал я. Убью, не моргнув глазом, думал я. Если нужно, выцарапаю из земли и раздроблю все кости, думал я. Засыплю его могилу солью. Да, засыплю солью и помочусь сверху.
Собственно, в картине не было ничего особенного, просто голая пашня под снежным небосводом, словно рабочие только что убрали огромную сцену. Ни ворон, ни тени, ни дрока, ни даже горизонта. Масло, холст, черная рама примерно сорок на шестьдесят. Наверняка творение скромного провинциального художника, которого вдохновил “Ангелус” Милле [8]8
Картина “Ангелус” французского живописца Жан-Франсуа Милле была написана в 1857–1859 гг.
[Закрыть]. Скорее всего, у этого провинциала были проблемы с изображением людей, и он решил, что не будет рисовать ни мужчину, ни женщину, ни тачку, и гроба тоже не видно. Словом, остался один фон, и художник наверняка собирался загрунтовать полотно и нарисовать что-то совсем другое, но кто-то отвлек его, и все так и осталось.
– Это та самая, да? – спросила Эстер и приложила картину над письменным столом
– Та самая, – сказал я, от удивления мне больше ничего не пришло в голову.
– Тогда принеси гвоздь и молоток.
– Как ты узнала?
– Или я дружу со старьевщиками, или я тебя знаю. Наверно, и то, и то. Кстати, не так уж сложно было выловить ее среди цыганок с мандолинами и ревущих быков, – сказала она и обняла меня.
– Спасибо, – сказал я.
– Куда мы ее повесим? – спросила она.
– Поцелуй меня, – сказал я.
– Сначала принеси молоток.
– Я хочу заняться любовью, – сказал я.
– Нет, мне правда пока нельзя, – сказала она.
– Ты врешь, – сказал я, мы неотрывно смотрели друг на друга, за это время я развязал пояс ее халата, и впервые за два месяца увидел ее голой. Если не считать больничных переодеваний, когда я на руках носил ее пописать в пахнущий хлоркой сортир в конце коридора в неврологическом – только не подкладывайте немытую утку, сестра Бертушка.
– Нет, – сказала она.
– Молчи, – сказал я, и от моего дыхания ее соски раскалились. Мое лицо прижалось к ее животу, и, пока я добрался до ее паха, уже все ее тело тряслось. – Я люблю тебя, – сказал я и знал, что сейчас очнется настоящая Эстер Фехер. Та, что больше не будет горстями срывать почки с веток ракитника. – Больно? – спросил я ее, но она была уже неспособна складывать звуки в слова. Каждый звук по отдельности в тяжелом вдохе спасался из распадавшейся сети сознания. Ее язык еще раз проскользнул по арке моего нёба, протиснулея в щель между губой и десной, и, когда мускулы, обхватившие меня, начали пульсировать, она схватила меня тысячью рук и отбросила от себя, и я чувствовал только, как она бьет меня в лицо кулаком.
– Ты говно! Говно! Говно! – орала она, и я не мешал ей драться, наконец, она, рыдая, повалилась на меня.
– Гдетыбыл сынок?
– Вы прекрасно знаете, мама.
– Вижу, вы поссорились.
– На меня напали на улице, мама.
– Не думай, что я дура.
– Мы не поссорились и никогда не поссоримся. Я сказал, на меня напали на улице, мама.
– В общем, ты ее отделал. Отделал, да?
– Я прошу вас, замолчите, мама.
– Она сучка. Я уже говорила?
– Лучше не говорите ничего, мама.
– Такие хороши на один раз – расслабиться.
– С детства я расслабляюсь в ванне, мама.
В те дни стали гибнуть голуби. Первые трупики я увидел на площади Гутенберга, четыре или пять диких голубей валялись в весенней слякоти на дороге и на тротуаре, как будто у луж выросли крылья, но поначалу казалось, ничего особенного не происходит, ведь весной они всегда мрут как мухи. Кое-как перезимуют, а во время таяния снега плюхаются с крыш и с карнизов. Как-то раз голубиные трупики забили печную трубу в одном доме, утром полугодовалая Агика проснулась от холода, потому что бабушка забыла натопить детскую, и никто не пришел к ней на крик. Целых три недели ни в кафе “Трубочка”, ни в ковровом отделе торгового центра “Пионер”, ни в клубе пенсионеров “Какие наши годы” не замечали, что Боднары почему-то отсутствуют. И пока до жильцов дошло, что стряслась беда, потому что скоро Пасха, а соседка с четвертого апреля не вывешивала во двор одежду и постельное белье своей свекрови, Агика уже начала разлагаться. Тогда администрация сказала: давайте дадим им еще несколько дней, разберемся после полива. Наконец дверь взломали, и Боднары попали на первую полосу “Вечерних новостей” в качестве неживого свидетельства последствий халатности, вклинившись между сообщениями о новейших результатах исследования Марса и о ходе весенней пахоты, даже газетная бумага смердела трупным запахом.
– Фу. Ты лучше погляди, что они пишут про постановку пьесы Дюрренматта. И попробуй читать более внятно, – сказала мама.
– Интересно, а я его отлично понимаю: четверо умерли, правда, ни один из них не был лауреатом премии Кошута, – сказала Юдит.
– Кажется, у меня нет такого тонкого чувства трагизма, – сказала мама.
– Всего одна небольшая новость о спектакле, – сказал я.
– У всех органы чувств не безупречны. Я, например, довольно хорошо слышу, но иногда неделями не вижу, что происходит вокруг, – сказала Юдит, и собрала тарелки.
– Женщина должна видеть даже в темноте, – сказала мама.
– Если ты спешишь, я помою, – сказал я.
– Спасибо. А кстати, неплохая идея. Если я захочу кого-то убить, так и сделаю, – сказала Юдит.
– Может быть, о спектакле что-то написали в “Непсабадшаг”, – сказал я, притворяясь, что ничего не слышу.
– Несколько дохлых голубей в трубу, и гарантия, что жертва угодит в сводку дневных новостей.
– Гениально. Если предположить, что ты сможешь взять в руки дохлого голубя, – сказала мама.
– Когда очень понадобится, не только голубя. Котлеты снова удались на славу, – сказала Юдит и убежала. До конца отопительного сезона коммунальщики пять или шесть раз проверяли трубу в маминой комнате, якобы по заявке жилищного комитета.
В общем, сначала я увидел несколько дохлых голубей на площади Гутенберга, затем на площади Луизы Блахи, но там уже весь тротуар был черный. Люди возмущались, боже мой, ну куда смотрят коммунально-уборочные службы? Одни говорили, виноваты коммунисты, другие считали, виноваты правые радикалы, но большинство было уверено, что эпидемия связана с атомной электростанцией в Пакше; на следующий день появились первые экспертизы, исследующие влияние массовых демонстраций на развитие венгерской энергетической промышленности. Телевидение ссылалось на неназванные источники, аналитики опрашивали всех, кто может высказаться на данную тему, расторопные очевидцы вспоминали о похожих голубиных эпидемиях в самое кассовое эфирное время. Санитарная Служба ограничилась коротким заявлением, сообщалось, что, вопреки очевидным фактам, об эпидемии не может идти речь, но родителям все же не следует разрешать детям приближаться к дохлым голубям. Мы с Эстер шли на Центральный рынок, как вдруг я увидел на площади старушку, которая сыпала из кулька семена голубям и приговаривала: “Ребекка ест”.
– Это она, – сказал я Эстер.
– Кто? – спросила она.
– Женщина возле качелей. Она травит птиц.
– Да ну, – сказала она.
– Я знаю ее, – сказал я. – У нее я видел эти двадцать пять клеток в платяном шкафу.
– Я ее не такой представляла, – сказала она. – И потом, тот, кто ухаживает за искалеченными птицами, не будет сыпать отравленную пшеницу голубям. Это абсурд.
– Ошибаешься, – сказал я. И мы отправились за покупками.
Когда я получил письмо, в котором сообщалось, что на шестое назначена встреча в редакции, меня дня два выворачивало даже от утреннего кофе. Я по очереди перебирал возможные вопросы и сочинял разумные ответы. В крайнем случае, пошлю всех к черту, думал я и, вместо того чтобы, перекрестившись, вызвать лифт, пошел по лестнице пешком, хотел потянуть время, я всегда так делаю. Но когда меня пригласили войти, я успел заметить, что и здесь ручка двери сделана из алюминия.
– Эва Йордан, – сказала женщина и во время рукопожатия смерила меня взглядом с ног до головы. – Кофе? – спросила она. Я сказал, пожалуйста, сел в одно из кресел и подумал, что в редакции не успели поменять старый мебельный гарнитур, обитый дерматином, и пишущую машинку “Эрика”, женщина в это время связалась с приемной и попросила: “Два кофе”.
– Мне нравится ваша книга, – сказала она. Я сказал, спасибо. Как женщина она для меня уже не существовала, с того самого момента, как смерила меня взглядом, словно я какой-нибудь товар, я бы даже обрадовался, если бы моя книга ей не понравилась. Я всегда испытывал отвращение к женщинам, которые умудряются замазать штукатуркой минимум десять лет из пятидесяти, а руку сжимают, словно солдаты. За пять минут они ухитряются поменять колесо на “полскифиате”, не поцарапав при этом “Маргарет Астор” на ногтях. Славно потрахавшись или бесславно оформив развод, они уверены, что познали смысл жизни. Даже ее прокуренный голос меня раздражал. Лучше бы книга ей не понравилась, думал я, и, пока она доставала досье, я пялился на календарь, прилепленный сбоку шкафа для деловых бумаг – на нем бушевала декабрьская метель в пусте, хотя давно пора было отлистать к апрельским наводнениям.
– Конечно, кое-что необходимо доработать. Я немного почеркала, надеюсь, вы не возражаете, – сказала она. Я заглянул в рукопись: на полях страниц то тут, то там мелькали замечания, сделанные черной шариковой ручкой, кое-где подчеркивания и вопросительные знаки. Вместо благодарности я подумал только, что женщина за несколько дней исчеркала текст, который Эстер печатала неделями.
– Не возражаю, – сказал я.
– Думаю, вам надо посмотреть замечания, и тогда мы поговорим.
– Хорошо, – сказал я.
– Позвоните. Если можно, еще до конца недели, – сказала она и записала в досье номер телефона. – Здесь невозможно работать.
– Хорошо, – сказал я.
– Какой напиток вы предпочитаете?
– Чай, – сказал я, взял рукопись и встал, чтобы уйти без промедления. Мы снова пожали друг другу руки. У нее древняя пятисотлетняя рука. Ее не заштукатуришь, думал я.
– Как поживает ваша мама? – спросила она. Я застыл в оцепенении, поскольку к этому вопросу я не был готов. Я не знал, что ответить. Мне ужасно хотелось влепить ей по физиономии.
– Откуда вы знаете мою маму? – спросил я.
– Однажды я брала у нее интервью.
– Наверно, вы ошибаетесь.
– Наверно. Мне нравится ваше рукопожатие, – сказала она. И только тогда я заметил, что продолжаю сжимать ее руку, словно я гидравлический пресс. Я чувствовал, что ее костлявые пальцы вот-вот с треском сломаются. Не попрощавшись, я вышел, затем, чертыхаясь, залез в лифт, но забыл выйти на первом этаже и уехал куда-то вниз, в подвальные помещения. Я толком не знал, на что нажимать, и, когда очутился в темной, как ночь, аппаратной, в отчаянии вцепился в двери, мне казалось, эта коробка сейчас опрокинется', и я вылечу в шахту. Я боялся, что шестеренки подъемника изуродуют меня, как эта женщина изуродовала мою несчастную рукопись.
– Ради бога, что с тобой? – спросила Эстер.
– Я не… – сказал я.
– Они же не вернули тебе?
– Я попрошу вернуть.
– Умоляю, расскажи, что случилось.
– Не хочу.
– Что не хочешь?
– Ничего, – сказал я и уткнулся лицом в ее грудь. Я никак не мог связно рассказать, что стряслось в издательстве. Я бормотал, что лифт нарочно увез меня в подвал, они хотели искалечить меня, поскольку все всё знают, даже маму знают. Потом я почувствовал ее руку у себя на поясе.
– Успокойся, – сказала она.
– Хорошо, – сказал я и стал искать ее колени, но она переложила мою руку к себе на шею.
– Почему? – спросил я.
– Молчи, – сказала она и закрыла мне глаза, словно мертвому, и положила голову мне на грудь.
– Лучше расскажи, пожалуйста, что произошло в издательстве.
– Я попрошу вернуть рукопись.
– Правильно. Только я не узнаю тебя.
– Поверь, мне вполне достаточно, что читаешь мои рассказы ты. Когда-нибудь их издадут.
– Продолжай. Я люблю, когда ты так говоришь. Глупо, но люблю.
– К тому же эта культурная шлюха исчеркала все, что ты печатала.
– Ну да. Подлизывайся.
– Тебе не интересно, какая она, эта культурная шлюха?
– Если я правильно помню, это я отвозила рукопись в издательство. Никакая она не культурная шлюха. Просто энергичная евреистая журналистка.
– Не трогай евреев.
– Мне можно.
– Почему?
– Так сложилось. В общем, вижу, тебе она нравится. Я буду следить, чтобы ты ходил сытым на деловые ужины.
– Меня тошнит даже от ее запаха, и вообще я не буду ходить на деловые ужины.
– Тогда я отведу тебя на поводке.
– Я всех покусаю.
– Прежде всего эту культурную шлюху?
– Не ее специально.
– Я куплю тебе намордник. Кстати, ты был прав, – сказала она.
– Скажи на милость, в чем это я оказался прав? – спросил я.
– Читай, – сказала она и вытащила из сумки газету, среди удручающих новостей о любовницах замминистра и о злоупотреблении приватизацией один крупный заголовок успокаивал расстроенных читателей – “Убийца голубей покончила с собой!” После усиленных поисков полиция нашла тело Ребекки В. (69 лет), бывшей проститутки, которая уничтожала голубиное поголовье восьмого района с помощью отравленной пшеницы и затем сама приняла смертельную дозу крысиного яда югославского производства. Специалисты квалифицируют случай как необъяснимый, поскольку, судя по показаниям соседей и по вещественным доказательствам, найденным в квартире, преступница любила птиц (статья о ней на 16-й странице).
– Гдетыбылсынок?
– В издательстве, мама.
– Я не давала согласия.
– Вам и не надо давать согласия, мама.
– Эта сука сделает из тебя подонка, грязного подонка!
– Оставьте Эстер в покое и дайте мне поработать, мама.
– Ты не писатель! Знаешь, кто ты? Ты мясник! Да! Мясник!
– Возможно, мама.
– Ты пишешь свои рассказы чужой кровью!
– Я пишу черными чернилами, мама.
– Это не чернила, это моя кровь!
– Если кровь, то исключительно моя собственная, мама.
– Ты запятнаешь меня!
– Я в жизни никого не запятнал, мама.
– Да, запятнаешь меня моей собственной кровью!
– Молчите, мама!
– Не буду молчать! Убийца! Убийца собственной матери! Запятнаешь!
– Заткнитесь! Заткнитесь и убирайтесь из моей комнаты!
– Ваш чай успел остыть. Могу я предложить вам чай с водкой?
– Лучше с лимоном, – сказал я и внимательно оглядел антикварную мебель, восточные ковры и старинные картины. У нее точно такой же склеп, как у нас, только он не уставлен ворованными декорациями, подумал я и освободил на столе место для рукописи, между жолнайской пепельницей и мессенской чайной чашечкой.