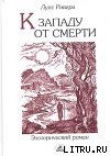Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Платежное извещение одиноко торчало возле дверной ручки, ничего не изменилось, стало быть, Эстер нет дома. Я написал на клетчатом листке, мама умерла, засунул записку под дверь, поймал такси и поехал на Керепеши, потому что я уже опаздывал.
На этот раз могильщикам не пришлось долго работать, пятнадцать лет назад их предшественники отлично постарались.
Гранитный мастер немного напортил с гербом, выбил в гнезде три ветки, сперва я разозлился, но потом подумал, что это моя ошибка, надо было сказать ему, пусть выбьет две, чтобы не было точь-в-точь, как на колпачке ручки, это же не рекламный щит, а могила. Хотя он не виноват, он привык работать по образцу, думал я, затем я сказал таксисту, подождите.
– Хорошо, но тогда я не буду выключать счетчик, – сказал он.
– Конечно, только отпаркуйтесь чуть подальше, – сказал я, поскольку не хотел, чтобы треск счетчика вклинивался в заупокойную молитву. Затем стали спускать гроб, я бросил на него цветок и увидел, что груда земли вся сплошь состоит из полуистлевших клочков бумаги. Из груды торчали то какие-нибудь ноты, то семейные фотографии. За пятнадцать лет даже червям оказались не по зубам. Четверо мужчин стали закапывать могилу, периодически перерубая пополам дождевых червей, а я решил прогуляться и попрощался с таксистом.
“Балканская” была временно закрыта из-за покраски. Несмотря на это, дверь была распахнута, чтобы проветривать подвал, метлу прислонили к косяку, а лестницу застелили целлофаном. Иолика внизу ругалась с рабочими, потому что стены выглядели темнее, чем она хотела.
– Когда краска высохнет, будет аккурат как на образце, целуюручки, – уверял маляр.
– Вы меня за дуру держите? – взрывалась Иолика. – Я вам еще вчера сказала, в этом хреновом подвале сыро. Говорила, или как? А то я не знаю. Перекрасьте все, как я просила, немедленно!
– И вы сами будете покупать материалы, целуюручки? Именновыпотомучто вся краска уже разведена в нужной пропорции. Я больше ничего докупать не буду, и, пожалуйста, примите это к сведению, – говорил мужчина, размахивая валиком, внезапно он оступился, и кремово-бежевая краска выплеснулась на целлофан.
– Докупишь как миленький, Питюка, это я тебе гарантирую. В Буде показывай свои фокусы, со мной не пройдет, а то я за себя не ручаюсь.
– Извольте не каркать, иначе нам не о чем разговаривать, целуюручки.
– Мы и не будем разговаривать. Сказала перекрасить – значит перекрасить, или марш отсюда, и лестницу свою убирайте.
– Завтра, целуюручки. Если вы купите двадцать кило дисперсии, мы завтра перекрасим хоть в серо-буро-малиновый, но сейчас к работе нельзя приступать, потому что прежний слой не высох. Когда он высохнет, целуюручки, будет аккурат как вы просили. И будьте так любезны не полениться посмотреть образец. Я же не указываю вам, как разбавлять пиво, извольте предъявлять претензии, когда стена высохнет, а цвет будет не такой, как на образце, – сказал Питюка.
Мне надоело слушать их споры, и я отправился домой, чтобы прибраться в квартире.
Я подумал, может, и к лучшему, что Эстер еще не вернулась, собственно говоря, что ей делать на похоронах, как ни крути, они видели друг друга всего два раза в жизни, и того хватило. Когда вернется, расскажу ей, что мама умерла. По крайней мере, успею навести порядок в квартире к ее возвращению. Скажу ей только – сердечная недостаточность. Впрочем, она и не спросит. Я же ее никогда не расспрашивал. Я терпел, когда она била меня кулаком по лицу, когда она запускала деревянной шкатулкой фирмы “Ремингтон” мне в затылок, и я оставался в неведении долгие годы. Конечно, я сам совершал ошибки, непростительные ошибки, но, по крайней мере, я их осознавал. Правда, что толку в том, что мы сознаем собственные слабости. Сегодня осознали, завтра забыли. И тут появляется Эвайордан. Прежде я считал себя чуть ли не ангелом, а на поверку оказалось, я грубое животное, как мой отец, как все остальные. Заговаривать о моей несчастной маме, вот этого не надо было, здесь Эвайордан промахнулась по-крупному. И оправдываться, что в разрыве всегда виноваты двое, тоже не надо было. Страшно подумать, до чего я дошел, каким подлым и смешным трусом я оказался. Нет большей трусости, чем двуличие. Даже темная одиночная камера не делает таким одиноким, каким делает ложь. Каждый новый флакон жидкого мыла с хлорным запахом все сильнее отдалял нас друг от друга, словно разлом святого Андрея в Калифорнии, но впрочем, уже не важно. В общем, наверное, даже к лучшему. Все отношения рано или поздно заканчиваются. Мы любили друг друга, мы мучили друг друга, но теперь все позади, думал я.
Наверно, жизнь могла сложиться по-другому, если бы мне столько лет не приходилось ухаживать за мамой, думал я. Но она все-таки была моей матерью, я не мог сдать ее в дом престарелого актера или в психиатрическую лечебницу. От меня она получила больше, чем до того дала двум своим детям вместе взятым. Мало кто будет каждый день варить еду для своей сумасшедшей матери и тем более мало кто выдержал бы этот спектакль с добровольным затворничеством. Она превратилась в живой труп, только потому что прежде жила не по совести. Даже секретарь парткома имел право плюнуть ей в лицо. Естественно, я не исключение, некоторые дети готовят еду для своих матерей, платят за них в кафе, но пятнадцать лет каторги вряд ли бы кто вынес. Вообще удивительно, что она продержалась так долго. В ее возрасте сердечная недостаточность у каждого второго, косит людей, как испанка в начале века, думал я. Я увидел пожилую женщину в Музейном саду, выгуливающую собачку, она шла, загребая гравий, и походка у нее была точь-в-точь, как у актрисы Веер, но я точно знал, что эта женщина просто похожа на маму и что подобные галлюцинации повторятся еще не один раз. Мама сядет рядом со мной в трамвае или на переднее сиденье в троллейбусе. Да, можно было предположить, чем весь этот балаган закончится, а что мы предполагаем, тем и располагаем. В конце концов, не раскроил же я ей череп топором, думал я. И врач сказал, сердечная недостаточность, думал я. Скорее инсульт, с сердцем у нее было все отлично, думал я.
– Добрый день, – поздоровалась со мной жена Берени.
– Добрый, – сказал я.
– Мои соболезнования, – сказала она.
– Спасибо, – сказал я.
– Заходите? – спросила она и подержала дверь подъезда, а я сказал, спасибо, вошел в подъезд, остановился на лестничном пролете первого этажа и стал открывать почтовый ящик, чтобы не подниматься вместе с ней по лестнице. Я, как обычно, сделал два коротких звонка, так мама узнавала, что это я, но потом до меня дошло – незачем звонить. Сработал условный рефлекс, так иногда мы автоматически выключаем свет, который уже был выключен.
Начался осенний вывоз хлама, и я подумал, что самое время избавиться от “Аптечноговестника” и “Телерадионовостей”. У подъездов люди собирали мусор в кучи, чтобы на следующий день Управление коммунального хозяйства вывезло всевозможные и неизбежные отходы жизнедеятельности, которые в течение года забываешь отнести на помойку. В одну кучу были свалены сломанное пианино и консервированная фасоль довоенного производства, водопроводные краны и засранные птичьи клетки, ржавые куски велосипедов и ванны, пожелтевшие от извести, растрепанные женские романы, иллюстрированные журналы и черно-белые телевизоры, шезлонги, пропахшие бабушкой, и семейные альбомы, те, что, предназначены для просмотра вдвоем, с пикантнейшими фотоснимками, сделанными в первую брачную ночь. Наследники центнерами тащили швейные машинки “Зингер”, нитки “Ланцхид”, поеденные молью пальто из лодена, игрушечные броненосцы-потемкины и алюминиевые столовые наборы, с которых слезла позолота. Воняли выставленные на тротуар бочки с протухшим овощным рагу, смердели судна и ночные горшки, по району разливался запах мочи и гнили. Вот уже на протяжении трех поколений люди, из года в год, собирали всевозможный хлам в кучи перед подъездами, и на следующий день службы коммунального хозяйства его вывозили. Я долго не понимал, как мусор со всей улицы вмещается в один контейнер, но потом один из работников коммунальной службы рассказал мне, есть специальное устройство, знаете ли, которое перемалывает даже стальные предметы. Из ванны оно сделает маленький горшок, представьте себе, а если мы засунем в это устройство дом, он станет меньше гаража, потому что гидравлика не только перемалывает, она еще и сплющивает, превращает в блин, это немцы изобрели, они невозможные чистюли, у них это принято, знаете ли, сказал он и угостил меня сигаретой, которую в свое время американские солдаты где-то обронили, и у нее до сих пор остался заокеанский вкус.
– Лучше, чем “Кошут”, – сказал он.
– И правда лучше, – сказал я, затем шофер закричал, заканчиваем, становись на платформу, нам еще в поселок ехать. Работник потушил сорокалетний “Честерфилд”, взобрался по лесенке и схватился за ручку. В кабине спереди сидели трое, а он вместе с напарником стоял к ним спиной, возле пасти прессовального агрегата, словно каменное изваяние, только в оранжевой униформе, в другой руке у него болтался полиэтиленовый пакет с мелким хламом, который может пригодиться в хозяйстве.
После похорон я решил отнести на свалку газеты, чтобы освободить комнату для прислуги, когда-нибудь в ней будет детская, думал я. Я отнес поеденные молью платья, постельное белье, пропахшее мятой и миндалем, и махровые полотенца. Затем освободил ящики, сделал из простыни мешок и свалил туда пудреницы, флакончики с духами и витаминные кремы от морщин, которые на самом деле ни хрена не помогали, напрасно она измазала их на сумму, на которую можно было бы совершить кругосветное путешествие. Небытие плотно опутало ее своими нитями, точно паук божью коровку. В довершение я выгреб все продукты из холодильника и поснимал ковры по всей квартире.
– Жаль, красивые ковры, – сказал сосед, живший напротив, который вместе со своим прыщавым отпрыском пытался вытащить на улицу старый холодильник, поскольку из Вены привезли “Занусси”.
– Занимайтесь лучше своим хламом, – сказал я и с лестничного пролета услышал, как сосед расписывает сыну – это семейка ненормальных, кто знает, сколько наш недоделанный писатель продержал труп матери в квартире. Мне было наплевать на их пересуды.
Я решил очистить этот склеп от декораций. Я выбросил кресло, украденное из “Леди Макбет”, и кровать Лауры Ленбах, и все равно задыхался. Затем мне попался топорик, которым я когда-то подрубал ствол рождественской елки, чтобы она неколебимо стояла все праздники на подставке. Я вдруг с размаху вонзил топорик в кухонный буфет, точно врагу в череп.
– Господиисусе, что вы делаете? – спросила жена Берени и, оцепенев от страха, застыла в дверях, наверняка зрелище было не из приятных – я со всей дури кромсал кухонный буфет и кричал, сдохни наконец, ты шалава.
– Убирайтесь, – орал я, но она неподвижно стояла и смотрела, словно ее гвоздями прибили к порогу. – Что вы пялитесь? Настучать хотите?
– Нет, нет. Зачем мне стучать? – сказала она, побледнев.
– Не врите! Вы видели меня в подъезде! Вы отлично знаете, меня не было дома!
– Когда? – спросила она.
– Не прикидывайтесь! Я не убивал ее, зарубите себе на носу! Я показывал заключение? Сердечная недостаточность! Ясно?! Меня даже не было дома! Я не мог убить, потому что меня просто не было дома!
– Конечно, вы не могли убить, – сказала она, но тут пришел ее ревнивый муж, с которым она двадцать лет собиралась развестись.
– Как ты смеешь прикасаться к ней, скотина? – набросился на меня Берени, и я видел, он готов вцепиться мне в глотку, но женщина оттащила его.
– Оставь его в покое. Не видишь, он не в себе, – сказала она.
– Все равно я набью ему морду! Как он смеет руки распускать?!
– Прекрати, дурень, он просто взял меня за руку, – сказала она и вытолкала мужа на лестничную клетку.
Я долго ревел, а потом лег спать. Когда я выполз из комнаты, уже темнело. Я хотел пойти к Берени, извиниться, но потом решил, что лучше разгребу завалы хлама. Хорошо хоть выплакался. Мне уже не хотелось ничего крушить, просто хотелось освободиться от лишних вещей. До позднего вечера я таскал оставшийся мусор и при этом следил, как бы не сломать то, что еще можно использовать. Ближе к одиннадцати в маминой комнате остались только пожелтевшие стены да следы от мебели на полу, в кухне осталось несколько мелких небьющихся предметов, эмалированная кружка, ложки-вилки, тарелки. Можно было еще что-нибудь выбросить, но мои руки уже покрылись волдырями, я уселся на окно и смотрел на людей с фонариками, которые, вооружившись рюкзаками и тележками, в эти часы обходили район и что-то отыскивали в завалах.
Кто-то собирает выключатели от стиральных машин, кто-то охотится за старинными вещами, чтобы на следующий день продавать их на развалах. В свое время я так нашел промокшее собрание сочинений Маркса и развинченную кофеварку. Медножелтая нотная папка Юдит тоже попала к нам вот из такой кучи. По ночам мы обходили район примерно как эти помоечники.
– Возьми этот ночной горшок, – сказала она.
– Майолика, – сказал я.
– Конечно, только немного воняет мочой, – сказала она.
– Точно такой задействован в “Скупом”.
– Тогда дожидайся, пока его спишут, театральный, по крайней мере, не так зассан, – сказала она, и я выбросил горшок обратно в кучу, через пять минут она вытащила помятую нотную папку и сказала, что она ей пригодится. Если подумать, ну что тут могло пригодиться, мы никогда ни на чем конкретном не умели специализироваться, как те, кто, скажем, собирает толькодетскиеигрушки, или толькобелье, или толькометаллолом. Однажды я даже видел, как любитель использованных вещей объезжал район на машине, и верхний багажник у него был забит погнутыми сушилками для белья.
Если спрессовать как следует, весь этот бутафорский реквизит поместится в один чемодан, думал я и смотрел, как внизу мужчина пытается разобрать телевизор.
– Не разбирайте, он работает, – крикнул я из окна, но он не ответил, только уставился на меня.
– Он правда работает, это я его выбросил. Там где-то даже есть пульт дистанционного управления.
– Отвали, – сказал он и с помощью газовой трубы отломал экран и перешел к другой куче.
Я налил себе остатки мятного чая из маминого чайника и стал наблюдать, как три цыганки ссорятся из-за платьев, еще вполне приличных. Одни люди тащили домой постельное белье, другие ковер, третьих интересовали исключительно кухонные полки, и каждый нашел себе что-нибудь. Супруги Берени вернулись домой около полуночи, я высунулся из окна и подслушал их разговор. Ты не притащишь в квартиру мебель, пропахшую трупным запахом, сказал муж. На что жена фыркнула: если бы ты ходил в театр, ты бы знал, это была звезда мирового уровня, наконец они потащили по лестнице шкаф с дверцами под мрамор, принадлежавший не то Ирине, не то Маше, чтобы приспособить его под шкаф для обуви. Одни мраморные дверцы чего стоят, так что могу и не извиняться, думал я. Я сидел на окне и смотрел на мародеров. Иногда я отключался покемарить, но заснуть не мог – я хотел дождаться утра и посмотреть, как машина с пеликаньим клювом заглатывает остатки.
Проснуться на ничейной территории – это все равно что пробудиться в пустыне с зыбучими песками или в болотной трясине, которая не затягивает, но выталкивает человека все выше и выше, но облегчения это ему не приносит. Квартира была голой, как барак, даже хуже, но мне было безразлично. Одеяло облепило меня, теплое, как тина, и сперва я подумал, что это просто от пота, но потом почувствовал удушающе-мышиный запах. Только не со мной. Позор какой, обмочить штаны в тридцать пять лет, думал я. Улица тоже была вся мокрая, платаны в Музейном саду стали грифельно-серыми, хотя чего еще ожидать осенью. За окном смеркалось, получается, я спал примерно двадцать восемь часов. Сейчас же пойду туда, надо, надо, думал я. Одеяло я бросил в ванну, а с матрасом долго не знал, что делать. Потом я полил его водой, вытащил из кровати и повесил на радиатор. Да, сейчас же пойду туда, надо, думал я. Я видел окружающую действительность в подлинном свете. Я бы даже сказал: сейчас я впервые увидел все так ясно, как давно должен был увидеть. Я боялся этого нового для меня ощущения и в то же время был уверен, что поступлю правильно, как в детстве, когда я послал маминого любовника на хрен. Мне дадут пять лет, максимум восемь. Другие-то выдерживали на зоне, думал я. Возможно, зачтут чистосердечное признание, думал я. Должны учесть, я ведь сам приду с повинной, думал я. Но я не обмочусь по новой, думал я, и как раз надевал чистые брюки, когда в дверь позвонили. Минуту я колебался в прихожей, затем вновь прозвучал звонок, и я решил, что Эстер тоже должна узнать. Нет смысла увиливать, рано или поздно она узнает. Пять лет не шутка, Эстер не просто любовница, она самый близкий мне человек, думал я, и, когда я наконец открыл дверь, увидел приходского священника.
– У меня были дела в Пеште. Решил навестить вас, – сказал он. Сперва я не узнал его. Точнее, узнал, но было такое ощущение, будто я видел его много лет назад, скажем, в зале ожидания на вокзале, хотя прошло примерно полторы недели.
– Откуда вы узнали мой адрес? – спросил я раздраженно.
– От вас. Я помешал?
– Нет. То есть да. Не сейчас. Я навожу порядок в квартире, – сказал я. Мы озадаченно стояли в дверях.
– Я здесь до вечера. Если хотите, приду позже.
– Лучше сейчас. Только недолго, я опаздываю на встречу, – сказал я и отошел, чтобы он смог войти.
– Я думал, вы наводите порядок.
– Конечно. Только спешно. Но вы садитесь, – сказал я и затолкал его в свою комнату, потому что она еще имела хоть какой-то вид. Он в своей рясе переступил через кучи мусора, остатки мебели и осколки тарелок, и, пока я убирал одежду с кресла, я заметил, что его взгляд на мгновение остановился на матрасе, повешенном на радиатор.
– Случайно пролилась вода из ведра, – сказал я, жалея, что впустил его.
– Со мной тоже случается, – сказал он, и мне ужасно захотелось спросить его, почему он мочится в постель.
– К сожалению, мне нечем угостить вас. У меня сейчас даже супа из пакетика нет.
– Ничего страшного. Я на минутку заскочил, спросить, как вы.
– Хорошо.
– Не стесняйтесь, скажите, если я мешаю. Мне есть чем заняться в ожидании поезда.
– Скажу. А что, вездеход взорвался?
– Нет, но, скорее всего, я еще долго не сяду за руль. В пятницу я вез коробки с гуманитарной помощью, один ребенок прыгнул в грязную лужу, прямо под колеса. Вы сами видели, как они бегают вокруг машины.
– Он умер? – спросил я.
– Слава богу, несчастный отделался переломом таза. Оперировали здесь, в больнице Яноша. Поэтому я приехал в Пешт.
– Но вы же чуть не убили его, – сказал я и увидел панический страх на его лице.
– Да, я чуть не убил его, – сказал он.
– Не сердитесь. Я понимаю, ситуация не из приятных.
– Да уж, не из приятных.
– Думаю, не утешает даже тот факт, что вы везли коробки с гуманитарной помощью. Я сам видел, как они лезут под машину.
– Да, не слишком утешает.
– От себя не убежишь, – сказал я.
– Совершенно верно, – сказал он.
– Знаете, однажды я разговаривал с бывшим машинистом электровоза. Он уволился и стал выращивать вешенки, после того как женщина с двумя детьми бросились к нему под локомотив.
– Вы думаете, я теперь должен выращивать вешенки?
– Нет конечно. Я сказал это только к тому, что подобные ситуации легче переносить, когда ты знаешь, что Господь к тебе благоволит.
– Думаю, тут вы заблуждаетесь. Легче уж в Сибирь. Насколько я знаю, Бог еще никого не освобождал от угрызений совести.
– Конечно, вы абсолютно правы, – сказал я. – Постараюсь отвыкнуть и больше не путать исповедь и рынок.
– Рано или поздно вы поймете, что между исповедью и сочинительством не такая уж большая разница.
– Сочинительство это тоже рынок. Ну не важно, проехали, – сказал я, чтобы хоть как-то закончить разговор. По счастью, на подоконнике я заметил чайник, в котором оставался мамин мятный чай, будто наш чайник был тем самым благословенным рогом изобилия. – Хотите чаю? Он немного постоял, но пить можно, – сказал я и добавил, что вот сахару, увы, нет, и, прежде чем он успел ответить, я налил ему в жестяную красную кружку.
– Спасибо, – сказал он и вытащил из-под рясы пакетик сахару. – В поезде давали к кофе, но его я пью горький. Просто я привык привозить детям. Наверное, с вашей точки зрения это ханжество, но поверьте, сахару они обрадуются больше, чем тисненым изображениям святых.
– Это не ханжество. Подождите, я поищу ложечку. Возможно, еще осталась, – сказал я и пошел на кухню, чтобы отыскать ложечку среди столовых приборов, сваленных кучей в углу. Я пытался убедить себя, что этот человек пришел сюда не случайно. Случайно никто не снимает с полки “Исповедь”. Да, если кому и можно рассказать обо всем этом кошмаре, то это отцу Лазару, приехавшему из глухой провинции. Человеку, который дает покалеченным цыганским детям сахар в пакетиках вместо изображений святых. Я долго не мог найти ложечку и, пока я ковырялся с мельхиоровыми вилками и плохо вымытыми тарелками пытался выстроить причинно-следственную цепь событий. Сначала на голландском текстильном заводе ломается швейный станок, выпускают пятьсот бракованных свитеров, затем отец Лазар принимает во владение бывший особняк Вееров, прежде принадлежавший дружинникам, наконец, маленький Габриел попадает под вездеход, но выживает, и отец Лазар едет в Будапешт. Он приходит навестить меня, звонит в дверь, я думаю, что это Эстер, и открываю. Тут я понял, что все это бред. И еще я понял, что верю в Бога – не в шулера, который играет чужими судьбами и рушит их, точно карточные домики, но в Бога, которому уже пять тысяч лет насрать на все происходящее.
– Вам помочь? – спросил священник, и лишь тогда я заметил, что он стоит у меня за спиной с кружкой в руке.
– Не надо, я уже нашел. Только сполосну, – сказал я. – Лучше вернемся туда, здесь негде сесть.
– Странно, что вы живете в такой пуританской обстановке. Честно говоря, я представлял себе вашу квартиру совершенно по-другому.
– Так сложилось, – сказал я.
– Это недавно случилось? – спросил он.
– Нет. То есть да. Вчера она вывезла вещи. С тех пор тут бардак.
– Тогда мне, наверное, лучше уйти.
– Как хотите, – сказал я. – Я даже рад, что вы пришли. Хотелось бы соврать, что я ждал вас, но это неправда. Я и не предполагал, что когда-нибудь увижу вас снова.
– Понимаю, – сказал он.
– Не исключено, что однажды я сам приехал бы навестить вас. Нам не дано предугадать, когда мы придем за помощью к священнику. Или когда начнем разводить вешенки.
– Понимаю, – сказал он.
– Для меня что священники, что врачи. Если человеку плохо, все остальное не важно.
– Вижу, вы всегда были гордым человеком. Пока все в порядке.
– Знаете, я не из гордости. И кстати, калмопирин лучше исповеди ровно потому, что сбивает температуру без всякой веры.
– Тогда не исповедуйтесь, – сказал он.
– Хорошо, – сказал я. – У вас не найдется сигареты? Вы знаете, я на днях развелся и…
– К сожалению, сигареты нет.
– Ну не важно. Если честно, я сам выгнал ее. И я выбросил все, от крема для кожи вокруг глаз до огнетушителя.
– Понимаю, – сказал он.
– Мы тихо ненавидели друг друга. Я знаю, что церковь об этом думает, но жизнь далека от идеалов. Вместе мы причиняли друг другу одни страдания.
– Понимаю, – сказал он.
– Наверняка вы сами страдаете, когда проводите много времени вместе с Богом.
– Столько мы вместе не были, – сказал он.
– Не важно, но вы ведь понимаете, о чем я, правда?
– Конечно, понимаю, – сказал он. – Вы ненавидели друг друга.
– Сложно любить паразита.
– Понимаю, – сказал он.
– Того, кто спрашивает, гдетыбылсынок, даже если я просто ходил пописать.
– Понимаю, – сказал он.
– Не важно, уже не важно. У меня нет жены. Хотя нет, есть, только не на бумаге. Мы уже довольно давно не живем вместе. Я спутался с профессиональной курвой, а она с любителем-астрономом. Хотя, может, и нелюбителем.
– Понимаю, – сказал он.
– Начал я.
– Понимаю, – сказал он.
– При этом я всегда жил с матерью.
– Понимаю, – сказал он.
– На днях она скончалась.
– Сожалею, – сказал он.
– Тут не о чем сожалеть, я говорил, мы ненавидели друг друга.
– Иногда это тесно связывает.
– Да, – сказал я.
– Понимаю, – сказал он.
– В любом случае ей так будет лучше. Наверное, мне тоже. По крайней мере, вчера я выгреб отсюда кучу дерьма.
– Понимаю, – сказал он.
– Что вы заладили с вашим понимаю! Вы кто? Попугай? Вы за этим сюда пришли? Что вы хотите из меня вытащить?
– Я ничего не хочу из вас вытаскивать. До сих пор я даже не знал, что вы жили с матерью, – сказал он и откинулся на спинку стула, словно решил остаться здесь навсегда. – И я просил вас, скажите мне, если я мешаю.
– Мешаете! Это не исповедальный стульчик! Это мой стул!
– Знаю, – сказал он.
– Нас тошнило друг от друга, и точка. Были на то причины! Разве так не бывает?
– А вы так красиво пишете о своей матери, – сказал он.
– Оставьте, это все бред! Во всей этой хрени нет ни одной правдивой строчки! Ложь! Ложь, получившая госпремию! Вы в любое дерьмо будете верить?
– Вам я поверил. Не сердитесь, но думаю, сейчас вы врете, хотя помнится, я не спрашивал ни о чем. Я просто сказал несколько раз, что понимаю. Как попугай. Вы правы, наверное, что-то я не понимаю. Возможно, вы ненавидели ее, возможно, были причины, возможно, вы выбросили даже ее полотенца, но от этого еще никто не мочился в постель.
Мне казалось, я сгорю. Не от ярости, а со стыда. Или скорее от страха.
– Не сердитесь, – сказал я.
– Не буду. Почему вы думаете, я до сих пор сдерживался?
– Вам лучше уйти, – сказал я.
– Я немного проветрю, – сказал он, затем открыл окно и взял зонтик. – Я принесу сигарет и что-нибудь перекусить. Думаю, вы уже давно не ели. Глоток пива иногда помогает.
– Лучше принесите вина, – сказал я.
Когда я остался один в комнате, пропахшей мочой, мне вдруг стало страшно, как и тогда, когда мне показалось, что Эва Йордан хочет отравить меня. Полный бред. Я не умею общаться со священниками, думал я. Нельзя мне было его впускать. Что он знает о Боге? Есть Гражданский кодекс. Я буду требовать, чтобы провели эксгумацию и установили причину смерти, но я совершенно не нуждаюсь в успокоении души. Мне дадут пять лет, я отсижу. Другие же выдерживали. Мне зачтут чистосердечное признание. В конце концов, ведь я не раскроил ей голову топором. В крайнем случае, я могу сбежать из тюряги. Врач сам сказал, сердечная недостаточность. Если я туда не пойду, никто не узнает. Но я пойду. А может, уже не нужно. Да, вполне вероятно, соседи вчера донесли. Нечего было набрасываться на жену Берени. Нельзя было терять самообладание. Они кого угодно могли отправить сюда вынюхивать. Вот хоть этого священника. Почему нет? С этим прохиндеем нужен глаз да глаз, потому что он умный. Слишком умный. Подлый партийный сексот, которого обучили психологии и внедрили в церковные ряды. Только это неправда. Все вокруг неправда. Я пропал. Он пошел за вином ровно для того, чтобы потом разговорить меня. Не тут-то было. В общем, я правильно сделал, что впустил его. По крайней мере, я теперь знаю, с кем имею дело. Как он вычислил матрас. С одного взгляда вычислил, фашист. И еще хватило наглости сказать мне об этом. Ну, от чего может обоссаться взрослый мужчина? В глаза он мне не посмел сказать отчего. Я и не думал отрицать. Я просто не пришел домой. Точка. Я взрослый человек, у меня вполне может быть семья. Или работа. Я мог задержаться на работе. Бывает такая работа, человек неделями отсутствует. Я давным-давно должен был уйти из дома. Даже до Эстер. Еще когда Юдит уехала. Продержаться пять лет или восемь. Просто продержаться – и на свободу. В любом случае оно того стоит. Даже если человека упрячут за решетку, жизнь продолжается. Тупому и то понятно. Для этого не надо быть суперпсихологом. Но я не буду разговаривать со священниками. Ни врачей, ни священников я больше в жизни не увижу. Это врачи мне подкинули сраного звездочета. Доктор Хер Собачий, который отлично понимает, что я не сдам свою мать в клинику, но с любимой женщиной, будьте добры, прекратите половую связь. Нормальный человек такого не скажет, только импотент, обнюхавшийся димедролом. Это он наговорил ей всякой ахинеи, чтобы она поехала домой. Конечно, по возможности одна, потому что так лучше. Да ни хрена, бля, не лучше. Я сам отлично знаю, в чем проблема, но ни священников, ни врачей не желаю больше видеть. И я запрещаю ее вскрывать. Я даже Господу Богу сломаю руку, если он попытается прикоснуться к маме, думал я, затем я наконец нашел пальто.
Спрятавшись за промокшими кустами в Музейном саду, я наблюдал, как он возвращается с авоськой. Минут десять он звонил в дверь на этаже, и, когда он вышел из подъезда, он был скорее раздражен, чем разочарован. Он пару минут постоял на тротуаре, посмотрел на часы, затем на раскрытое окно и наконец ушел. Я долго стоял под проливным дождем, словно под холодным душем, но был уверен – так лучше для всех. Нет ничего паршивей, чем плакаться священникам, точно я кающаяся шлюшка. Понятное дело, он хотел как лучше. Это моя проблема. Мне не нужны отцы-исповедники, простите великодушно. Возможно, в другой раз, подумал я и вернулся в квартиру, поскольку не знал, куда еще можно пойти в это время.
На дверной ручке висел целлофановый пакет, в котором лежали сигареты, вино, двести грамм вареной колбасы и два пакетика “Магги”. В щель между дверью и косяком он засунул записку, что еще зайдет вечером и что, если сейчас я по какой-то причине не хочу с ним разговаривать, он всегда будет рад меня видеть.
Пусть нас обвенчает он, думал я, пока кипятил воду для супа-пюре из сельдерея. Хотя не уверен, что нам нужны эти церемонии, думал я. Алтарь не буфетный столик, думал я. Перед алтарем стоят те, кто действительно во что-то верит, думал я. Кто не морщится от ладана, кто чувствует, что ему это нужно, думал я. Затем я порезал в суп колбасы и налил себе немного вина.
Обед пришелся очень кстати. Я даже выкурил сигарету, затем подмел в квартире. Я несколько раз выносил мусор, оставшийся хлам отнес в комнату для прислуги. Матрас высох, квартира стала выглядеть весьма сносно, и, кстати, я понял, что люблю убираться.
Он позвонил в дверь около семи вечера, как и обещал, но я не открыл, потому что тогда мне пришлось бы все объяснять. Точнее, я хотел крикнуть ему вслед из окна, но потом ре шил, что не стоит. Если он оглянется, он все поймет, думал я. но он не оглянулся.
Я решил написать ему потом открытку и поблагодарить за еду. По правде, до него я не встречался со священниками, которых бы не воротило от Священного писания. Для которых любовь была не пустым заученным словом. Вы замечательный священник, отец. Ваш суп-пюре из сельдерея помогает больше, чем красное вино ваших коллег. Неудивительно, что из коронационной церкви вас сослали в захолустье. Поверьте, отец, вездеход господина епископа насмерть задавил бы этого несчастного ребенка. Даже если не насмерть, господин епископ поедет навещать больного – к вящему стыду – только на вездеходе. В том, что он поедет, я не сомневаюсь. И устроит такую мессу возле капельницы, что даже у телеоператора глаза наполнятся слезами. Возможно, вы со мной не согласитесь, отец, возможно, мой горький опыт подводит меня, но простите, я привык обжигаться. Конечно, образ Бога у меня второсортный, но он мне достался от священников второго сорта, думал я. Это все очень индивидуально и очень грустно, думал я. Но, может быть, со временем что-то изменится, думал я. Теперь мы знаем, что даже чистота в комнате вещь непостоянная, думал я. Вы правы, отец, я чрезмерно самолюбив, но, когда я не нуждаюсь в сочувствии, я лучше буду просто кивать головой. Вот так. И я верю, что однажды вместо мочи по моим ногам потечет, скажем, пот Эстер.