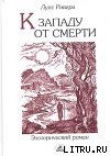Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Я не сержусь на церковь, сказал я. Сам не знаю, почему я выбрал героем моей истории именно священника, сказал я. Возможно потому, что, если бы главным героем был партсек-ретарь, история была бы бессмысленной, сказал я. От партсек-ретаря мы не ожидаем, что на партсобрании он отравит членов партии, сказал я, к счастью, библиотекарь поспешил мне на помощь: “На самом деле, это скорее метафора, дядя Анти, просто очень достоверно написанная”, – сказал он, торопливо поблагодарил меня за то, что я принял приглашение, и пожелал мне дальнейшей плодотворной работы и успехов.
После выступления ко мне подошел местный приходской священник, мужчина лет пятидесяти, с виду типичный военный духовник, из тех, кто будет спокойно ходить из окопа в окоп, словно это не пушечный грохот, а обычный гром, и в кого, по бесконечной Божьей милости, попадают, только после того как противник закончит свою работу.
– У меня есть неплохое красное, если вам вдруг захочется попробовать, – сказал он и взял меня под руку, и теперь у меня было на что ссылаться, чтобы отказаться от приглашения директора школы, которому наверняка на заседании культурной комиссии поручили организовать для меня ужин и который, очевидно, обрадовался, что ему не придется рассказывать абсолютно чужому человеку о сложностях, существующих в народном образовании и о своей образцовой, несмотря ни на что, школе, о проводимых раз в год конкурсах по декламации, о школьных экскурсиях и об успехах местного коллектива народного танца, отмечающего в этом году свой юбилей. И ему не нужно будет интересоваться превратностями издания книг уважаемого автора, у него свои проблемы, два дня назад у его коровы был выкидыш, а тут ему из-за культурной программы, проводимой раз в полгода, вешают на шею писателя, который в лучшем случае заблюет ему всю ванную, а потом станет приставать к его шестнадцатилетней дочери. В худшем случае писатель, молчаливый и угрюмый, станет есть ножом-вилкой куриную ножку, и тогда всей семье придется есть ножом-вилкой, а ему самому говорить или бурчать под нос, спасигосподи культурную программу, по крайней мере, господи, не пробуждай воспоминания о каждом из этих литераторов, и об одиноких, и об угрюмых, страшно подумать, этих несчастных несметные полчища, младенцы, насосом надутые до размера взрослых, – они до сих пор бы сосали материнскую грудь с превеликим удовольствием, как и этот субъект со своими историями про священные облатки с крысиным ядом. Но в день убиения свиньи я бы запустил в вас тарелкой с кровью, видит бог, господин писатель, так и полетела бы в вас окровавленная тарелка, как червивое яблоко в компостную кучу. Здесь вы заблуждаетесь, господин директор, я запущу в вас тарелкой гораздо раньше.
– Спасибо, господин директор, только что приходской священник пригласил меня на бутылку красного.
– Мне искренне жаль, господин писатель, как бы мы славно с вами поговорили.
– Мне тоже бесконечно жаль, господин директор, но вы ведь понимаете, мне сейчас очень важно мнение отца Лазара.
– Разумеется, господин писатель, словом, я рад, что смог с вами лично познакомиться. Позвольте мне от имени всех присутствующих выразить вам благодарность за эту незабываемую встречу, – сказал он, и затем в меня вцепился приходской священник и потащил за собой, словно раба, и я покорился, хотя я терпеть не могу, когда ко мне прикасается мужчина. Пожатие руки – только это я хоть как-то выношу, да и то желательно, чтобы рука была по возможности сильно вытянута вперед. Но сейчас я чувствовал, что во всей этой захудалой деревне священник с карманным фонариком – единственный, кого не возмутила до глубины души история постыдного поступка уважаемого господина Альберта Мохоша. Действительно единственный, кого я могу вытерпеть до завтра, почти не притворяясь. А потом прочь отсюда, думал я. С первым же поездом вернусь к Эстер, думал я, и от этого стало легче на душе, и я покорился. Тем временем священник, схватив за руку, вел меня по темной деревне, через какие-то заброшенные сады, по остаткам курятников и коровников, потому что так короче. Иногда он тащил меня вперед, иногда, наоборот, удерживал, в зависимости от того, высвечивал ли его карманный фонарик лужу или глубокую канаву.
– Мы вам поищем свитер в коробке с гуманитарной помощью, – сказал он, потому что мой пиджак промок от моросившего дождя, а я сказал, спасибо, не надо, кагор тоже поможет.
Мы срезали какой-то большой и ненужный поворот, потому что за ручьем мы снова вышли на главную магистраль. Вскоре мы остановились перед селитрово-серой курией. Желтоватый свет карманного фонарика полосой пробежался по фасаду, заблестели осколки разбитых окон на первом этаже, крупные и острые, словно акульи зубы. Наконец, кольцо света остановилось на обваливающемся каменном гербе над воротами, это был пеликан, кормящий детей собственной кровью.
– Подходит? – спросил он, пытаясь найти ключ от ворот.
– Да, – сказал я.
Больше ничего я не смог из себя выдавить, хотя это поросшее мхом пеликанье гнездо было нашим семейным гербом, пока такие вещи не вышли из моды. Точнее, еще вовсю гибли в пламени фениксы, бурые медведи скалили зубы, и крылатые львы ревели на щитах гербов, еще вовсю жила и процветала вся геральдическая фауна, когда кровь, которой наша птица кормила детей, медленно и верно превращалась в воду. И вот моя мама в семнадцать лет уже могла, ни в чем себя не упрекая, выходить на сцену в роли Юлии, а я мог, ни в чем себя не упрекая, любоваться версией герба а-ля Гюнтер Вагнер на колпачке моей авторучки “Пеликан” [2]2
Немецкий химик, основавший в 1863 г. компанию “Pelikan”. В качестве товарного знака своей продукции Вагнер использовал пеликана – часть его фамильного герба.
[Закрыть].
Лет десять тому назад я несколько недель ходил к старьевщику, поскольку решил, что на Рождество я подарю маме наш старинный герб. Мы с господином Розенбергом уже перешли на шоломалейхем, но он продолжал предлагать мне авторучку, а я мечтал о пергаменте, в худшем случае о репродукции гравюры из меди, вырезанной из какой-нибудь старой книги. К тому же я не хотел отдавать ручку маме. У меня есть перо “Монблан”. Ни за что на свете не променяю бакелитовое белоснежное перо на каркающего пеликана с выводком детей, думал я. И когда я уже изучил план лагеря в Дахау, как свои пять пальцев, когда я мог поименно назвать часовых, когда я с закрытыми глазами находил дорогу к суповому котлу, даже во сне, как вдруг меня осенило, я пришел сюда исключительно потому, что никак не могу решить, “Монблан” или “Пеликан”, и сказал старому Розенбергу, можете продавать ручку коллекционеру, она мне не нужна, а он сказал, не валяйте дурака, к чему сантименты, с таким характером вы всю жизнь будете есть суп из потрохов с кормовой репой. Поверьте, вам куда больше подойдет это перо, чем сотня собачьих шкур. Отнесете его домой, осторожно промоете и заправите изрядной порцией народно-демократических чернил, потому что чернил у меня нет. И я целую ночь отмачивал его в теплой воде, чтобы механизм снова заработал, и вот он уже несколько недель работал, а я все еще не знал, что им начать писать. Потом кто-то поехал в Брюссель, с тех пор я писал этой ручкой письма маме от моей старшей сестры.
– Вы что, уже были здесь? – спросил священник.
– Нет. Но я постараюсь чувствовать себя как дома, – сказал я.
– Совсем недавно здание принадлежало дружинникам, – сказал он.
– Их времена прошли, – сказал я.
– Сзади, в яблоневом саду, они устраивали соревнования по стрельбе. Сперва они стреляли в нарисованную мишень, а затем в компанию влился живодер, и они стали стрелять в бродячих собак. Естественно, для тех, кто способен, как ваш священник, уничтожить весь приход священными облатками, подобное кажется, наверно, детскими шалостями.
– Сдается мне, вам недостает священного гнева, отец мой, – сказал я.
– Не шутите, из меня уже давным-давно улетучился священный гнев. Как вы думаете, почему из коронационной церкви меня направили сюда, в это захолустье у черта на рогах? По-моему, я отличный священник.
Он ковырялся ключом в замке, я светил ему фонариком, затем мы вошли в кухню, переоборудованную из спортзала, и он включил свет.
– Шведские стенки они, к сожалению, унесли с собой, но маты и козлы еще остались на чердаке.
– Снаружи все представляется как-то по-другому.
– Вы будете суп-пюре из сельдерея или суп с фрикадельками?
– Из сельдерея.
– Если что, могу зажарить омлет.
– Не надо, – сказал я. – От вас ушла повариха?
– Скажем так, жена. Брак был гражданским, но все равно правильнее сказать – жена.
– Что случилось?
– Ничего особенного. Я преподавал географию, она физику, затем в школу пришел новый учитель физкультуры. Думаю, подобные истории нередко случаются среди людей. Детей нет, к счастью.
– Вообще-то путь от развода до клироса не столь очевиден.
– Мне повезло. Скажем так: мне явился Господь. В школьной библиотеке я по ошибке вместо “Золотого осла” Апулея взял с полки “Исповедь” Августина.
– Для обращения это немало.
– Возможно, для начинающих даже слишком много. Сначала я с большим рвением относился ко всему, и скоро меня отстранили от преподавания. Я смирился и в тридцать лет поступил на теологию. Вот, собственно, и все.
– А что вы взяли с собой, когда вас направляли сюда, в это захолустье?
– “Исповедь” Святого Августина.
Пока на газовой плите грелась вода для супа из сельдерея, мы пошли за дровами и затопили в комнате для гостей, точнее, в оружейной комнате, еще точнее, в курительной комнате какого-нибудь древнего графа Веера, который, по моим подсчетам, приходился мне прадедом или прапрапрадедом, в худшем случае внучатым племянником моего прапрапрадеда. Впрочем, мне было особенно не на чем основывать эти подсчеты. Когда род уже увял, когда пошли на убыль кадастровые хольды и с ними ушли батраки, когда наполовину обглоданная баранья нога усохла до куриного огузка, купленного за тысячу пенге на черном рынке, когда стихли охотничьи трубы и раздался плач голодных детей, умолк лай легавых собак и ему на смену пришло стрекотание швейной машинки, штопающей рубашку, когда кровь, которой пеликан кормил детей, уже превратилась в воду, вот тогда в воображении потомков пышным цветом расцвели древние богатство и мощь. Таким пышным, что мама, игравшая на сцене Юлию, без каких-либо колебаний, втайне от всех, стала членом партии, выступавшей за восстановление Венгрии в прежних границах, и вылавливала из слухов, ходивших в театральном буфете, всякие волнующие истории о национализации. Господа, осуществлявшие национализацию, мимоходом заглянули и к ней, но в комнате, которую она снимала, они не нашли ничего стоящего, разве что фамильную скрипку, а рабочему классу на тот момент не нужна была скрипка. К тому же молодая актриса Веер скромно сидела на табуретке, невинно хлопала ресницами и смущенно улыбалась трем господам, осуществлявшим национализацию, которых чуть было не вывели из природного равновесия груди, просвечивающие сквозь халатик из искусственного шелка. А мама с большим интересом выслушала информацию про дотрианонскую Венгрию, и господа, запинаясь и смущенно покашливая, попросили прощения за беспокойство.
К тому моменту, как я стал обладателем старинного герба в виде символической перьевой ручки, телефонная книга предоставила нам самое обнадеживающее семейное древо. Я добывал для мамы не только пештские телефонные книги, но и телефонные книги из провинции. Я уносил их из телефонных будок, а если они были привинчены железной спиралью, я вырезал монеткой страницу с “дубль в”. Для мамы это было лучшим подарком, пока мы еще дарили друг другу подарки. Иногда под Рождество я раскладывал перед ней самые полные телефонные справочники, и она по очереди писала всем Веерам. Ей отвечали, но, в основном, что до переселения в Венгрию они были Веерхагенами или что дедушка был не Веер, а просто Вер, но это мешало семейному бизнесу, потому что “Вер” значит “кровь”, а с такой фамилией сложно вести врачебную практику, и все в таком духе. Интересно, что исконные Вееры никогда не отвечали. Молчали именно те, кто не в театральном буфете узнавал самые волнующие рассказы о национализации, для кого выселение было не просто экзотической историей, услышанной из третьих уст. Они не хотели переписываться с восьми– или десятиюродными родственниками, с членами семьи, которых никогда не видели, и спустя какое-то время я начал их понимать, но мама понимала их все меньше и меньше.
– Наверняка у них сменился адрес, сынок.
– Да, мама, у них много раз менялся адрес, но теперь наконец ложитесь спать, потому что уже пятый час, говорил я, и, когда понял, что имущество разрастается даже после его утраты, что древняя империя Вееров каждый год пополняется тремя комитатами, я стал уничтожать эту призрачную страну, эту гигантскую раковую ель. Сначала я сохранял осторожность, говорят ведь, человек сам рубит сук, на котором сидит, но потом мой топор разошелся, и много лет я отсекал ветки, простирающиеся в никуда, и корни, цепляющиеся за одну надежду, пока не достиг ствола, единственной реальностью во всей этой лжи была фамильная скрипка моей сестры.
Дрова были сырыми, напрасно мы их поливали бензином, буржуйку не удавалось разжечь. После третьей или четвертой попытки священник ушел за новой порцией газет, а я стал рассматривать книжные полки дружинников, переделанные из шкафов для оружия. Наконец нам удалось затопить, он принес красный свитер из голландской коробки с гуманитарной помощью, я повесил пиджак сушиться, и мы вернулись на кухню, которая, судя по лепнине, была предназначена скорее под салон, но никак не под кухню или спортзал. Пока он засыпал в кипящую воду порошок “Магги”, я достал из буфета тарелки.
– Признаюсь, я думал, вы будете больше восхищены, – сказал он.
– Из-за герба? – спросил я.
– Дело скорее в духе этого места.
– Ну не могу сказать, что мне совсем безразлично, но восхищаться тут нечем. Вероятно, мы с вами дальние родственники.
– Вы правда не хотите омлет? У меня есть лук и ветчина.
– Нет, спасибо, – сказал я.
– Я почему-то думал, что вас больше занимают ваши корни.
– Мои корни под сценой, – ответил я.
– В общем, вы из семьи артистов.
– Вроде того.
– Если вам неприятен этот разговор, я не буду его продолжать.
– Хорошо, – сказал я, и от этого атмосфера немного охладилась, я просто не хотел, чтобы разговор зашел о здоровье актрисы Веер, оставившей профессию. Мы молча съели по тарелке супа, затем он сходил за вином на другой конец кухни. Он налил, мы выпили, он снова налил, а мы все молчали, и, хотя о Боге я тоже не люблю говорить, равно как и о маме, я зачем-то сказал, начинайте проповедь, ведь это входит в ваши служебные обязанности. На что он сказал, когда мне предоставляется такая возможность, обычно все заканчивается провалом.
– Хотите оставить на потом? – спросил я.
– Слушая этой ужасный рассказ про Альберта Мохоша, я понял, что сейчас на вас не возымеет воздействия даже явление Господа во плоти. Даже если бы я выжал воду из разделочной доски, вы бы наверняка сказали: у вас отлично получилось, жаль только, что я не хочу пить. Потом захотите. Я подожду, – сказал он, затем снял рясу, повесил ее на крючок, прикрученный сбоку шкафа, и тогда я увидел, что руки у него усеяны шрамами и следами от уколов.
– Я хотел убить учителя физкультуры, – сказал он и надел свитер.
– Больше не хотите? – спросил я.
– Хочу. Но по-другому, – сказал он. – Сложно все. Тогда я полтора месяца провел в больнице. А теперь я просто молюсь за него.
– Словом, дожидаетесь, – сказал я, поскольку чувствовал, что, если я не говорю о маме, лучше и ему не говорить об учителе физкультуры. – На самом деле, вы первый священник, который не спешит со всем усердием ко мне на помощь.
– Не говорите, что удивлены. Вы все поняли еще в библиотеке, и кстати, иначе вы бы вряд ли позволили притащить вас сюда. Вместо этого вы прекрасно бы поговорили с директором школы об образовании и о сложностях в книгоиздательском деле.
– Возможно, вы правы – сказал я.
– Кстати, с неверующими справиться можно, но не с теми, кто ненавидит Бога, – сказал он, и мне вдруг показалось, словно мне плюнули в лицо. Прочь отсюда, думал я. Первым же поездом обратно в Пешт, думал я. Или сейчас же не мешкая вернуться к директору и есть куриную ножку ножом и вилкой, думал я. Потом напиться в зюзю и приставать к его шестнадцатилетней дочери, думал я. В конце концов, я уже целый год ни к кому не приставал, думал я. Завтра же пойти к Эстер и сказать ей, что я так не могу, думал я. Или мы попробуем жить, как нормальные люди, или пускай она убирается из моей жизни. Пусть выметается обратно в свои хвойные леса. Гдетыбылсынок? Я говорил о Боге, мама.
– Я никогда не испытывал ненависти к Богу, – сказал я и закурил.
– Ну, конечно. Как к продавцу, который вас обвесил минимум на сто грамм, когда вы покупали конфеты. Надо сказать, вы довольно инфантильно мыслите о Боге. И довольно интеллигентно, раз вы это осознаете. К тому же довольно талантливо, поскольку вы смогли так душераздирающе об этом написать. Мне продолжать?
– И довольно трусливо, поскольку вы не хотите отказаться от своего искаженного представления, боитесь, что тогда вы не сможете сочинять душераздирающие истории.
– Ну вот видите, вы все понимаете.
– Еще бы не понимал. Я следую вашей логике. И возможно, в общих чертах все сходится. Я не доволен только образом продавца. Во-первых, я никогда не ходил в магазин за конфетами. Во-вторых, я думаю, что нас всех обвесили. И я буду вынужден так думать до тех пор, пока не выживу из ума и не воображу, что я единственный, кого обвесили.
– Или пока однажды утром вас не начнет тошнить перед зеркалом. И поэтому я считаю, что у кого такое представление о Боге, у того нет ни малейшего шанса уверовать в него. Пока вас однажды не стошнит.
– Возможно, – сказал я. Я налил. Мы выпили. Он снова налил.
– Это последний стакан. Я хотел бы уехать на поезде в полдевятого.
– В девять есть прямой. Завтра я отвезу вас на станцию.
– Спасибо, – сказал я. – Кстати, вы не представляете, отец, как бы я был благодарен, если бы за супом “Магги” из сельдерея и за несколькими стаканами вина моя уверенность в отсутствии высшего промысла была бы поколеблена. Потому что ее-то у меня как раз в избытке.
– Не сомневаюсь.
– Честно говоря, я почти завидую тем, кому достаточно по ошибке взять не ту книгу в библиотеке.
– Здесь другое. Намного легче тем, над кем небо пустое, чем тем, кто поместил туда свое ошибочное представление о Боге.
– Я просто не знаю лучшего, отец. Не в моих принципах наделять Бога добродетелями, о которых я знаю только понаслышке. И боюсь, что мне придется еще пожить с этим моим ошибочным представлением.
– Конечно. Я сказал, я подожду. Дать вам пижаму?
– Лучше какое-нибудь шерстяное одеяло, пожалуйста.
– Возьмете в шкафу. Повесьте его ненадолго на печку, я обычно так делаю.
Утром я проснулся, оттого что мужчина в рясе, стоявший возле моей кровати, прикасался большим пальцем руки к моему лбу, примерно так делают, когда крестят или когда дают последнее причастие. Несколько мгновений я судорожно рылся в воспоминаниях о вчерашнем дне, где я и кто этот человек. Кошмарный сон, должно быть, достиг своей кульминации, когда я проснулся от прикосновения святого отца, и его палец стер все, что я видел во сне и что меня тревожило. Где бы я ни спал, я долго нахожусь под впечатлением от своих снов.
– Проснитесь. Я уже отпустил вам ваши грехи за вчерашние ругательства. Плюс причастил двенадцать человек, и пока все живы, – сказал он, на что я сказал: счастливая деревня, местный священник верит в Бога. Потом за кофе я спросил про большой палец, я хотел узнать, было это первое причастие или последнее.
– Не все ли вам равно? – спросил он.
– Вы правы, но иногда человеку хочется думать, что не все равно, – сказал я.
Самая короткая дорога к станции шла через цыганскую часть деревни. Священник на своем вездеходе объезжал лужи между полуразвалившимися и недостроенными хибарками и время от времени нажимал на гудок, чтобы отогнать полуголых детей, лезших под машину. На некоторых не было даже трусов, сверкая босыми пятками и голыми задами, они бежали рядом с гудящей машиной. Самые проворные цеплялись за ручки машины, ухмыляясь, заглядывали в окна, другие прыгали по камням, торчащим из луж, и от этого казалось, словно они бегут по воде. Но выше голого паха все они были одеты в одинаковые красные свитера, в точности, как у меня, потому что на прошлой неделе с голландской гуманитарной помощью прибыло пятьсот красных свитеров, и это ужасало сильнее, чем их дома, накрытые полиэтиленом вместо черепицы. Бесчисленные красные заграничные свитера казались более зловещими, чем окна, завешенные шерстяными одеялами, и костры, разведенные в комнатах, состоящих из трех стен, и женщины, усевшиеся на бетонных лестницах, ведущих в никуда. Все-таки в лестнице, ведущей в никуда, есть что-то человеческое.
К горлу подступила тошнота, и сначала я подумал, что это просто из-за тряски в машине или от огромного количества гуманитарных пуловеров, но в следующее мгновение я вспомнил свой последний сон до мельчайших подробностей. Я сидел в сторожевой будке на кровати, сколоченной из досок, слушал треск поленьев, пылающих в буржуйке, смотрел в окошко, как светает над лесом, и ждал, когда начнется рабочий день. Наконец в яме неподалеку стали просыпаться охотничьи собаки. Они, рыча, царапали землю, хватали зубами голые кости, выгрызали костный мозг из позвоночников и сглодав очередные останки, каждое утро ждали еще. Я надел суконное пальто, взял палку с крючком и пошел за дом, к сараю, где лежала падаль, за очередной порцией. В этом состояла моя работа: два раза в день кормить собак, не спрашивая, кто эти мертвецы. Собственно говоря, спрашивать было не у кого. Раз в неделю и всегда ночью сарай наполняли новой падалью. К тому моменту, как я проснулся, там были женские и детские останки. Все тела без исключения были очень красивыми, только их неподвижность и сладковатый запах выдавали, что они мертвые. Я спокойно мог протянуть палку к любому, затем я должен был зацепить его крючком за шею, и обняв, словно спящую любовницу или больного ребенка, отнести на другой конец лужайки в яму собакам. И пока я шел эту пару сотен шагов, я любовался холодной неподвижностью тела, которое держал в объятиях. Я знал, что на этой тропинке могу думать и чувствовать, что захочу. И никто мне не помешает, никакой распорядок ни на что не повлияет. Некоторых я молча нес от сарая до ямы, но некоторым рассказывал, например, о местном лесе – из-за лишайников деревья словно заплесневели, и в отличие от других лесов, у нашего леса нет корневой системы. Посмотри, говорил я одной старухе и отодвигал ногой прошлогоднюю листву. Посмотри, это просто дощатый настил, не бойся. В глубине души я знал, что она не боится, она ведь мертвая. Ей все равно. Ну вот, отсюда ее можно спокойно бросить собакам. Хорошо, что я держу их в объятиях, волочь за ноги, это так некрасиво. Я попробовал пару раз, и мне не понравилось. А теперь я вальсировал с маленькой девочкой, потому что видел, ей хочется потанцевать. Я подкрасил ей губы брусникой, ее восьмилетнее тело было легче осенней листвы, и, когда мы кружились, ветер сдувал мне в лицо ее волосы. Раз-два-три, раз-два-три, кружась, мы проделали путь к охотничьим собакам, но я не забывал о своих обязанностях, знал, что после, на краю ямы, мне придется сбросить ее вниз – с высоты в шесть локтей. Я не смогу сделать исключение даже для нее. И я было приготовился сбросить ее собакам, клацающим зубами, как вдруг она открыла глаза и спросила, если я так восхитительно танцую, зачем я согласился на эту работу. На что я сказал, больше я ничего не умею, надо же мне на что-то жить. Я больше ничего не умею, поэтому меня направили сюда, в отделение питания, сказал я, и затем, все еще кружась в танце, я отпустил ее талию, но она летела к собакам не так, как остальные трупы, она парила, как перышко, и смеялась, а собаки уже рвали ее на части, и лес все звенел от ее смеха. И тогда я внезапно почувствовал, что схожу с ума. “Отпустите! – кричал я собакам и швырял в них палками и камнями. – Она живая! – кричал я. – Вы все подохнете! – кричал я, но они продолжали рвать ее, а девочка смеялась, и от ее крови трухлявый лес наполнился мятным запахом. – Ты, шлюха подзаборная! – кричал я. – Ты не сделаешь из меня убийцу!” – кричал я, потом побежал между деревьями, но я знал, ничего уже не поделаешь, и изо рта у меня полилась рвота.
– Это вы на нищету так реагируете? – спросил священник, но я только махнул рукой, проехали, и не чувствовал даже обычного стыда, который бывает, когда я ловлю себя на том, что ухожу в себя настолько, что не замечаю окружающей действительности. Думаю, отчасти поэтому равнодушные люди внезапно начинают помогать другим людям. Чтобы испытывать хотя бы чувство стыда. Человек любит уличать себя во лжи, ведь говорить господину Розенбергу, что авторучка мне не нужна, это весьма напоминает ситуацию, когда голландские швейные производители говорят, что эти пятьсот фирменных бракованных свитеров им не нужны.
– Нам надо спешить, – сказал я. Позади остался цыганский квартал с его мужчинами-конокрадами, с его лестницами, ведущими в никуда и с его малолетними отпрысками в заграничных пуловерах. Квартал напоминал бродячий цирк, в котором не на что смотреть, кроме как на худосочного льва, лакающего из умывальника.
У меня не было обратного билета, потому что пятнадцать лет я неизменно говорил кассирше на вокзале: только туда. Думаю, примерно так же Юдит говорила о своей поездке в каком-нибудь адриатическом порту, когда, держа под мышкой узелок со сменой белья и скрипку семьи Веер, она просила ка-кого-нибудь портового грузчика, чтобы он был так любезен плюс тысяча долларов, и освободил для нее небольшое местечко среди грузов югославской тяжелой промышленности. В общем, возле окошечка кассы я вдруг понял, что даже покупая билет домой, я вынужден повторять: только туда. Хотя мне уже все равно, подумал я и тут же заплатил за билет, потому что поезд уже свистел вдали.
– Возьмите это, – сказал священник, когда я стоял на ступеньках вагона, и вложил мне в руку книгу в кожаном переплете.
– “Исповедь”? – спросил я.
– Ну не шутите. Этого автора вы не знаете.
– Хорошо, – сказал я и положил книгу в карман пиджака. – Значит, подождете, пока я уверую?
– Не волнуйтесь, у вас будет время над всем подумать.
– Возможно, вы были правы. Нужно, чтобы сперва меня стошнило. Вдруг получится обратить сердце мое к Господу.
– Не надо его обращать. Оно и так обратится.
Мало кто ездит на поезде в понедельник утром. Ни рабочих, ни туристов, ни контрабандистов, которые спешат со своими товарами на загородные рынки, только пара менеджеров с портфелями, теперь и они начали, пока по одиночке, ездить на поезде, но шеф говорит им, через год будут “сузуки-свифт”, на “сузуки” можно будет возить в Пешт наборы позолоченных столовых приборов, и семью на Балатон. Вот увидите, посетительницы бутиков в центре будут раскупать их, как горячие пирожки, наступил сезон. А теперь почему вы грустите? Что с того, что вы не можете внести залог за пятьдесят грязных никелированных столовых наборов? И не говорите мне ничего про счет за электричество, будьте же, наконец, мужчиной. Используйте свой шанс. Посетительницы бутиков уже во время открытия вывесили табличку, мы ждем вас, менеджеры, не томите нас, а кто не вывесил, у того уже есть набор позолоченных столовых приборов в дипломате, и они ждут другого менеджера, который торгует мультивитаминной косметикой от производителя или леопардовым бельем, потому что леопардовое хорошо пошло, в “Роби” его прямо-таки расхватали. Словом, такие вот менеджеры ездят на утренних поездах, и еще люди с гвоздиками и бутылками с водой, которые спешат в больницу, и еще те, кто бегает по учреждениям и хлопочет о компенсации, в карманах у них договора о купле-продаже поля за три золотых кроны, написанные химическим карандашом, или свидетельские показания соседей по камере, которые удостоверяют, что после двенадцати лет заключения они пешком пришли домой с берегов Енисея. Какого хрена, где я вам достану акт об освобождении?! Те, кто не успел отморозить себе руки, сразу подписали бумагу, что они никогда здесь не были, затем часовой в воротах лагеря дал нам пинка под зад, чтобы мы поскорее убирались отсюда, и мы не рискнули забраться в кузов грузовика, боялись, что нам будут стрелять в спину. Да вы в своем уме, молодой человек? Вы думаете, это пидоры продырявили мне уши, чтобы вдеть сережки? И не ссылайтесь мне на параграф, посмотрите сюда, это не дырка от пидорской сережки, это крыса прогрызла мне ухо в бараке! Очень жаль, что я не проснулся, уж тогда-то поели бы мы мяса! Короче, в основном такие люди садятся на поезд в понедельник около десяти, и найти пустое купе было куда сложнее, чем на рассвете, когда ездят рабочие, или в выходные, когда ездят туристы, потому что они скопом набиваются в одно купе, шестнадцать человек устраиваются на восьми сидячих местах, ругают мастера по цеху или учителя физики, по кругу идет бутылка, играет магнитофон. А все эти менеджеры, посетители больниц или выбивающие компенсацию хотят побыть в одиночестве, они задергивают шторы, на станциях притворяются спящими, чтобы новые пассажиры не мешали им, а если у двери работает задвижка, они закрывают и ее, чтобы только контролер мог войти в купе.
В последнем вагоне я нашел пустое купе, закрыл дверь, повернул задвижку, задернул шторы и подумал, будет лучше, если историю священника Альберта Мохоша я отправлю в желтое досье, где я собирал неудачные рассказы. Старая нотная папка Юдит была чем-то вроде позорного столба для провальных опусов, выбрасывать мои нелепые рассказы на помойку или в печку у меня духа не хватало. Мало того, я держал желтую папку на столе, среди остальных рукописей, корректур и прочих бумаг, чтобы мама могла читать их в мое отсутствие. Так проходило наше общение. Пока я был дома, она редко переступала порог моей комнаты, но стоило мне отлучиться, она переворачивала все вверх дном, наполняла комнату тяжелым запахом косметики, проливала мятный чай, разбрасывала волосы. Мои рукописи были липкими от ее размазанной помады и туши для ресниц, потому что где-то она слюнила палец, где-то терла глаза. Но я не заговаривал с ней об этих следах, я мог бы запирать свои бумаги в ящик письменного стола, но она все равно была не первой, кто их читает.
В поезде я не могу ни писать, ни читать, потому что сельские пейзажи, проплывающие мимо, навсегда вкрадываются в мои впечатления от прочитанного. Даже вид захудалой придорожной лесополосы непременно оставит свой отпечаток на великолепных описаниях природы, которых так много в книгах, я вспомнил об этом потому, что люди, например, мне читать не мешают. Я могу абсолютно спокойно читать на эскалаторе, на трамвайной остановке или в пивной, разговоры завсегдатаев за соседним столом никогда не мешали монологам старца Зосимы или Мармеладова, одно отлично дополняло другое. Мало того, иногда было несказанно интересно слушать споры о розыгрыше кубка и параллельно листать “Критику чистого разума”. Только пейзажи мне мешают, чему я вовсе не рад. Я немного завидую тем, кто способен сидеть с книгой на острове Маргит, или с бумагой и ручкой в беседке, увитой розами, я так не могу. Поэтому я даже не пытался начать читать книгу, которую мне вручил священник, а просто смотрел в окно на пусту и ждал проводника, чтобы тот проверил у меня билет. Уже много лет я панически боюсь, что проводник найдет в моем билете какую-нибудь ошибку и высадит меня на ближайшей станции, глупость, конечно. Да где же этот хренов проводник, думал я, и скоро до меня дошло, что я уже не боюсь проводников. Даже если он сейчас меня высадит, я четыре дня буду бродить по пусте, и в этом, несмотря ни на что, есть свои плюсы. Без меня ты даже кран не способна открыть, мама, думал я. Если очень проголодаешься, будешь есть меньше хлеба, только и всего, думал я. Потому что Господь Бог не побежит в магазин на углу, думал я. Все-таки тебе определенно не обойтись без хлеба, мама, думал я. Без лучшего белого хлеба из пекарни Ракоци, думал я. Если в проводнике будет хоть что-то человеческое, он найдет ошибку в моем билете и вышвырнет меня из бегущего поезда прямо в пусту, а ты пойдешь и спокойно купишь себе хлеба, думал я. Пятисот франков в месяц вполне хватает на капли Береша (от которых никакого толку) и на косметику (разумеется, ее все равно никто не видит), думал я. Кстати, не младшая сестра, а старшая сестра, это ты давно бы уже могла выучить, думал я. Так мы вдвоем решили, когда нам было семь лет, думал я. Глупо всю жизнь ссориться из-за получасовой разницы в возрасте, думал я. Пока вы репетировали какое-то ревю-рабочего-движения, мы в суфлерской будке играли в гляделки, думал я. И кто дольше смог выдержать, не моргая, стал старшим, и больше мы об этом не спорили, думал я. И тебе об этом сказали, думал я. С тех пор я помнил, что Юдит моя старшая сестра, думал я. Добрый день, билет, пожалуйста, сказал проводник. Прошу вас, сказал я. По крайней мере, могла бы притвориться, что ты помнишь и о других неприятностях, а не только о прорыве плотины или о глазном кровоизлиянии, думал я. Здесь не курят, сказал проводник. Простите, сейчас я выйду в коридор, сказал я. Несомненно, проблемы в половой сфере привлекают внимание окружающих, думал я. Достаточно, если вы закроете окно, сказал проводник. Не важно, сказал я, то есть спасибо.