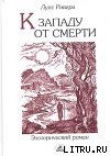Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Я хочу, чтобы ты переехал ко мне, – сказала она.
– Ты же знаешь, что нельзя.
– Поверь, все возможно. Я не говорю, что сразу или что ты должен бросить маму. Я всего лишь хочу, чтобы мы жили по-человечески. Не только мы, она тоже.
– Только Христос умел воскрешать покойников.
– Я говорю не о покойниках, а о твоей матери. Она не пошевелится, пока есть тот, кто закроет дверь, и сходит за продуктами, и будет отправлять фальшивые письма. К тому же, думаю, она знает, что это ты их пишешь.
– Если бы она знала, я бы это понял.
– Возможно. А впрочем, сейчас речь о другом. Я хочу, чтобы ты позвал домой Юдит. Только она может тебе помочь.
Поднялся ветер, я укрылся шерстяным одеялом и молчал.
– В свое время я наводил справки о ней, но никто ничего не знал. Наверняка сменила имя.
– Цюрихский банк может сказать, с чьего счета отправляют деньги.
– Исключено. В тот же день они прекратят отправлять.
– У меня есть знакомые в Красном Кресте. Они найдут ее, точно тебе говорю.
– Возможно, найдут, но они не дадут мне адрес без ее согласия.
– Почему ты не хочешь найти ее? – спросила она.
– Наверное, хочу – сказал я.
– Если сомневаешься, значит, не хочешь, – сказала она.
– Нет же. Хочу.
– Чего ты боишься?
– Не знаю.
– Хочешь, я скажу чего?
– Конечно. Но от этого не легче.
– Ты видел?
– Что?
– Звезда упала.
– Я не видел.
– Отыщи и поезжай за ней. Не пиши, а поезжай.
– Хорошо, – сказал я и встал, затем зашел в воду, но глубоко зайти не осмелился, поскольку у меня было ощущение, что вместо песка под ногами рвота.
Однажды в вечерних новостях сказали, что будут выплачивать компенсации. Пока неизвестно, когда и сколько станков подучат назад внуки Манфреда Вайса и внуки Гедеона Рихтера, непонятно, принесут ли Сибирь и пятьдесят шестой дополнительные выплаты пострадавшим, зачтут ли узникам концлагерей пребывание в Дахау, но что-то определенно будет, не сомневайтесь, дорогие телезрители. Даже тот факт, что мы обсуждаем данную тему в лучшее эфирное время, уже кое-что да значит. Можно сказать, вот она, долгожданная свобода. Словом, земли, и лесов, и замков, переоборудованных под тракторные станции, полным-полно, имущество ждет своих законных хозяев. Поэтому будьте любезны, достаньте с чердаков или из кухонных шкафов купчие и договора об аренде, а теперь переходим к прогнозу погоды – мама попросила меня принести ей “Лексикон” Реваи [10]10
Большой толковый словарь венгерского языка, выходил с 1911 по 1935 гг.
[Закрыть], “Комитаты Венгрии”, всевозможные атласы и геральдические книги и принялась выписывать, что принадлежит ей. Маме было наплевать, что из окна какого-нибудь дворца открывается вид на заснеженные вершины Раднаи или на братиславский спальный район, ее не смущали ни границы, ни мирные пакты. Она выселяла музеи и распускала дома престарелых, она вносила в реестр все, что по ее представлениям когда-либо могло принадлежать Веерам, она написала целый список из давно перестроенных улиц, давно разрушенных во время бомбардировки заводов и давно обвалившихся шахт.
– Дай сюда калькулятор, сынок.
– Держите, мама. Поднесите под лампу, он работает только на свету, сказал я. И она подсчитала, сколько пшеницы родится на пятидесяти тысячах гектаров и сколько кубометров леса дадут половина Матры и четверть Баконя. Бессмысленно было объяснять ей, что у нас есть только эти восемьдесят квадратных метров и что даже у прабабушки было ненамного больше, а уж у бабушки и подавно, что один наш дворец находится за границей, а в другом разместили детдом. Я раздобыл необходимые формуляры и помогал их заполнять, хотя мамин паспорт был давно просрочен. Затем она положила в пакет многокилограммовый список размером с добротную семейную сагу, прилепила сверху какую-то старую марку, и я запер все это в ящик стола.
Затем на наш адрес пришел такого же размера сверток, вместо имени отправителя на нем было написано, чай готов. Сначала я хотел отправить его обратно, не вскрывая, но подумал, чем черт не шутит, приготовил кувшин мятного чая, раздобыл несколько пачек домашнего печенья и принялся за корректуру. Гораздо легче было бы, если бы Эстер помогала, но я не хотел, чтобы она снова имела дело с этой женщиной. Я не напоминал Эстер, что подошла пора отдавать рукопись на верстку, я читал свою книгу с транспарантом, как ученики начальной школы. На исправления ушло три дня, поскольку корректор не желала понимать, что, например, гдетыбылсынок – это одно слово, и что в сердитом восклицании Господибожемой первая буква заглавная – просто так, для приличия. Закончив работу, я отправил корректуру по почте бандеролью, но через несколько дней она вернулась, потому что вместо адреса издательства я написал Отделение компенсаций, и в Отделении абсолютно правильно решили, что без правильно заполненного формуляра мое требование о возмещении не примут к рассмотрению. Поэтому я взял несчастную корректуру и пошел на Андрашши, чтобы там запихнуть в почтовый ящик в подъезде.
– Наконец-то, – сказала она, открыв дверь.
– Он не влезал в ящик, – сказал я хладнокровно, поскольку сперва дождался, пока пройдет волнение, и только потом нажал кнопку звонка.
После второго звонка она выбежала из душа. Белый халат прилипал к искусственному загару, из-под белого полотенца, обмотанного тюрбаном на голове, еще текли капли по шее, но даже после мытья от каждой клеточки ее тела разливался все тот же терпкий миндальный запах, что и от маминых простыней в корзине с грязным бельем. Как будто они вдвоем потеют цианидом. Я достал из холодильника бутылку вина и принес из кухни два бокала, точно я был у себя дома, или у Эстер.
– Завтра я иду в театр. Пойдешь со мной? – спросила она, встряхнула пузырек, поставила ногу на тахту и стала покрывать лаком ногти на ногах.
– Я не хожу в театр, – сказал я.
– О, пардон. Я и забыла о твоих душевных травмах. Кстати, в следующий раз позвони бедной девочке, прежде чем исчезать на несколько дней. Как-то неловко, когда она ищет тебя в издательстве. Вдруг еще проговорюсь.
– Не смей, – сказал я.
– Кто мне запретит?! И вообще, мы не на вы? Я тебе в матери гожусь.
– Избавь меня от сравнений, – сказал я.
– Только не надо фамильярничать. Фамильярности я почему-то не люблю.
– Тогда в следующий раз представляйся, прежде чем раздвигать ноги.
– Не понимаю, зачем делать из этого проблему. Не ты первый трахаешься с любовницей своего отца. Пора научиться аккуратней обходиться с подобными вещами. По крайней мере, это не менее важно, чем английский.
– Возможно, во мне еще осталось что-то человеческое.
– Где-то я это уже слышала. Замечу, ты отлично чувствуешь, много ли в тебе осталось человеческого. Вспомнила: вчера я отправила в Париж ознакомительный перевод. Думаю, они издадут книгу. В ней столько трогательного целомудрия, что сегодня это кажется уже аномалией.
– Меня это не волнует, – сказал я.
– Разумеется, – сказала она.
– Мне лучше уйти, – сказал я.
– А, собственно, зачем ты пришел?
– Наверное, трахаться, – сказал я.
– Видишь, солнышко, опять я слышу что-то человеческое. Ни один кобель не скажет это своей суке с такой нежностью.
– Думаю, за это ты любила моего отца, – сказал я.
– Не смеши меня. Вот своего кота я любила. Но с ним было довольно проблематично трахаться. И маму твою любила, пока она не прокрутила моего кота через мясорубку. Кстати, из его прокрученного мяса она готовила вам детское питание. Папуля чистил морковку, я варила, мамуля крутила мясорубку. Четкое разделение труда.
– Мне действительно лучше уйти, – сказал я и встал.
– Как скажешь, солнышко. Иногда человеку полезно знать, насколько он может смотреть правде в глаза. Тем более я не слишком люблю вспоминать о прошлом.
– Кажется, я готов услышать правду, – сказал я.
– Тогда располагайся. У меня далеко не такое буйное воображение, как у тебя, хотя я стирала твои пеленки.
– Возможно, ты знала мою маму, возможно, ты даже спала с моим отцом, но я не верю, что ты когда-то стирала пеленки, – сказал я.
– Один год, четыре месяца и двенадцать дней я жила у вас, пусичек. Не скажу идиллия, но жили, и ничего.
– Интересно. Но я помню даже родильную комнату, – сказал я.
– Значит, ты наверняка помнишь, что, пока твоя мама пела рабочие песни в провинциальных домах культуры, а твой отец крапал в министерстве внутренних дел фальшивые свидетельские показания и протоколы допросов, кто-то подтирал ваши попки.
– Мой отец был критиком, – сказал я.
– Естественно, зайчик: это хорошее признание, а это плохое признание. Не расстраивайся, не он решал. Он был скромным сексотом. А дома отыгрывался. Если тебя это успокоит, товарищ Иордан похлопотал, чтобы твой папенька стал канцелярской крысой в МВД, только ради своей дочери. Чтобы ее классово чуждой подруге быстрее дали квартиру.
– Тогда, думаю, это ты устроила мою мать в театр.
– Не я, пусик. А вот меня через пару лет по милости твоей мамы уволили из всех театров. В принципе, это даже к лучшему, я никогда особенно не любила драмы. И ты тут ни при чем. Хотя что греха таить, меня саму удивляет, что с тобой так приятно трахаться.
– Ты смешная, – сказал я.
– Вижу, мы быстро перешли границы допустимого, – сказала она.
Что бы она ни сказала, меня это не волнует, думал я.
– В конце концов, это может быть просто материнский инстинкт, – сказала она и снова встряхнула пузырек.
Все равно. Не волнует, думал я.
– Твоя мама тоже не хотела смотреть правде в глаза. Скорей всего, от этого она и свихнулась, – сказала она и поставила на столик другую ногу.
Я больше никогда в жизни не ударю женщину, думал я.
– Если подуешь, быстрее высохнет, – сказала она.
– Поищи кого-нибудь другого, – сказал я.
– Сначала ты вроде бы за этим сюда пришел.
– Я передумал, – сказал я.
– Да ну, заинька. Сейчас у тебя будут грязные брючки.
– Выстираю, – сказал я.
– Передашь мне сумку? – спросила она, и я передал. Она минуту искала что-то и потом сунула мне в руку две батарейки “Голиат”. – Немного мужской работы. Поставь в силикон. Он в ванной, – сказала она, и сперва я не понял, что такое силикон, но потом она пояснила, фаллоимитатор, солнышко.
Когда на рассвете я вышел на побитый ливнем проспект Андрашши, я все еще чувствовал что-то вроде дрожи, как у диких зверей – когда сломается ветка, или если ветер вдруг поднимет листву, но вскоре решил, что она хочет меня убить. Да, банально укокошить. Она что-то подмешивает мне в чай. Есть такой химикат, который нельзя обнаружить в лаборатории и который поздно действует, словно крысиный яд. Он убивает только через несколько дней, чтобы другие крысы не догадались, думал я, и больше уже не пил чай. Потом я еще подумал, что она больная. Да, у нее лейкемия. У таких женщин всегда лейкемия. И она молчит, чтобы убрать с дороги Эстер. Скорее всего, она ненавидит Эстер почти как маму, думал я. Просто она пока что не искала встречи с ней, потому что очень подлая, думал я. Она хочет убийства, а не сцен, думал я, и, когда трое суток подряд я не мог заснуть, я пошел сделать анализ крови, а ведь последний раз, когда я позволял врачу дотрагиваться до себя, был еще в глубоком детстве.
И каждый раз я выходил из квартиры, как в последний раз, но не выдерживал дольше недели. Как наркоман в итоге приноравливается втыкать шприц, так и я научился подправлять бритвенным лезвием следы от ногтей на шее, чтобы выглядело, будто я поранился во время бритья. Я научился валить все на никогда не существовавших знакомых, несчастные случаи на дороге и на вагоны метро, вставшие в тоннеле из-за угрозы бомбардировки. Научился приводить себя в порядок в клозете “Балканской жемчужины” и, вылив на себя пол флакона крем-мыла, с помощью запаха хлорки отбивать терпкий миндальный запах.
– Это ужасно, от тебя опять пахнет хлоркой, – говорила Эстер.
– Тогда отмой меня, – говорил я, и, когда мы занимались любовью, она так визжала, что соседи думали, что я приставил ей нож к горлу, но до этого пока не доходило. И когда я узнал, что мой отец исчез не потому, что умер в результате несчастного случая – и не будем больше об этом, сынок, – а потому что забыл вернуться из Хьюстона, куда поехал сопровождать делегацию журналистов, хотя и был ответственным за то, чтобы все вернулись, и, когда я узнал, что незадолго до этого товарищ Иордан на деньги от продажи бумаг, украденных из бронированного шкафа, создал весьма и весьма прибыльное дело, но потом им заинтересовались в отделе по производству грампластинок, и товарищ Иордан – зная правила игры – застрелился из служебного пистолета, вот тогда Эстер спросила, ради бога, что стряслось, ты снова выглядишь так, будто съел мелок.
Так нельзя жить, так даже животные не могут, думал я. Я немедленно расскажу весь этот кошмар, думал я. Когда я вышел из подъезда, я увидел Эстер, она сидела напротив, на террасе кафе “Артист”. Она даже не взглянула на меня, положила деньги на стол и кинулась прочь, и я не смог догнать ее. Всего на мгновение у меня закружилась голова. Так бывает, когда человек слишком резко останавливается. Затем уснули фонари на улице и огни витрин, умолкли машины, и под ногами исчез тротуар. Я просто провалился в темный, как ночь, водоворот, точнее, что-то провалилось, и не как ночь, потому что ночью еще что-то видно. Из Оперы как раз выходили люди. Один мужчина сказал, оставь, он пьян, но другой поднял меня и нащупал сонную артерию.
– Надо вызвать “скорую”, – сказал он.
– У меня нет мелочи, – сказал другой, затем я услышал женский голос: у меня есть, и пока она рылась в ридикюле, я уже прозрел, правда, все было черно-желтым, как после фотовспышки, выстрелившей в глаза.
– Не надо, – сказал я и попытался подняться.
– Не двигайтесь, мы сейчас вызовем врача, – сказала женщина.
– Не надо, – сказал я и, цепляясь за чью-то руку, с трудом поднялся на ноги.
– В таком состоянии он не дойдет, – сказал мужчина.
– Пустите! – сказал я и вырвал руку.
– Какая глупость! – услышал я женский голос, но я уже бежал, и, когда удостоверился, что они не гонятся за мной, я отдышался перед каким-то подъездом.
Я пешком дошел до улицы Нап, как будто эти полчаса что-то решают, как будто за это время может случиться чудо. Надо было позволить им вызвать “скорую”, думал я. Наверняка она бы пришла в больницу, думал я. Когда ставят капельницу, подобные вещи не играют роли, думал я, затем кто-то заорал на меня из машины, мать твою за ногу, ты что, ослеп?! А если сейчас начнут стрелять, думал я. Если русские перестреляют весь Будапешт, думал я. Когда в любимого стреляют, не до ревности, думал я. Тогда забываешь обо всем и тащишь его, раненого, в подвал.
Она ничком лежала на матрасе.
– Мне противна эта женщина, – сказал я, но она не отреагировала. Зажегся фонарь на улице, хотя лучше бы я ничего не видел. – Я ненавижу ее, поняла? Просто не могу бросить, – сказал я, и только тогда она открыла глаза.
– Что забросить? – спросила она сонно и протянула руки, чтобы я обнял ее. – Я уж думала, ты не придешь сегодня, – сказала она, и тогда до меня дошло, что на ней нет ее светло-серого платья.
Прежде чем прийти к Йордан в последний раз, я долго и тщательно составлял заключительную речь. С точностью инженера, вооруженного транспортиром и линейкой, я просчитал место для каждого слова и для каждого движения, заранее сочинил и выучил все фразы. Перед дверью я еще раз повторил все, выдохнул и затем позвонил. По моему плану, этот визит ничем не должен был отличаться от предыдущих.
Она собиралась на какой-то фуршет в посольство, пригласила меня пойти с ней, один светский раут не нанесет вреда здоровой половой связи, убеждала она. Она рассказывала о каких-то текущих делах, достала из ящика стола пистолетную пулю, которая попала в стену, прежде чем раздробить череп товарища Иордана. Пуля была вправлена в серебро, золото Эва не любила. Одно время она носила ее как своеобразный сувенир в память о смерти, тогда она еще была склонна к сентиментальности. Кстати, думаю, гораздо сложнее вправить использованный патрон, чем, например, с помощью двух рабочих сцены украсть со склада несколько сносных декораций, заявила она. Конечно, она знает, что мне в жизни досталось не меньше, чем ей, но отчего-то не может забыть прошлое. Наверно, еще один раз, если ты заслуживаешь, сказала она. Можете быть уверены, сейчас заслужу, сказал я и схватил ее груди, пахнущие цианидом, и, пока стаскивал с нее тряпки, снова повторил про себя все и затем встал.
– Если честно, ты мне противна, – сказал я. – Думаю, когда мы начинали играть в животную страсть, ты рассчитывала заполучить что-то вроде домашнего животного. Но вместо фокстерьера ты подобрала гиену, – сказал я. – Если не можешь удовлетворить себя в одиночку, я охотно пришлю тебе кого-нибудь. Возможно, ты еще успеешь на фуршет, – сказал я и надел пиджак.
– Ты сам себе противен, золотко, но все не так просто. Ты даже не представляешь, сколько всего человек может простить собственной письке, – сказала она, и даже на лестничной площадке я слышал ее натянутый смех.
– Гдетыбылсынок?
– По сути, с вами, мама.
В районе еще никто не видел ее, но слышали о ней все. Говорили, что эта девушка не что иное, как новое сенсационное чудо-оружие, для жизни опаснее напалма, и где ее бросят в атаку, там начинают звенеть кассовые аппараты, люди расхватывают нижнее белье, как в сорок четвертом хватали гитлеровскую солонину. Домохозяйки тайком откладывали деньги, покупали теперь свиные сосиски вместо куриных, или чаще экономили на воскресных печеночных паштетах, лишь бы скопить деньги на чудо-комбидрес. На груди кружева, внизу заклепки, и сколько браков, находящихся на грани, пытались реанимировать с помощью этого комбидреса. Потом в понедельник утром появились постеры на витринах пассажа “Золотой паук”, и, поскольку приходилось ждать, люди толпились перед Наоми, снятой в натуральную величину. Наоми с неподвижным лицом улыбалась всем: от сисястой шлюхи до субтильной фифы, но кассовые аппараты безмолвствовали, поскольку выяснилось, что, для того чтобы получить комбидрес, нужно еще минимум полгода отказывать себе в воскресных печеночных паштетах. Дядя Лигети подобрался к Наоми ближе, чем остальные, потому что его девушка работала кассиршей в Уйпеште, так ему удалось заполучить Наоми в натуральную величину. Когда они с господином Вертешем постелили постер на пол и на четыре угла поставили несколько пивных кружек, чтобы он не сдвигался, Иолика фыркнула – ничего путного из этого не выйдет. Однако вскоре некоторые посетители стали вставать на стол, так им было лучше видно Наоми, многие требовали, чтобы Нолика принесла скотч и прилепила заморскую красотку на стену вместо рекламы уникума. Тогда Иолика взяла помойное ведро и выплеснула его содержимое на Наоми, разодрала постер и закричала, если кто хочет пялиться на эту шалаву, пусть убирается на площадь, а она закроет на хрен эту пивнушку, потому что больше видеть их рожи не желает.
– Успокойтесь, – сказал я, и она стерла с заморской дивы остатки помоев.
– Молчите, а то я и вас вышвырну, – сказала она и схватила с моего стола пепельницу. – Чего они себе вообразили?
– Просто она им понравилась, – сказал я.
– Вонючая эфиопка, – сказала она.
– О вкусах не спорят, – сказал я.
– А вы бы, что, потерпели? Да, она красивая, но я не об этом. Это не беда. Я все понимаю. Но вы видели, какие у них были рожи? Да они чуть не вытащили свои причиндалы из семейных трусов. Зачем он сюда приволок эту дуру? Пусть несет к себе в квартиру. Неси домой к жене и лепи на стену клеем “Момент”.
– Вы правы, Йолика, – сказал я, потом посидел еще немножко, послушал “Южную хронику” и только потом заставил себя вскрыть наконец посылку, которую еще утром принес с почты.
Никаких чувств я не испытывал. Книга была точно такой, какой я ее себе и представлял, но почему-то не была похожа на настоящую. На такую, какую можно поставить в библиотеке на букву В или которой, скажем, можно подпереть шатающийся шкаф, если выпадет паркетина. Я вытащил из кошелька бритвенное лезвие и вырезал предпоследнюю страницу из одного экземпляра, поскольку не хотел, чтобы мама узнала, кто составитель.
– А это что такое? – спросила Иолика.
– Это подарок на Рождество, – сказал я, вопрос был довольно неожиданным, и ничего умнее мне в голову не пришло.
– Рановато, – сказала она.
– Не люблю носиться по магазинам в последний день, – сказал я, быстро запаковал авторские экземпляры обратно в оберточную бумагу и заплатил.
– Гдетыбылсынок?
– Вышла моя книжка, мама.
– Меня это не интересует, сынок, – сказала она и продолжила смотреть мыльную оперу, которую показывали в пятницу вечером. Я молча положил экземпляр, подправленный лезвием, на стол, закрыл дверь и стал подслушивать из прихожей. Через пару минут заскрипели пружины в кресле, и ко вздохам аргентинских или бразильских служанок присоединилось шуршание растревоженных страниц. Потом я услышал, как она листает их одну за другой. Я знал, что сначала она остановится на тридцать четвертой, где начинался рассказ Об истории театрального искусства, ее любимый.
Я налил себе чашку кофе и весь день сочинял, как мне подписать книгу Эстер. После многочисленных черновиков вышло что-то мыльнооперное, потом из всего я оставил только два слова – Моей жене, мне казалось, ее должно это обрадовать. Я купил розу на площади Кальвина и пришел в библиотеку незадолго до закрытия, но одна ее коллега сказала, что она три часа назад ушла с немолодой женщиной с рыжими волосами, а я ответил, спасибо.
Я отправился на Андрашши к Иордан, но там их не было, в животе у меня урчало, я выпил кофе в “Артисте” и съел пирожное. Цветок я отдал официантке, в благодарность за хорошее обслуживание. Она запомнила, что я не кладу в кофе сливок, а пью его с тридцатью миллилитрами содовой. Официантка сказала, что раньше она думала, будто я самый флегматичный мужчина во всем городе. А я сказал, что думал о ней то же самое, разумеется, не то, что вы – мужчина, а то, что прежде вы ставили передо мной заказ, не говоря ни слова, а сейчас оказалось, с вами можно очень славно поболтать. Мы рассмеялись.
Я положил книгу в карман, поскольку в любом случае хотел подарить ее Эстер и пешком пошел на улицу Нап, чтобы у них было время поговорить, если они там. Наверно, никогда в жизни я не испытывал такого ощущения легкости. На Ракоци какая-то шлюшка спросила меня, не хочу ли я перепихнуться, а я сказал, мне мама не разрешает, потом дал ей закурить, и мы разговорились. Оказалась очень милая девочка, врала, что будет промышлять, пока не накопит на домик с садом где-нибудь в районе Векерле, а я врал, что пишу театрально-критические статьи, чистых тысячу платят, если пишу про комедию, и тысячу пять – если пишу про трагедию, но трагедии я не люблю, я хохмач по природе. Я бы еще с удовольствием потрепался, но тут возник сутенер, и девочка попросила, чтобы я поскорее смылся с панели, раз не хочу трахаться.
Эстер бросилась мне на шею и расцеловала. Я был весь в помаде, за все годы я не видел на ней столько краски.
– Дай же сюда, – сказала она и стала рыться в моем кармане, потом я смотрел, как она прыгает на матрас и долистывает книгу до конца, нюхает ее, ощущая запах клея и типографской краски. Затем она увидела надпись Моей жене, которую я забыл вырезать.
– Это предложение? – спросила она, и из-под слоя краски закапали черные слезы.
– Нет, я забыл поставить в конце вопросительный знак, – сказал я, чувствуя, как от стен отделяется терпкий миндальный запах.
– Но я могу надеяться?
– Сначала давай поищем священника, который согласится обвенчать двух неверующих.
– Кажется, я начинаю верить, – сказала она, бросилась мне на шею и зарыдала, но даже ее кожа впитала запах этой женщины.
– Ты рада? – спросил я.
– Ты разве не видишь? Что мне сделать, чтобы ты заметил?
– Например, встать в ванну, чтобы я смыл с тебя всю эту краску, – сказал я.
– Не сейчас. Нам надо спешить.
– Куда? – спросил я.
– К девяти мы идем в ресторан. Ты тоже приведи себя не много в порядок. Представляешь, сегодня в библиотеку пришла редактор твоего издательства и позвала на ужин, – сказала она, снова расцеловала меня, и побежала в ванную, чтобы подправить макияж.
– Ага, – сказал я.
– Она ушла около часа назад. Мы долго разговаривали о тебе.
– Правда? – спросил я и стал смотреть из дверей, как она старается ровно покрасить ногти. У нее не было навыка, лак все время ложился на кожу.
– Кстати, очень милая женщина. Не знаю, отчего она тебе не понравилась.
– Возможно, – сказал я.
– Она считает, ты настоящий гений. Только беспокоится, что ты не говоришь по-английски, без него сейчас никуда. Еще она попросила, чтобы я стояла с плеткой за твоей спиной, потому что лишь в этом случае ты слушаешься.
– Возможно, – сказал я.
– Никаких возможно, она совершенно права. Надо раздобыть отличную плеточку, – сказала Эстер и подула на ногти, чтобы лак высох побыстрее. – Она сказала, не исключено, что тебя скоро издадут по-французски и, может быть, по-немецки.
– Не верится, – сказал я.
– Очень даже верится, только ты не зазнавайся, – сказала она и хотела поцеловать, но вспомнила, что тогда снова смажется помада. – Что мне надеть?
– Ничего, – сказал я.
– Ну не идти же мне в комбинации. Принесешь черное с кружевными рукавами?
– Не принесу, – сказал я.
– Пожалуйста, нам надо спешить. У меня еще липкие ногти.
– Мы никуда не идем, – сказал я и увидел, как у нее каменеет взгляд.
– Она ждет к девяти, – сказала Эстер, и мы неподвижно уставились друг на друга в зеркало.
– Меня не волнует, до скольких она прождет. Ты не сядешь за один стол с этой женщиной.
– Ну да, – сказала она, и поставила косметичку на полку, и все еще следила за тем, чтобы не смазать лак.
Несколько минут мы сидели не шелохнувшись. Лучше бы зеркало разбилось, лучше бы разорвало в клочья нас обоих, думал я, но ничего не произошло. Стояла гробовая тишина, было даже не слышно, как стучат наши сердца.
– Бесполезно, – сказал я, только для того чтобы прервать это невыносимое затишье. – Полгода, – сказал я, и мы продолжали неподвижно смотреть друг на друга в зеркало.
– Я тебя не спрашивала, – сказала она, потом взяла полотенце и стерла макияж, и лицо у нее было, как у покойника.
– Я собирался рассказать, но побоялся.
– Тогда не рассказывай, – сказала она.
– Да мне, собственно, нечего рассказывать! Я ненавижу эту женщину! Ненавижу, с тех пор, как услышал ее голос. Вот и все!
– Не кричи, – сказала она.
– Меня пол года тошнит от всего этого!
– Понимаю, – сказала она.
– Это ты меня туда отправила! Тебе нужна была эта хренова книжка! Мне она была совершенно не нужна! Мне было нужно, только чтобы ты любила своего писателя!
– Понимаю', – сказала она.
– Не понимаешь! Зачем ты отправляла меня к папашиной подстилке?! Ты должна была знать! Да, ты отлично знала!
– Я не знала, – сказала она.
– Не ври! Это ты хотела! Хотела замарать меня, чтобы я у тебя ничего такого не искал! Я никогда не трахался за загранпаспорт и никого не убивал!
– Понимаю, – сказала она.
– Конечно, понимаешь, ты, убийца! Кто позволяет усыпить своего деда, тот настоящий убийца!
– Да, – сказала она.
– Ты закопала деда, как ублюдка! Чтобы не ухаживать за ним! Я забочусь о своей матери! Чего вылупилась, ты, говно на палочке! Меня ты не замараешь! Сказал тебе, чего вылупилась!
– А теперь уходи, – сказала она, и тогда я ударил ее по лицу, у нее на губе выступила кровь, но она не шевельнулась. Она стояла и смотрела на меня, точно на какой-то металлический предмет в кабинете врача, на плевательницу или на медицинские щипцы, и тогда я выбежал из квартиры.
Ночью кто-то начал колотить во входную дверь. Когда я вышел из комнаты, мама, застыв, как изваяние, стояла в прихожей и сжимала молоток, привязанный за веревочку, который обычно лежал возле вешалки.
– Я запрещаю тебе открывать, – сказала она.
– Уйдите, мама, – сказал я и думал, что Эстер набросится на меня, но она обрушилась на маму.
– Сдохните уже, вы, мразь! Отдайте мне сына! – заорала она и повалила маму на пол. – Подохните, наконец! – рыдала она, и мне едва удалось вырвать молоток у мамы из рук, затем я кое-как разнял их.
– Уведи ее отсюда! Вышвырни ее отсюда немедленно! – орала мама.
– Уйдите в комнату! – сказал я.
– Уведи! Я требую, выкинь ее на улицу!
– Отдайте сына! Отдайте! Я не хочу, чтобы он трахался со старыми суками, вроде вас! Я хочу жить! – рыдала она. Мама сжалась, как кошка перед прыжком, и скрючила пальцы, чтобы выцарапать ей глаза.
– Убирайтесь к себе! – заорал я, затолкал маму в комнату и подпер дверь коленкой. Эстер схватила меня за голову и рухнула на пол.
– Что ты хочешь от меня?! – спросил я.
– Вышвырни ее из моего дома! – орала мама и царапала дверь.
– Если не замолчите, я вас выкину на улицу!
– Вы больные! – рыдала Эстер.
– Прекрати и ступай домой, – сказал я.
– Твоя мама больна, пойми же! – рыдала она, обнимая мои ноги.
– Молчи, – сказал я.
– Несчастная!
– Заткнись! – сказал я. Мама снова начала царапать дверь и все твердила, чтобы я вышвырнул Эстер из дома.
– Напрасно ты ходишь к папашиной подстилке! Ты не свою мать унижаешь, а меня! Только меня ты унижаешь!
– Я только себя унижаю!
– Господи, за что ты хочешь убить меня?!
– Убирайся!
– Ты не понимаешь, что я люблю тебя? Одна я тебя люблю!
– Я сказал заткнись!
– Тебя все ненавидят! Или боятся, или ненавидят! Тебя даже собственная мать ненавидит! Ты даже своей старшей сестре не нужен, ты только мне нужен, как ты не понимаешь?!
– Нечего меня любить! Убирайся отсюда! – заорал я и с трудом вытолкал ее из квартиры. Какое-то время она всхлипывала на лестничной клетке, так скулит побитая собака. Затем наступила тишина.
Когда я пришел к ней на следующий день, я хотел развернуться тут же в дверях, но не смог. Все стены были завешаны страницами моей книги, моими рассказами была обклеена мебель, кафель, и ванна, и зеркало. В страницы из моей книги были завернуты стаканы и дверные ручки, сквозь них тускло просвечивало солнце, и только ведро с обойным клеем одиноко торчало посреди комнаты, да груда обложек валялась рядом. Она спала на кафельном полу в кухне, на ней был какой-то черный шелковый костюм, ее волосы были отрезаны до плеч и перекрашены в тот же блондинистый цвет, что и у мамы.
– Только я, – сказала она, когда я разбудил ее, но ее губы едва шевелились. Пока я звонил санитарам, она встала на колени и срезала хлебным ножом остатки своих роскошных локонов.
– Что вы с ней делали?
– Ничего, – сказал я.
– Попробуйте вспомнить, – сказал он.
– Я хочу пойти к ней, – сказал я.
– Пока я здесь врач, вы не войдете в эту палату.
– Сколько вы хотите? – спросил я.
– У меня огромное желание вышвырнуть вас вон, как мешок дерьма, – сказал он.