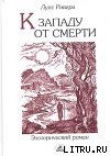Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Под могильными плитами спали настоящие покойники, те, кто скончался от рака, или от пулевого ранения, или от старости. Земля вам пухом, вечный покой, мертвые слушают, как взмахивают крыльями фазаны, как вздыхают клапаны на каучуковом заводе и как всхлипывают влюбленные гимназистки, а между тем все нарастает какой-то треск, смех и грех. Это кладбищенский сторож разъезжает на велосипеде, у которого проржавела задняя втулка. Господи боже мой, что это еще такое! Здесь вам не бордель! Здесь покоятся сам Эндре Ади, сам Мор Иокаи! Убирайся кувыркаться со своей подружкой на Новое общественное кладбище! – и пока девушка поправляет юбку, парень просит сменить тон – насколько я помню, мы не переходили на “ты”. Пожалуйста, успокойтесь, уважаемый сторож, наверняка Мору Иокаи, или самому Ади нисколько не мешает, что мы тут занимаемся любовью. А заниматься любовью – это совсем не то, что кувыркаться, выбирайте слова. Не ровен час, я тоже буду здесь покоиться, где-нибудь между Эндре Ади и каучуковым заводом, уж я позабочусь в завещании, чтобы блюстители морали типа вас не смели приближаться к моей могиле – бессовестный девичий смех стихает вдали. Блюстители морали, какая наглость. И сторож швыряет на землю велосипед, хватает повалившийся крест и, прыгая прямо по могилам красноармейцев, гонится за ними до самого выхода.
Другой сторож в спортивном костюме ехал на велосипеде по тропинке, прямо на меня, на голове у него был берет, а на шее висел военный бинокль, чтобы можно было отслеживать вандалов, и всяких безнравственных личностей, и тех, кто приходит сюда спать, пока префектура не выделит им какую-нибудь прачечную.
– Возможно, вы забыли, где находитесь, уважаемый товарищ. Здесь не курят, – сказал он.
– Простите, – сказал я и потушил сигарету, хотя видел, что сам он только что курил.
– Я ищу кое-кого, – сказал я.
– Вы не успеете, через десять минут мы закрываем.
– Юдит Веер. Ее похоронили вчера утром, – сказал я.
– Извольте искать завтра. А сейчас будьте добры покинуть кладбище.
– Это моя сестра, – сказал я.
– Одиннадцатый участок, за каучуковым заводом. Только поспешите, в восемь мы выпускаем собак.
Я вернулся, мама, сказал я с порога, но она не ответила. Она все так же лежала на кровати, как и вчера, когда я уходил, только за это время полотенце на ее лице высохло и сморщилось. Со временем вот так же высохло ее тело. Пятнадцать лет небытие опутывало ее своими нитями, словно паук божью коровку, но даже на смертном одре сквозь густую сеть морщин просвечивал изумительной красоты хитиновый панцирь.
Я вернулся, мама, повторил я, затем снял с нее полотенце, думая, что она спит, но она лежала с открытыми глазами, при этом взгляд у нее был отсутствующий. И когда я увидел это опустошенное лицо, то понял, что разговаривать бессмысленно. Я пошел на кухню заварить чай, чуть погодя она пришла, хотя и едва стояла на ногах.
– Где ты был, сынок, – спросила она, как будто первый раз в жизни.
– Не важно, – сказал я.
– Она это заслужила. Пусть сгниет там, в земле, вместе со своими нотами. Пусть сгниет!
– Я устал, – сказал я и встал, чтобы выйти, но она схватила меня за руку.
– Значит, ты поверил? Поверил во всю эту чушь?
– Не важно, – сказал я.
– Нет, важно! Каждая строчка этого письма была грязной ложью!
– Скорей всего, ты права, – сказал я.
– Я никогда никого ни к чему не принуждала!
– Может быть, мама, – сказал я.
– Она была взрослая женщина! Она всегда делала, что хотела! И трахалась, с кем хотела! И я тоже трахаюсь, с кем хочу!
– Я знаю, – сказал я.
– И аборт – это гнусная ложь! Это был просто осмотр! Банальный осмотр, понял?!
– Наверное, ты права, – сказал я.
– Заткнись! Никаких наверное! Всех тринадцатилетних девочек водят к врачу, понял?!
– Понял, мама, – сказал я.
– Ты ничего не понимаешь! Я учила ее жить! Женщина должна уметь жить! Я хотела как лучше!
– Теперь уже совершенно не важно, мама, – сказал я.
Сперва казалось, что она не выходит из квартиры только из-за мигрени, но мигрень растянулась на пятнадцать лет. Две недели назад она впервые за долгие годы увидела небо, я распорядился, чтобы ее вынесли во двор в открытом гробу.
– Вы не хотите закрыть ей глаза? – спросил один из мужчин, несших гроб.
– Нет, – сказал я.
– Но таков обычай.
– Знаю, – сказал я.
– У нее были красивые глаза.
– Да и сейчас – сказал я, а соседи стояли на лестничной клетке и удивлялись, откуда появилась моя мама, они успели забыть о ее существовании.
В первые месяцы соседи еще интересовались, где же милая актриса, давненько ее не было видно, неужели она заболела, и я сообщал им, что мама в добром здравии. Потом они стали спрашивать про счета за газ и за свет, а Карчика успокаивал их, никакого инсульта, актриса Веер только что захлопнула дверь своей комнаты перед его носом, поверьте, она до сих пор очаровательна, как в фильме, который показывали в тот понедельник. Великие актрисы часто удаляются от дел, потом они находят себе новое занятие и снова радуют поклонников, становятся защитницами животных, или что-нибудь в этом духе.
Через несколько недель после похорон Юдит мне приснился сон. Я забрался на вершину горы, было раннее утро. Внизу, в глубине долины, еще клубился туман, но здесь, наверху, белоснежные дома, где жили цыгане, слепили глаза. Дрожа от страха, я крался мимо закрытых дверей и окон, занавешенных черным шелком, уборщица из театра рассказывала мне, что цыгане крадут маленьких детей, привязывают к стойлам и поят лошадиной кровью и затем у детей как по волшебству вырастают крылья. Эти дети уносят мертвых в рай, или в ад, в зависимости от того, как решит вожак табора, поскольку цыгане не позволяют Богу вмешиваться даже в такие важные вопросы.
Была ясная погода, синее небо слепило глаза, но сосны за домами гнулись от ветра. Правда, не слышно было, ни как шумят ветви, ни как поскрипывают стволы, будто, кроме стука моего сердца, других звуков не существовало. Я уже почти миновал спящую деревню, безмолвную, словно кладбище, уже увидел дорогу, ведущую вниз, как вдруг заметил цыганскую девушку, стоявшую во дворе последнего дома. Ее коса доходила до пят, в нее были вплетены золотые монеты, на талии красовался цветастый платок, губы были алые, как осенняя брусника. Свинец заструился у меня по жилам, в горло вместо слюны потекла смола. В руке цыганка держала короткий кнут, рядом с ней на еловом бревне спала сова размером с человека. Девушка посмотрела мне в глаза и что-то сказала на непонятном языке, всего одно слово. Затем она щелкнула кнутом, птица встрепенулась и, тяжело взмахивая крыльями, влетела в окно, занавешенное черным шелком.
На следующее утро от Юдит пришел ответ на собственный некролог. “Уважаемая мама, если Вы захотите меня видеть, пусть Вам не закрывают глаза”, – писала она, и с открытки из Каракаса на меня смотрела цыганская девушка с кнутом в руке, с золотыми монетами, вплетенными в косу, с цветастым платком на талии и со жгучей ненавистью во взгляде. Я стоял на лестничной клетке возле почтовых ящиков, несколько минут не мог пошевелиться и только потом сунул открытку в карман. Я точно знал, она ни за что, никогда не должна попасть в руки маме. Ночью я перерыл весь ящик с инструментами, пока не нашел старый ключ, который закрывал один из ящиков моего письменного стола. Я спрятал открытку и стал искать какое-нибудь секретное место для ключа, но даже под паркетиной все равно оставалась опасность, что мама найдет его. В конце концов я продел сквозь него веревочку и повесил на шею. Там он и провисел много лет, словно поржавевший, но не потерявший своей силы амулет, указывающий неблагоприятные дни.
Я отправил Юдит три или четыре письма, но все они возвращались. Измятые, в полиэтиленовых пакетах с промокшими марками, как будто почтальон нечаянно уронил их в океан. И больше я не отправлял писем, просто писал ей обо всем, поскольку никому другому о нашей теперешней жизни я не мог рассказать. Человек не может рассказать, что его мать сошла с ума. Она смотрит телевизор даже после окончания эфира, она закрывает дверь на несколько цепочек, а во время обеда встает со стула, ты думаешь, она хочет взять салфетку, а она неожиданно разбивает телефон колотушкой для мяса и как ни в чем не бывало садится обратно и доедает томатный суп.
Словом, от безысходности я рассказал ей обо всем, что с нами происходит, в свободной форме, без обращений и прочего, Юдит в любом случае никогда бы не прочитала эти строки. Скорее я писал для тех, кто мог зайти в нашу квартиру и все увидеть собственными глазами. Как-то раз я забыл запереть одну такую историю в ящик стола, вечером, когда я вернулся домой, мама смотрела на меня с презрением. Точь-в-точь как в тот раз, когда она застала меня за чтением последнего откровенного письма Юдит.
– Что это за чушь, сынок, спросила она, а я молчал, ничего вразумительного мне в голову не приходило.
Мы молча стояли в прихожей, у нее был смятый лист бумаги в руке, у меня – ничего, кроме стыда и гордости на душе, и я сказал, это новелла, мама, – потому что творчество было единственной сферой, в которую я не позволял ей вмешиваться. Если нужно, я повешу на дверь хоть двадцать цепочек, если нужно, я буду врать соседям – спасибо, у нас все в порядке, – но ни одна сволочь не посмеет совать свой грязный нос в то, что я пишу на листе формата А4.
– У тебя даже приставки безвкусные, – сказала она.
– Возможно, мама. Тогда зачем ты читаешь, – сказал я. С тех пор я оставлял свои записи на столе, и, пока не появилась Эстер, никто, кроме мамы, не читал их.
Первый раз я сказал, что я писатель, одному полицейскому. Случай приключился пустяковый, это не было ни пятнадцатое марта, ни двадцать третье октября. [3]3
15 марта – День венгерской революции 1848 г., 23 октября – национальный праздник в память Венгерского восстания (1956 г.).
[Закрыть]Была обычная проверка документов, какие случаются ранней осенью. Добрый вечер, попрошу ваш паспорт, я отдал ему винно-красную книжечку и сообщил свои данные: год рождения, фамилию матери, постоянное место жительства. Потом он стал искать место работы, и выяснилось, что у меня отсутствует место работы. Значит, тунеядец, сказал он и начал писать под копирку протокол, взять на учет общественно опасного тунеядца, а я никак не мог придумать вразумительную отговорку, как в тот раз, когда мама спросила: чтоэтозачушьсынок? И я сказал полицейскому, я писатель, а он спросил, чем я могу это подтвердить, в конце концов, так может сказать любой дурак. До чего же надоело, один писатель, другой художник, третий артист, а между тем документов-то нет. Вы, словно дети малые, нарушаете закон, а потом еще и недовольны, закон во всем виноват. Нет, так не пойдет. Никак не пойдет, уважаемый, ведь что будет, если я сейчас составлю на вас протокол? А я вам скажу, что будет. Тогда вы, уважаемый, с первого числа следующего месяца в качестве подсобного рабочего будете строить поселок Газдагрет. [4]4
Квартал на окраине Будапешта, застроенный в 1980-е годы панельными домами.
[Закрыть]На первый раз прощаю, но, если в ближайшее время вы не начнете исполнять свой гражданский долг и у вас не будет печати “работник интеллектуального труда”, в следующий раз я вам не гарантирую человеческое отношение.
“Уважаемая мама, сегодня я прибыла в Рим”, – писал я, и в спешке надписывал конверт, чтобы к полтретьему успеть к гостинице “Геллерт”, от Юдит уже четвертый месяц не было ни строчки, и наконец нашелся кто-то, кого я мог попросить отправить из-за границы свободной экономической зоны письмо по почте. Ее звали Анетта, она работала в отделе внешней торговли. Анетта считала себя гуманисткой, признавала только серьезные отношения и была убеждена, что, если мужчина охотней говорит о короле Лире, чем о том, где он живет, – это серьезные отношения. “Как жаль, что ты не можешь поехать в Рим вместе со мной, сколько всего интересного мы могли бы повидать”. Представь себе, ночью в Колизее, где когда-то убивали гладиаторов и первых христиан, это был бы такой декаданс – и я бы спал на набивных простынях в стиле Хундертвассера, [5]5
Фриденсрейх Хундертвассер (1928–2000) – австрийский архитектор и живописец.
[Закрыть]рассматривал эстампы Ван Гога, привезенные из Голландии, и ждал удобной минуты, когда смогу выскользнуть из кровати, чтобы она ни о чем не догадалась. Она ведь не виновата была в том, что даже после соития в Колизее я чувствовал бы все ту же отчаянную пустоту, как здесь, в доме четыре на проспекте Белы Бартока, на узорчатых простынях в стиле Хундертвассера. Она не виновата в том, что я охотней говорю о короле Лире, чем о том, что я делал вчера после обеда, исключительно потому, что в моей жизни уже есть серьезные отношения:
– Гдетыбыл сынок?
– Я ходил прогуляться, мама.
– В следующий раз хотя бы умойся, прежде чем возвращаться домой. От тебя воняет духами.
– Сожалею, мама.
– Думаю, это какая-нибудь мерзкая потаскушка. Те, кто пользуется такими паршивыми духами, все потаскухи.
– Сейчас ты неправа, мама.
– Ты мне не указывай, права я или нет, лучше смывай с себя запах вагины, прежде чем возвращаться до мой, понял?
– Понял, мама.
А когда я сказал Анетте, очаровательная идея, в Колизее действительно был бы полный декаданс, я пошел принимать душ и выкурил в ванной сигарету, потому что в комнате это было запрещено. Точнее, в исключительном случае я мог бы закурить и в комнате – если бы мне очень приспичило и если бы я стал разглядывать набивные простыни, но я чувствовал, что тот, кто идет в душ, потому что у него с кем-то серьезные отношения, не имеет права на подобные привилегии. Я приоткрыл вентиляционное окошко над ванной, чтобы выходил сигаретный дым, и, пока мылся, старался сочинить какой-нибудь удобоваримый предлог, почему я, собственно, прошу отправить письмо из Рима в Будапешт Ребекке Веер, если никогда в своей гребаной жизни не был в Риме. Но я обязан был что-то придумать, поскольку Юдит не писала уже четвертый месяц, и, когда я закончил принимать душ, у меня уже созрело решение. Анетта была в восторге, конечно, она отправит в первый же день, так шутить над взрослой женщиной, о боже, как волнительно. Делегация отправляется завтра вечером, перед этим она еще пойдет в сауну “Геллерт”, а что, если мы пойдем в сауну вместе? К счастью, потом она вспомнила, что это раздельная сауна, тогда мы договорились, что встретимся завтра в полтретьего, на следующий день я достал “Пеликана” и начал писать: “Уважаемая мама, сегодня я прибыла в Рим…”, потом заклеил конверт и отправился пешком через мост Свободы.
У перил моста стояла молодая женщина с распущенными волосами в сером плаще-болонье и смотрела на ледоход. Из-за низко сгустившихся облаков выглядывало солнце, ветер сносил чаек, и женщина в своем развевающемся плаще стояла прямо, словно тополь.
Я уже опаздывал – и все-таки остановился на мгновение. Сначала я смотрел не на ее лицо, а на руки, сжимавшие перила. А потом я забыл и о письме Юдит, и о маме, и об Анетте, настроенной на серьезные отношения, которая, должно быть, вышла из сауны, и ждала меня перед гостиницей “Геллерт”, всего за пару сотен метров. Я забыл о театральных декорациях, выдаваемых за наследство Вееров и о цепочках, установленных на двери, о позорной могиле на кладбище Керепеши, которая много лет не хочет зарастать ползучим вьюнком, словно землю посыпали солью. Я посмотрел на эту женщину в сером плаще и забыл об актрисе Иветт Биро, которую, по всей вероятности, мама надоумила, чтобы та помогла мне преодолеть кризис четырнадцатилетнего возраста, и которая после премьеры “Чайки” так старательно изображала оргазм в гардеробе снятого по случаю ресторана, словно уже лет десять не видела пенис. Я забыл об актрисе Мезеи, которая страстно хотела, чтобы я помог ей преодолеть кризис сорокавосьмилетнего возраста, но, увы и ах, ничего не вышло. Я забыл о ключе, висящем у меня на шее и о цыганской девушке с кнутом, о связках газет в “Балканской жемчужине” и о двадцати пяти клетках с искалеченными птицами. Я забыл про товарища Феньо, который дал маме пощечину, и про Клеопатру, которая пробежала по центру города в рубиновом бюстгальтере. Я просто смотрел на эту женщину в сером плаще-болонье, она стояла на мартовском ветру, словно молодой тополь, пока река в тридцати метрах под ней несла вдаль ослепительно белые льдины, и не знал, что я буду говорить, потому что я ни разу в жизни не знакомился на улице. Я всегда дожидался, пока со мной заговорят. Словно высокого пошиба шлюхи, я взглядом давал понять, да, путь открыт, я вечно пребывал в режиме ожидания, мог ждать месяцами, а здесь я не знал, что буду говорить. Впрочем, не было во мне ни сочувствия, ни любопытства. Я не знал, почему она стоит там или почему никак не бросится вниз, я просто любовался.
– Пойдем, – сказал я и понял, что жребий брошен.
– Ладно, – сказала она и посмотрела мне в глаза.
В тот день мне пришлось оставить Эстер в кафе за столиком со сдвинутыми в груду коньячными рюмками и с направлением на гистологический анализ.
– Я могу это выбросить? – спросила официантка, а я сказал, не выбрасывайте, и забрал направление, как будто оно касалось меня. Через несколько дней пришел результат, и выяснилось, что опухоль в матке у Эстер Фехер доброкачественная, и после несложной операции матка снова станет пригодной для использования, как у любой нормальной двадцативосьмилетней женщины: в одинаковой степени для родов или для аборта, в зависимости от взаимоотношений между партнерами.
Я ждал в коридоре и нервно теребил две пачки сигарет в кармане плаща, потому что не знал, сколько длится удаление доброкачественной опухоли, уже после первой сигареты мне захотелось ворваться в операционную и закричать, прекратите немедленно. Наконец открылась дверь, и доктор Видак успокоил меня, с милой госпожой все в порядке, но по меньшей мере месяц это нельзя, вы ведь понимаете?
– Понимаю, – сказал я и через два дня доставил Эстер из больницы домой, в муниципальную съемную квартиру площадью тридцать два квадратных метра, в девятом районе, и донес ее по лестнице, пропахшей кошачьей мочой, на четвертый этаж, словно жену после родов, хотя в тот раз я был у нее впервые.
– Кудатыидешьсынок?
– За хлебом, мама.
– Хлеб пока есть, а вчера ты опять вернулся в десять.
– У меня были дела, мама.
– Я не могу так жить, ты все время где-то пропадаешь.
– Хорошо, я постараюсь приходить пораньше, мама, – сказал я и ночью переставил дверные цепочки так, чтобы их можно было подцепить снаружи маленьким крючком, когда мама заснула, я сбежал из квартиры, словно воспитанник школы-интерната, поскольку не хотел, чтобы она спрашивала, кудатыидешьсынок. До рассвета я лежал рядом с Эстер на поролоновом матрасе, в гробовой тишине съемной квартиры на улице Нап и был благодарен доктору Видаку за то, что он запретил это. Неожиданно, вместо того чтобы анализировать характер короля Лира, я вдруг начал рассказывать о том, о чем все эти десять лет не говорил никому. Я рассказывал, как из придорожных колонок струится вода, а она не приставала с расспросами и не интересовалась подробностями. Она просто прижала меня к себе с такой силой, что ее лобковая кость оставила лиловый след на моем колене.
– Я хочу видеть твою комнату, – сказала Эстер.
– Нельзя, – сказал я. – А впрочем, в ней нет ничего особенного. Письменный стол из какой-то русской пьесы, неплохая кровать, тоже из спектакля, и куча книг, читал от силы одну пятую.
– Ковер?
– Венецианский купец.
– Люстра?
– Какая-то чехословацкая комедия. Название забыл.
– Вид из окна?
– Музейный сад или ставни.
– Я хочу, чтобы ты любил меня.
– Нельзя, ты еще болеешь, – говорил я несколько дней, поскольку ужасно боялся, что после соития я снова буду выжидать удобный момент для бегства, как в гардеробе ресторана “Карпатия”, или в Кишпеште, или на набивных простынях в стиле Хундертвассера. Мне хотелось, чтобы запрет доктора Видака действовал всю жизнь. Чтобы я мог лежать здесь одетым каждую ночь до рассвета, на этом матрасе метр шестьдесят на два метра, и просто говорить, говорить, пока она еще слышит мой голос. Я желал одного – чтобы она прижала к себе мою руку и чтобы я чувствовал сквозь ее халат тепло ее бедер. И когда ее губы задрожали, я понял, что последние несколько фраз она уже не слышала. Я замолчал и просто следил за телом, которое дергалось все отчаяннее. Я чувствовал, как выгибается ее позвоночник, словно у тяжелобольных в реанимации, которых пытаются оживить электрическим током. Как смычок, который вот-вот лопнет. Она задыхалась от страсти, но это пугало, как пугала ее прямая фигура там на ветру, в каких-то тридцати метрах от ослепительного ледохода. Я следил за лицом, обрамленным спутавшимися черными волосами, смотрел, как тяжело и медленно вздымается ее грудь, как томно она обнимает меня. Она хотела прикоснуться рукой к моим коленям, но я схватил ее запястье и соврал: мне пора идти, мама вот-вот проснется. Она сказала, тогда иди, и поцеловала меня в глаза.
– Я хочу видеть твою маму, – сказала она.
– Нельзя, – сказал я. А впрочем, в ней нет ничего особенного. Когда она не Юлия, или не Лаура Ленбах, она точно такая же, как я.
– Знаю.
– Откуда?
– Сегодня я ходила в библиотеку и нашла там несколько фотографий на обложках журналов.
– Тебе нельзя было выходить.
– Я не твоя мама.
– Знаю.
– Тогда поцелуй меня, – сказала она.
– Ты еще болеешь – сказал я.
– Ты врешь, – сказала она и развязала пояс халата, чернобелый шелк скользнул по ее плечам, и собственно тогда я впервые увидел ее обнаженной. Я хотел сбежать, но она сидела на мне, как Божий ангел на руинах Ниневии. Мы неотрывно смотрели друг на друга, и в это время она расстегивала на мне рубашку.
– Нет, – сказал я.
– Молчи, – сказала она, и ее волосы накрыли меня.
– Нет, – повторил я, но ее неумолимый палец, покрытый капельками пота с ее коленей, упал мне на рот, чтобы парализовать меня вкусом моря. Он полз по моему языку все глубже, до глотки и потом обратно, медленно и плавно, и послушные вкусовые сосочки скользили по настороженным капиллярам. Потом я почувствовал, как ее губы изможденно гуляют по эрогенным районам моего тела, и медленно начал забывать. Я забыл обо всем, как тогда на мосту Свободы, но теперь я не помнил уже не только про ящик, закрытый на ключ, и про поддельные письма Юдит, и про Клеопатру, бегущую домой в фальшивых рубинах, я позабыл, полночь сейчас или полдень.
Теперь я должен пустить корни, думал я, как дуб, думала она, скорее как кедр, они дольше живут, думал я, я тебя люблю, думала она, молчи, думал я, я только подумала, думала она, ты погибнешь, думал я, не важно, думала она, так нельзя жить, думал я, я так хочу, думала она, молчи, думал я, не буду молчать, думала она, я приставлю к тебе сиделку, думал я, в тот день ты увидишь меня в последний раз, думала она, знаю, думал я, я только думал, думал я, когда лежишь рядом со мной, не пытайся даже думать об этом, думала она, не сердись, думал я, не сержусь, думала она, тогда обними меня, думал я, я и так тебя обнимаю, думала она, я хочу остаться здесь, думал я, знаю, думала она, на одном месте, как дуб, думал я, скорее как кедр, они дольше живут, думала она, обхвачу тебя корнями, думал я, так обхвати, думала она, у тебя и так посинели бедра, думал я, не важно, думала она, я люблю тебя, думал я, значит, будем так жить, думала она, так нельзя жить, думал я, только так есть смысл, думала она, я боялся тебя, думал я, теперь уже не из-за чего, думала она, думаю, да, думал я, светает, думала она, зря ты слушаешь меня целый месяц, думал я, тебе надо идти, думала она, ты боишься больше, чем я, думал я, это неправда, думала она, а вот и правда, думал я, тебе правда пора идти, сейчас она проснется, думала она, знаю, думал я, тогда иди, подумала она и поцеловала меня в лоб, потный от страсти.
– Гдетыбыл сынок?
– У меня были дела, мама.
– У меня болело сердце.
– Не сердитесь, мама.
– Когда я помру, тебя не будет дома.
– Я вызову врача, мама.
– Не надо никого вызывать, я уже приняла лекарство.
– Ладно, мама, – сказал я, хотя точно знал, что в квартире есть только витамины и валерьянка, даже аспирин кончился. Я побоялся сказать ей: мама, я не верю, что у вас хоть раз в жизни болело сердце. Правда, в десять лет я даже осмелился зайти к ней ночью без стука и потребовал, чтобы они немедленно прекратили репетировать и чтобы этот Чапман убирался отсюда, потому что мы хотим спать, нам с Юдит вставать в семь.
– А ты вообще не артист, а просто сраный журналисток, – сказал я Чапману, и до сих пор не понимаю, за что же я должен был просить прощения, мама, он ведь в самом деле был просто сраный журналистик. И горе критик, который по госзаказу писал банальности в две колонки. “По-человечески произведение глубокое” – одно это чего стоит, мама. “‘Несчастливые’ – по-человеческипроизведениеглубокое”, я помню эту фразу лучше, чем таблицу умножения, но на банкете после премьеры я, скрепя сердце, подошел к этому насекомому, потому что ты так хотела.
– Я хочу попросить прощения за тот случай, – сказал я.
– А я уже и забыл, – сказал он.
– А я нет, – сказал я.
– Послушай, ты уже большой мальчик, не сегодня-завтра взрослый мужчина. Пора бы тебе знать, что я не обижу твою мамочку.
– Конечно, – сказал я.
– А что, если, какбыэтосказать, хочешь яблочного сока?
– Не хочу, – сказал я.
– В общем, по ночам она кричит не потому, что ее обижают, а потому что она очень радуется. Наверняка, ты тоже кричишь, когда Санта-Клаус приносит что-то интересное.
– Ага, – сказал я.
– Я вижу, ты умный мальчик. В общем, мы остановились на том, что такие красивые тети, как твоя мамочка, чем громче кричат, тем больше радуются.
– Да, на этом мы и остановились.
– Конечно, ты был абсолютно прав, я не артист, но иногда человек не хочет говорить, отчего он радуется, поскольку думает, что другие этого не поймут, и тогда он говорит что-то другое, что не совсем точно отражает… ты в самом деле не хочешь яблочного сока?
– В самом деле, – сказал я. – Впрочем, какие проблемы, мама тоже предпочитает, чтобы мы думали, что она репетирует.
– Она предпочитает?
– Да, так лучше, чем если бы я входил и требовал от вас прекратить трахаться.
– Господибожемой, ну и ребенок! С тобой уже можно говорить, как мужчина с мужчиной.
– Валяй, – сказал я. – Я не хочу, чтобы мама с тобой трахалась.
– Что-то непохоже, чтобы ты просил прощения.
– Сам сказал, что мы будем говорить как мужчина с мужчиной.
– Кажется, ты немножко задрал носик?
– Нет, – сказал я. – Просто я не люблю таких слюнявых пижонов, как ты. Которые приносят марципан, когда приходят трахаться. Я ненавижу марципан.
– Ну ступай к своей мамочке, пока я не влепил тебе пощечинку, – сказал он. А я хотел еще ему сказать, что запросто убил бы его, но, к счастью, тут подошел товарищ режиссер Шарошши чокнуться с товарищем критиком Чапманом, а меня утащила Юдит.
Не сердись мама, что я судил об уважаемом критике по одним его подпольным каракулям. Хамил критику, который в своих последующих творениях высказывался, что актриса Веер ломается, как базарная комедиантка: “о, поручи свои мысли ветру” и “лучше мне жить, ослепнув”. Скажи мне, отчего ты стала самой ужасной Иокастой за всю историю театра, мама? Почему у самого Томаша Чапмана застыла в жилах кровь при виде такого откровенного фиглярства? Почему именно эта идеально отрепетированная роль несмываемым пятном легла на твою театральную биографию?
И весь этот балаган с просьбами о прощении был абсолютно безнадежным предприятием, ведь через три дня у нас появился заезжий режиссер Ежи Буковски. Перед сном он пил водку по-английски, но после семяизвержения храпел уже совершенно по-польски и хотел, чтобы мы и впредь были вместе, как одна большая семья, поскольку был настроен идиллически. Добже, мой детка – прижимал он нас к себе в дверях ванной, и от его заношенной майки порядком разило букетом из русской водки, венгерского одеколона и польского пота, он искренне обрадовался, когда Юдит сказала ему, от тебя воняет, Ежи, потому что не понял ни слова. Еще он радовался, какие мы все вчетвером красивые и белокурые. Настоящая фэмили. И мы тоже по-своему радовались. Нам нравился этот всепроникающий, всеразрушающий католицизм, в духе которого он шлепал тебя по попе, сначала нормальный завтрак с ребятками, а потом уже займемся Мрожеком, максимум полчаса. Нравилось его “ну снова твой нудны тшай с плавлены сырик”, и пока варились яйца вкрутую, он успевал сбегать в продуктовый за краковскими колбасками и двумя бутылками водки. И мы даже жалели, что через месяц ему надо было возвращаться в Варшаву к жене и детям, которые были все как один белокурые и фотография которых висела у нас на холодильнике, чтобы Ежи после ужина мог смотреть на них, просто так, погрустить для вдохновения, жаль, что они далеко, а как бы мы все любили друг друга. Была бы большая фэмили, вери биг, моя дочь играет на пианино, твоя на скрипке, а мальчики ничем не увлекаются, но это проходит.
Да, мама, мы даже жалели, что Ежи Буковски надо было возвращаться, там его ждали глобальные идеи, всеразрушающий католицизм, всеразрушающий театр и всеразрушающая семья.
Не скажу, что любил его, но он хоть не говорил, твоя мама сегодня ночью была очень рада встретить Санта-Клауса. И это уже кое-что.
– Как ты думаешь, что будет, если я появлюсь у вас? – спросила Эстер.
– Не знаю, – сказал я. – Последний посторонний человек заходил в квартиру больше десяти лет назад. Она согласна общаться только с налоговым инспектором.
– И никто никогда не звонил в дверь?
– Ну как же. Минимум трое. Их не остановило предупреждение, что к актрисе Ребекке Веер не рекомендуется заходить ни под каким предлогом. Дерьмово, когда у человека так много любовников и знакомых.
– Не употребляй плохие слова.
– Правда, дерьмово. Могу еще крепче. Словом, поначалу оставалось только трое неосведомленных, но мама с точностью хирурга знала, кому что надо сказать еще в дверях, чтобы у них на всю оставшуюся жизнь пропало желание наносить ей визиты. Когда пришла первая посетительница, мама похвалила ее мужа, когда пожаловал второй гость, она передала привет его любовнице, когда вошла третья знакомая из прошлой жизни, достаточно было обругать ее парикмахера. На самом деле, человек не такое уж сложное животное. Но у него, в отличие от животных, прекрасно работает воображение. Участковый врач добрался до ее комнаты только потому, что мама решила – его вызвал я. Она думала, я собираюсь упечь ее в дурдом. А он пришел только потому, что актриса Веер несколько месяцев назад забыла подписать какие-то бумаги.
– И?
– Ничего. Мама несказанно обрадовалась неожиданному визиту и пожаловалась, что у нее болит поясница. Она даже показала, где, за что господин доктор был ей очень благодарен. Меня отправили в продуктовый за пирожными и бутылкой розового. Она тем временем попросила прощения за беспорядок, такая уж у артистов жизнь, сплошная суета, похвалила твидовый пиджак господина доктора и оставила автограф на бланке рецепта.