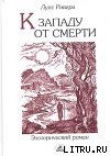Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
– Если не можешь, лучше спи, – сказала она.
– Сейчас, – сказал я.
– Тогда давай быстрей, – сказала она, и я попробовал делать это быстрей. Я зарылся в ее увядшие цветочные груди и уткнулся в ее матку, как щенок.
Точно такая, думал я. Еще два-три сезона, думал я. И такая же дряблая, думал я, и, когда у меня наступила эякуляция, женщина уже астматически храпела. А я был зажат между ее мокрыми коленями и влажной штукатуркой и несколько минут не мог даже пошевелиться. Я напрочь забыл, когда я перебрался из кресел в кровать. У меня болела голова, и водка жгла горло, будто я выпил полстакана жженой соды. Потом я кое-как выбрался и, чиркнув спичкой, нашел свою одежду, а женщина спокойно спала, прижав колени к животу, словно состарившийся младенец. Над ней висела фотография ее матери, которая после смерти вынуждена была смотреть на почтальона, и на меня, и на двадцать пять искалеченных птиц.
В коридоре хлопнула дверь туалета, я не хотел столкнуться с Нитраи, поэтому дождался, пока он прокряхится, вытащил три “Ласточки” и выскользнул из прачечной, словно опытный вор.
Уже светало, легкие грузовики развозили свежие овощи, за Рынком трое мужчин забивали рыбу. Один из них сетью вытаскивал карпов из цистерны и кидал их на поддон, а двое других, в комбинезонах, били рыбам по, голове, пока те не прекращали трепыхаться.
– Большинство живо, – сказал мужчина с сетью, затем он слез с цистерны и закурил сигарету. Двое других немного передохнули, опершись на палки, и принялись бросать тушки в ящик.
Я присел на бетонную тумбу и выкурил сигарету. Магазины и забегаловки были закрыты. Было около пол шестого, или даже меньше, вечером я забыл надеть часы. Ребекка летает, думал я и смотрел, как взлетают в воздух рыбы с отрубленными головами.
На соседней улице наконец открылась подвальная забегаловка. Еще десять минут, крикнула женщина, и десять минут я проторчал возле метлы, прислоненной к торцу двери. Когда хозяйка открыла, нас было уже трое. Один мужчина держал на плече газовую трубу, скорее всего, из дома на снос, второй прижимал к себе четыре связки “Вечерних известий”. Гастроном открывается в семь, по идее они могли прийти налегке, но Нолика понимала, что за первым фреччем последует еще один, и заранее была настроена благодушно. Раз человек пришел с тяжелой газовой трубой, значит, за фреччем будет еще, как минимум, рюмочка “Уникума”. На меня она поначалу смотрела с подозрением, молча поставила передо мной коктейль “Длинный шаг”, но по ее взгляду было ясно без слов – в костюме обычно сюда не ходят.
Потом она смирилась с костюмом, и я пятнадцать лет ходил в “Балканскую жемчужину”. У меня не было персонального столика, личной кружки или чего-то в этом духе, я молча выпивал фречч, или просто приводил себя в порядок в туалетной комнате. Иногда я перекидывался парой слов с Иоликой, за эти годы она привыкла ко мне и тем не менее старалась держать дистанцию. И я точно знал, даже если я надену спортивный костюм и захвачу с собой пару связок с газетами, все равно в наших отношениях немногое изменится.
– У вас шевелюра, как у этих пыльным мешком трехнутых графов в исторических фильмах, которые до утра играли в русскую рулетку, – сказала она как-то раз, а я радовался, что, по крайней мере, она сказала, что думает, и не держит это в себе.
Однажды она вместе с фреччем принесла газету и бросила на стол.
– Это вы? – спросила она и показала на фотографию, которую поместили рядом с интервью.
– Да, – сказал я.
– И о чем вы пишете?
– Обо всем. Так просто не расскажешь.
– Хотя бы попробуйте, – сказала она нервно.
– Я разговариваю с людьми. И записываю их истории, – сказал я, потому что это мне казалось самым простым.
– Обо мне вы тоже писали? – спросила она. Указательный палец она держала на моей фотографии, словно собиралась раздавить жука на крышке стола, еще одно неверное слово, и хитиновый панцирь хрустнет.
– Нет, о вас я не писал, Йолика, – сказал я.
– Тогда ладно, – сказала она, – сегодня фречч бесплатно.
Но этот разговор произошел много лет спустя, а в то утро и речи не было ни о новеллах, ни об интервью, ни о расплывчатых фотографиях. В то утро я хотел только, чтобы меня перестало, наконец, тошнить, потому что я все яснее вспоминал, что случилось этой ночью, и как я, словно ползучий вьюнок, взобрался на эту несчастную женщину. Заполз в нее, точно голый слизень в трещину к загнивающему фруктовому дереву. Как почтальон, как остальные постоянные клиенты, чтобы оставить в ней свой липкий след. Хотя я не хотел. Я правда не хотел, просто спать под двухспальным шерстяным одеялом приятнее, чем в кресле, даже если запах аммиака гасит половое влечение.
– Где здесь туалет? – спросил я.
– Напротив бомбоубежища, – сказала она и сняла ключ с гвоздика за кружками.
– Один форинт, – добавила она, – и будь добр, сумку возьми с собой. Не хочу неприятностей. – Я взял сумку и побрел, протискиваясь между пустыми ящиками и алюминиевыми бочками, до конца коридора, где начиналось бомбоубежище.
Дело в том, что префектура согласилась выдать лицензию при одном-единственном условии: восемьдесят квадратных метров– “Балканская жемчужина”, восемьдесят квадратных метров – бомбоубежище, где в случае опасности сможет укрыться население. И напрасно Нолика говорила заведующему отделом: взгляните на этот подвал, а потом посмотрите научно-популярный фильм о ракетах “земля – земля”, обитатели этого дома скорее предпочтут жить в огромном мусорном баке. На что завотделом фыркнул, что он не особенно расстроится, если половина района переселится в мусорные баки, в конце концов, мусору там и место, но ничего не попишешь, таков закон. И я потянулась было к мусорной корзине, чтобы надеть ее ему на голову, как ночной горшок. Чтоб он подавился выброшенными прошениями о матпомощи, заявками на квартиры и остатками сэндвича. Но потом вспомнила, что мне не хватает одной его подписи. И я посмеялась его удачной шутке и сказала, простите, уважаемый заведующий отделом, я не хотела вас поучать, только хорошо бы еще хотя бы десять-пятнадцать квадратных метров под бочки. И когда через полтора года у меня появилась эта лицензия, оформленная по всем правилам, я уже и думать не могла, какие обои я хотела, какие скатерти, какой буфет. Такого гада я в жизни не встречала. Сюда небольшой пасхальный окорок, сюда – югославское крем-мыло, и вообще, чтобы на твоей лицензии поставили печать, надо сперва подтереть ей собственную задницу. Много раз приходилось давать на лапу даже вахтеру, чтобы просто попасть в приемную. Вы только представьте, за полтора года мне встретился всего один порядочный чиновник – когда мне нужно было зарегистрировать название и в заявлении обосновать, почему “Мангалийская жемчужина”, именно так было изначально, не “Балканская жемчужина”, а “Мангалийская”. Короче, мне надо было объяснить бюрократам, почему вдруг не “Подвал Йоли”, или не “Винный погреб Ноли”. А я была круглая дура и честно написала, что в молодости я любила румына, которого звали Перла Раду, а “перла” значит жемчужина.
– Приходите вечером, обещайте, что придете, потому что я хочу показать вам что-то очень красивое, – объяснял он наполовину по-русски, наполовину по-румынски, а я сказала, отстаньте, вон тот здоровенный мужчина мой отец, что, конечно, было неправдой. Отец целыми днями сидел в гостинице, потому что он не выносил румын и жару. А мама, наоборот, хотела в отпуск на море, в венгерском государственном турагентстве ей сказали, что лучше в Румынию, чем в Болгарию. Если проверять мясо на запах и мыть овощи, все будет отлично. Но я отвлеклась. Наполовину по-русски, наполовину по-румынски я ответила парню, я не вчера родилась и отлично знаю, что он хочет мне показать, – но я не хотела его отпугнуть, потому что он был красивым, словно киноактер, и даже красивее. Ночью я улизнула из гостиницы и глазам своим не поверила: мы сидели на берегу и смотрели, как светится море. Можно было читать при свете волн. По поверхности воды плавала какая-то тина или водоросли, которые сюда каждый июль приносит течением, и пена сияла, словно светлячки. Прежде я была совершенно уверена, что люди плачут только от боли или от грусти. Даже у моего парня были слезы на глазах, хотя он эту картину много раз видел и наверняка привык. Потом он встал и вошел в море, словно оно принадлежало ему одному, и вдруг поплыл, и зеленоватый лунный свет заструился по его спине. Сверкнули позвоночник и лопатки. Те, кто испытал это счастье, – видели Бога. Я встала и пошла к нему. Ему не пришлось звать меня, по плеску моих шагов он понял, что я иду к нему. Я напрочь позабыла про страх, до этого я ведь никогда не была с парнем. Прошлое осталось позади, мы были одни во всем мире, луна скрепила наш союз, бледно-зеленый свет стал моим свадебным платьем. Сверкающее море служило мне подвенечной фатой. Как тебя зовут? – спросила я, когда море вокруг наших бедер окрасилось в пурпур. Перла, сказал он. Что это значит? – спросила я, но он не смог объяснить. Подожди, сказал он и высвободился из моих объятий, затем он нырнул, и я была готова разрыдаться, уже не от восхищения, а от отчаяния – я боялась, что он не вернется, останется в глубине морской. Когда он вынырнул, я влепила ему звонкую пощечину, но он только рассмеялся. Затем он разжал зубами ракушку. Это перла, сказал он и поцеловал меня, и я почувствовала во рту жемчужину. Это она висит у меня на цепочке.
Если хотите, можете написать об этом, потому что это красиво.
Вот так появилась “Балканская жемчужина”. Той же ночью я сама получила страшную пощечину от родителей, через полгода по телевизору показывали товарищеский матч, и я, не скрывая, болела за румын. Поверьте мне, если вас целовали с жемчужиной во рту, вам сам черт не страшен. Мой муж, например, был венгром до мозга костей, однако на четвертом месяце беременности он колотил меня как Сидорову козу. Пошли осложнения с плодом, в итоге мне вырезали матку, а он получил год условно и затем благополучно выставил меня из квартиры в обнимку с двумя чемоданами и кофеваркой Унипресс, ну да прошлого не вернешь. Словом, я честно написала, что у меня был любовник по имени Перла, но мужчина, который принимал у меня заявление, покачал головой и сказал, не пойдет. Почему? – спросила я. Думаете, лучше было назвать в честь моего бывшего мужа, по милости которого мою матку выбросили на помойку во дворе больницы Яноша? На что он сказал, это другое, вы официально зарегистрировали отношения, если вы укажете в заявлении, что имели связь вне брака, ваше ходатайство наверняка отклонят в отделе. Хотя как частное лицо он понимает, ведь тоже бывал на море. В общем-то, почему бы не назвать романтичный винный погребок “Мангалийская жемчужина”? Поэтому он предлагает: давайте придумаем другое объяснение, естественно вместе, и естественно такое, которое бы не вызывало формальных возражений, но при этом соответствовало реальным фактам. К примеру, напишем, что данным названием мы хотим способствовать поддержанию венгерско-румынской дружбы? Укажем, что этот винный погребок призван служить той же цели, что и набережная Петера Грозы, или гостиница “Бухарест”? Как вы считаете, уважаемая Йолан? – спросил он. Делайте как знаете, сказала я. Значит, я могу написать? – спросил он и заправил чистый лист в пишущую машинку. Говорю вам, я видела около полсотни чиновников, и он единственный отнесся ко мне по-человечески, но мы немногого добились, “Мангалийскую” в итоге пришлось заменить на “Балканскую”, якобы так понятнее.
Сначала я нарисовал голову со сверкающими рогами, потом туловище, и под конец повесил ему на шею две скрижали, хотя они больше походили на двустворчатое окно, открывающееся прямо из его груди. Затем я закрасил фон в черный цвет тушью “Ворон”, одежду покрасил в красный маминым лаком для ногтей, нимб получился неоново-желтым, чтобы свет был ярче, словом, он был почти готов, только скрижали оставались пустыми, я сомневался, колебался, наконец выдохнул и девять раз написал на них карандашом для глаз: НО, НО, НО. Место для не убийосталось пустым, и от этого композиция слегка разваливалась, но я отчего-то чувствовал, что так лучше.
– Как это называется? – спросила Юдит
– Мои каменные скрижали, – сказал я.
– А почему у него скрипка в руке?
– Не знаю. Так я увидел.
– Красиво, только ты нарисовал Моисею две левых ноги. Хотя… Моисею с двумя левыми ногами больше подходит скрипка и сломанный смычок, – сказала она.
– Я хотел нарисовать кнут, но ручка получилась длинная. И две левые ноги тоже не нарочно. Я попробую исправить.
– Не исправляй, мне так больше нравится. Подаришь мне? – спросила она.
– Конечно, только не показывай никому, – сказал я.
– Не буду показывать, я наклею в скрипичный футляр.
Она достала клей для бумаги, намазала оборотную сторону картинки, и оставила немного подсохнуть.
– Давай попросим прощения, – сказал я, потому что мама уже несколько дней с нами не разговаривала.
– Раскаиваешься? – спросила она, разглаживая Моисея ногтем.
– Нет.
– Я тоже. А тогда зачем?
– Если честно, раскаиваюсь. Хотя здорово было, когда она поверила и повезла меня в больницу на такси. Поехала в халате и чуть не забыла надеть на меня носки.
– Ну и почему ты разревелся? Врач бы тоже поверил.
– Не знаю.
– Ты боялся?
– Нет.
– Ты сожалел?
– Нет.
– Из-за другого не ревут.
– Сказала тоже! Ты же ревешь иногда, когда репетируешь.
– Это другое.
– Не другое. Ревел и точка. Давай попросим прощения.
– Я не буду. Сам проси, если хочешь.
– Вместе было бы лучше.
– Я сказала, нет.
– Завтра у нее спектакль.
– И что? У меня тоже концерт в воскресенье.
– Она не пойдет, если до этого мы не попросим прощения.
– Хорошо, проси ты. Я буду стоять рядом, – сказала она.
– Ладно, – сказал я.
– Мы хотим попросить прощения, я больше никогда не буду слепым, – сказал я маме за завтраком.
– Ага, – бросила она, даже не взглянув на меня, и продолжала намазывать маслом свой долбаный бутерброд. – Вечером приезжайте в театр, я пришлю такси.
– В воскресенье у меня концерт, – сказала Юдит.
– С пяти я на репетиции, – сказала мама.
– Он будет в три, – сказала Юдит.
– Тогда ладно, – сказала мама. – Только попроси, чтобы ты не была последней. Эти концерты еще ужаснее, чем родительские собрания. Как ты выносишь столько бездарностей?
– Ну, Гроссман довольно старательный. Только несобранный, – сказала десятилетняя Юдит. Она говорила это “довольно старательный” точно с такой же интонацией, как мама про бездарностей, хотя слова были другими.
– Они тормозят твое развитие. Я договорюсь, чтобы с осени ты ходила в музыкальное училище, – сказала мама.
– Мне бы не хотелось, – сказала Юдит.
– Потом поговорим. Вечером наденьте что-нибудь приличное, к пол седьмого я пришлю такси, – сказала мама, и перед выходом сказала мне, чтобы после спектакля я попросил прощения за тот случай еще и у Чапмана.
По идее я должен ненавидеть театр. Ненавидеть гримерки, пахнущие потом, лабиринты склада декораций, оглушительные аплодисменты после представления и триста пустых стульев в оглушительной тишине через десять минут. Осенний пейзаж, свисающий с колосников и осветительную технику с сенсорным выключателем. Тень мощностью в сто ватт и летний полдень мощностью в тысячу. Суфлерскую будку, похожую на могильную яму, куда двое детей еще поместятся, но толстая уборщица уже никак не влезает. Бутафорские пистолеты, пластмассовые самовары и небьющиеся чайные сервизы. Нейлоновые тоги и солдатские мундиры, пахнущие нафталином. Лакейские ливреи под старину, с биркой швейного завода “Красный богатырь”.
Меня должно тошнить от шума в доме актера, от взглядов, еще не погасших после игры, от драматичных жестов и от плоских каламбуров.
– Полцарства за соль, мой милый Иенеке и, будьте добры, раздобудьте для меня немного хрена к этой сосиске. – А Иенеке кивает, минуточку, господин актер, сперва я принесу госпоже актрисе линейку для свежей статьи.
– Принесете четвертого, Иенеке. До четвертого я запрещаю вам шествовать мимо меня с линейкой.
– Разумеется, госпожа актриса, до тех пор никаких линеек.
– О где же хрен, вот в чем вопрос, Иенеке. Меня ждут. Через две минуты мой выход. Он снова не успеет перекусить, громкоговоритель “Тесла” уже просит господина Ричарда Третьего на сцену.
Я должен гонять гимназисток, они караулят у артистического входа и, пока просят автограф, потихоньку запихивают любовные записочки со стишками в карман Кориолану и надеются, что если не институт, то, по меньшей мере, место в костюмерной им обеспечено. Они репетируют перед зеркалом, как помогут господину актеру Уйхейи набрасывать на плечи плащ, как дадут ему в руки алюминиевый меч, и не подозревают, что Кориолана даже целое женское общежитие оставило бы равнодушным, потому как он мечтает хотя бы помочь набросить плащ прелестному мальчику, который третий день околачивается перед табличкой “Парковка запрещена” и ждет актрису Веер, у него все еще нет бесценного автографа – либо актриса уезжает в шумной компании, либо, в другой раз, золотой мой, сейчас я убегаю. Потому что автограф актрисы Веер надо заслужить. Кто недостаточно настойчив, кто стоит возле выхода только второй или третий раз, тот не заслуживает бисерного почерка актрисы. Естественно, актриса знает, кого сколько можно держать в напряжении. Про этого мальчика, например, она с первого взгляда сказала, что он будет стоять тут хоть месяц; разве он не прелесть?
А господин актер Уйхейи вынужден целых полчаса раздавать автографы будущим студенткам театральных училищ или костюмершам. Он беседует с ними, хвалит их прически и всегда что-то рассказывает о театре. А потом вдруг он яростно, точно пушечное ядро, пролетает мимо гимназистика, поджидающего мою маму, поскольку даже один многозначительный взгляд несовместим с социалистической моралью. Если правда выяснится, если кое-где узнают кое о чем, это даже хуже, чем диссидентка дочь. Тогда у господина актера появятся шансы, пока не сойдет с ума, пожить в тюрьме на Ваци, или до скончания века в будайской лечебнице для душевнобольных.
– Как возможно, что такой красивый половозрелый мужчина до сих пор не женат, товарищ Уйхейи?
– Я живу только театром, товарищ секретарь парткома.
– Конечно, товарищ Уйхейи. Даже духовенство оказывает посильное сопротивление обету безбрачия. Мужская сущность требует свое. Может, по рюмочке коньяка?
– Спасибо, товарищ секретарь парткома.
– Вы не думаете, что по примеру наших гимназисток вам, наконец, пора завести семью? Или хотя бы недвусмысленный флирт? Легкий роман с молоденькой суфлершей, что-нибудь в этом духе. Поймите, излишнее рвение на работе несколько двусмысленно, товарищ Уйхейи.
– Понимаю, товарищ секретарь парткома.
– Вот и договорились, товарищ Уйхейи. И поверьте, вы можете рассчитывать на нас. Что вы скажете, например, о премии или о кольце на память? Просто чтобы вы не нуждались в этих нескольких сотнях форинтов и без ущерба материальному положению выставили за дверь вашего несовершеннолетнего квартиранта. Молоденький квартирант помешает здоровой половой связи, не правда ли, товарищ Уйхейи?
– Разумеется, товарищ секретарь парткома.
И Кориолан шел домой, как на эшафот. Да, я дерьмо. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! – рыдал он. Но я этого не вынесу. Они уничтожат меня, как же ты не понимаешь? Собирай вещи и возвращайся обратно в Сегед! Это не люди. Они хуже паршивой собаки! Да, я бесхребетный, но я не хочу подыхать! Ну что в этом такого стыдного? Убирайся! Собирай чемодан и исчезни! – кричал Кориолан своему шестнадцатилетнему квартиранту, затем он захлопнул дверь и рыдал у гроба мужской любви, он пропустил три спектакля, поскольку осознал, что бесхребетным актерам нет смысла выходить на сцену. Врачам в больнице Корани пришлось зашивать вены на его запястье, чтобы он снова смог сжимать меч.
– Ну, выйдете вы наконец?! – спросила хозяйка и забарабанила в дверь уборной, меня уже полчаса рвало.
– Минуточку, – сказал я и быстро умылся холодной водой.
– Не вздумайте натворить глупостей, – сказала она. – Мне здесь не нужны ни санитары, ни полицейские.
– Меня тошнило, накануне я выпил лишнего.
– Тогда заказывайте не фречч, а пиво, – сказала она и поставила передо мной кружку с Кёбаньским. – Пейте медленно. Есть у вас время?
– Есть, – сказал я.
Я сидел за столиком и медленно пил. Под лестницей, около вешалок, словно вещи в камере хранения, были сложены связки газет, которых хватило бы на небольшой фургон. Здесь не присваивали шифров, каждый посетитель наизусть знал, где лежит “Народное слово”, а где “Телерадионовости”. Каждая стопка была крепко обвязана толстой проволокой, поскольку проволока давит сильнее, чем шпагат, посетители знают, что бумага от этого портится, но хозяйке не говорят: чем тоньше стопка, тем больше места в итоге. Единственное, чего не выносят уважаемые завсегдатаи, это камни между страницами, камни подкладывают, чтобы стопка была тяжелее. Опытный почитатель прессы сразу определит, есть ли в связке камни, для этого ему не нужны весы, человеческая рука определяет массу вернее любого механизма. Опытный почитатель прессы с закрытыми глазами скажет, где связка с “Работницей”, а где стопка с роман-газетой “Ракета”, пусть не пытаются засовывать между страницами камни или осколки фаянса – честь превыше всего. Я не вчера родился, мой милый Карчи. В этой пачке минимум четыре коробки с кремом для обуви. А ну-ка, развяжем – действительно, между восьмым и девятым сентябрьским номерами спрятались четыре коробки с кремом для обуви, наполненные мокрым песком, форменное надувательство. В очереди ворчат, стыд и срам. Двое посетителей уселись в уголке с прошлогодними кроссворд-газетами – делают вид, что листают в свое удовольствие, а сами проверяют, нет ли какого-нибудь утяжелителя между кроссвордами. Скажем, нескольких осколков черепицы, которые могут попасть в конвейер и тем самым причинить вред социалистической бумажной промышленности. Но в “Балканской жемчужине” подобных инцидентов не случалось, возле лестницы аккуратно, словно ткани в дорогом магазине, были сложены исключительно корректные связки газет. В утренней тишине посетители выпивали фречч или рюмку палинки, звенели секунды, начинался день. Людям казалось, лучше спать и не просыпаться, ты был прав, завотделом из префектуры, наша жизнь – одна большая помойка. Но на очереди второй фречч, Нолика включает приемник, по радио “Кошут” передают новости спорта. Жизнь возрождается, и уже не все равно, кто к твоим услугам – Госпожа Кнези из радиопередачи или черви с Нового общественного кладбища. Я поторопился, товарищ начальник, вы ошиблись, вы глубоко заблуждаетесь. Еще один фречч, и после новостей спорта мир снова кипит страстями: матч Фради опять был куплен. Весь этот розыгрыш кубка такой же блеф, что и пятилетний план. Вот Теречика травмировали и получили преимущество, а транспаранты на Национальный стадион проносить нельзя.
Йолика смирилась, что я уже несколько часов сижу в углу и толком ничего не пью. Иногда она меняла пепельницу и один раз принесла соленые орехи.
– В чем дело, вас выгнала жена? – спросила она.
– У меня нет жены, – сказал я.
– Но выглядите вы ровно так, – сказала она и ушла обратно за стойку.
Затем “Южная хроника” кончилась, и Йолика приглушила радио, потому что началась театральномузыкальнаядесятиминутка, Дёрдь Цигань берет интервью у вдовы Кальмана Юхаса из Кечкемета.
– Сегодня исполнилось сто восемнадцать лет со дня той премьеры в Дрездене, выдающийся романтик… – сказал Дёрдь Цигань.
– Какое сегодня число? – спросила Юдит.
– Седьмое, – сказал я.
– Значит, симфония Данте, – сказала Юдит, хотя музыка еще не началась.
– Почему ты не играешь в рулетку? Ты бы каждый день выигрывала торт, – сказал я.
– Если я захочу торт, то пойду в кондитерскую, – сказала Юдит.
– Отлично знаешь, торт ни при чем, просто ты любишь выигрывать, – сказал я.
– Я и так выиграла. Зачем куда-то ходить, – сказала Юдит.
– Великолепно! Поаплодируем вдове Кальмана Юхаса, – сказал Дёрдь Цигань.
– Видишь, не выиграла, – сказал я.
– Кажется, для тебя очень важно, что говорят по радио.
– Терпеть не могу, когда ты делаешь вид, словно тебе все равно.
– Не делаю вид, а правда все равно. Что в этом непонятного?
– Тогда зачем ты, например, играешь на скрипке? То есть почему не только дома? Если тебе совершенно все равно, зачем ты выходишь на сцену?
– Это совсем другое, – сказала Юдит.
– А вот и не другое, – сказал я.
– Слушай, если я играю, это не театральномузыкальнаядесятиминутка, ясно?
– Я заплачу, – сказал я Йолике, но фречч она не посчитала.
Много лет Керепеши было единственным местом в городе, где я верил в зеленую траву и в шуршание листвы под ногами. Где я чувствовал, что природа берет свое. Скалы будайских гор, укрепленные цементом, вид с горы Яноша плюс свежий воздух, или катание на лодке в Городской роще всегда оставляли меня равнодушным. Природа как луна-парк никогда меня не интересовала. Однажды Кориолан повторно перерезал себе вены, но уже со знанием дела, и, когда я услышал: “мы стоим здесь, потрясенные до глубины души” и “причина его скорбного решения навсегда останется покрыта мраком”, я сказал Юдит, пойдем прогуляемся. Мы еле-еле протиснулись сквозь толпу, и, пока пять ораторов бессовестно врали в лицо одному покойнику, я стремился удалиться как можно дальше от той делянки, где собрались актеры.
– Ты так возмущен, как будто никогда не врал, – сказала Юдит.
– Не говори, что тебе все равно.
– А ты рассчитывал, они будут стоять у могилы и просить прощения за то, что в Венгрии не рекомендуется быть пидором?
– Ну не надо же врать мертвому в лицо.
– Пойми, мы живем до тех пор, пока способны, не краснея, врать в лицо любому. Если не получается, к твоим услугам лезвие безопасной бритвы.
– Бред.
– Слушай, на этом кладбище ты не найдешь ни одного покойника, который бы не прожил жизнь как потенциальный самоубийца. Но потом вмешался рак, или ковровая бомбардировка, или старость. Не хочешь врать до конца? – получай отвращение к самому себе.
– Знаешь что? Отправляйся-ка ты домой и сама перережь себе вены. Если это вопрос времени, возьмешь смычок и перережешь себе запястье.
– Идея.
– Да плевал я на твои идеи! В чем дело, почему ты не идешь? Если финал известен, зачем дожидаться? Будешь врать до конца, или как?
– С меня хватит. Мне остается только бояться, – сказала она и зашагала прочь.
Где-то около могил времен Второй мировой я догнал ее.
– Что случилось? – спросил я.
– Ничего, – ответила она.
– Это неправда.
– Ладно, я скажу. Они думают, я еще способна врать, не краснея, – сказала она.
– Я думал, мне ты не врешь.
– Всем вру. Не спрашивай ни о чем.
– Раньше ты никогда не была циничной. Не говорила столько глупостей.
– Наверное, просто переходный возраст. В этот период человек делает трагедию из всякой хрени, – сказала она.
– Сейчас ты говоришь ровно как наша мама, – сказал я, и тут Юдит повернулась ко мне и собралась влепить пощечину, но ее рука застыла в воздухе.
– Никогда больше не смей сравнивать меня с нашей матерью. Никогда. Понял?
– Понял, – сказал я.
Мы спрятались за какими-то кустами, потому что люди начали расходиться с похорон, а мы не хотели ни с кем встречаться. Они шли маленькими группами и обсуждали выступления ораторов, словно после рядовой премьеры. Господин артист Рети говорил лучше всех. Какой же он обаятельный мужчина, хотя сейчас он скорее Лир, чем Оберон. Ты серьезно? И не говори! Дети? Да у него уже два внука. Ей-богу, это безответственно. Кому-то было жалко товарища актера Уйхейи. Бог мой, как он играл Кориолана! От его игры людей в дрожь бросало. Подумать только, в самом расцвете сил. Ты серьезно? И не говори! Что значит голубой? Это просто сплетни. Он сам распускал слухи, чтобы казаться интереснее. Не надо верить сплетням. Он менял женщин, как перчатки. Ты видел, возле могилы рыдало все женское общежитие. Кто-то считал, что так для него лучше, кто-то полагал, что, если директор еще хоть немного соображает, он возьмет в труппу Бояра из Капошвара.
Наконец, публика разошлась, и мы остались вдвоем на кладбище.
– Не сердись, пожалуйста.
– Я не сержусь, только сейчас я не хочу говорить, – сказала она, взяла меня за руку, и мы молча ходили по тропинкам, заросшим бурьяном.
Смеркалось, памятники под березами медленно тускнели. Примерно сто лет назад был установлен неписаный закон, чтобы вместо распятия могилы богатых семей венчали произведения искусства, воспевающие неизбывность полового влечения. Могилы людей с состоянием от тысячи крон и выше венчала Афродита, от пятисот до тысячи – Иисус на кресте, над остальными возвышался просто голый крест без Иисуса. И почти каждый камень обвит плющом. Лоза извивалась в мраморе, акации и липы рыли подкопы под пантеоны, корни прорастали сквозь трещины в крышках склепов, и это успокаивало намного, намного больше, чем желание господина директора Варкони взять в труппу Бояра из Капошвара. С тех пор минимум раз в неделю я ходил на Керепеши, это было единственное место в городе, где человек чувствовал, что природа еще на что-то способна.
Я заплачу, сказал я хозяйке заведения, потом я ел какое-то рагу в столовой самообслуживания и снова пытался просчитать все варианты, куда можно пойти, но все, от деревенского дома Кремеров до бывших любовниц, казалось мне смешным. Словом, к тому моменту, как рагу из зеленого горошка с фрикадельками подошло к концу, стало абсолютно очевидно, что сейчас я могу пойти только в одном направлении: к Керепеши, чтобы понять, как отныне мы будем жить вместе. Во-первых, потому что повсюду, от Огненной Земли до Камчатки, я везде буду просить “Музыкутеатрикино”, если продавец газет застанет меня врасплох, во-вторых, потому что одно дело уходить из дома с фамильной скрипкой и совсем другое – со сменой чистых трусов.
Возможно, мама права, в случае необходимости человек многое может простить своей письке, но сердечные клапаны гораздо чувствительней клитора, думал я. Когда твое сердце очерствеет, рано или поздно ты перестанешь уважать самого себя, думал я. Ты отлично все понимаешь, каждый раз выходя на сцену и играя чужую роль, ты теряла самоуважение, а в это время человек двести в зрительном зале рыдало от твоей игры, думал я. Только теперь будет круглосуточное представление, думал я. Однажды ты не выдержишь и смоешь грим, думал я. Раз уж ты поставила надгробный памятник собственной живой дочери, что же в тебе тогда осталось человеческого, думал я. Никакие кремы не смогут вернуть тебе человеческий облик, думал я, и уже третий раз обошел кладбище, но ничего не нашел.