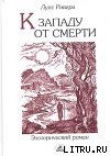Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Она писала, что вернется через две-три недели, не сказала раньше, только потому что до последнего момента сама не знала, поедет ли, и решилась неожиданно, и чтобы я не сердился, и все в таком духе. Какое-то время я в оцепенении стоял перед дверью. Затем старушка с лестничной площадки спросила, кого я ищу, как будто не знала, как будто не она несколько лет назад написала донос на нелегального квартиранта, а я сказал: никого не ищу, тетя Короди, пожалуйста, успокойтесь и не переживайте, затем я отправился домой. Я пытался думать, что на самом деле это еще ничего не значит. Хорошо, что она наконец поехала домой, об этом в свое время даже врач говорил. И наверняка она поехала одна. Понадобились один аборт и одна драка, чтобы я смог узнать правду о ее прошлом, поэтому абсолютно исключено, что она могла взять с собой полузнакомого человека. Одно дело, прожив полжизни, возвращаться домой, и совершенно другое – идти с кем-то в планетарий. По идее даже лучше, что она поехала одна, думал я. Иногда компания абсолютно ни к чему, думал я. И я не могу надолго оставить маму дома, думал я. Хотя это бы многое решило, думал я. Другое дело, теперь она не сдохнет в одиночку, думал я. Что не так уж и плохо, думал я. Мы довольно долго тянули, в отличие от Юдит, думал я. Хотя нам пришлось хуже, чем ей, думал я. Глупость, думал я. Мне неоткуда узнать, как она жила эти годы, думал я. А господин из звукозаписывающей компании мог бы послать открытку, думал я. Вместо месячного пособия по уходу за сумасшедшей мог бы написать, что у его дочери остановилось сердце, думал я. Нужно сообщить маме, что ее дочь умерла десять лет назад, думал я. Слава богу, что она переписывалась со мной, неплохо было, думал я. И что я покупаю ей кремы от морщин на деньги моего отца, думал я. Может, она даже обрадуется, думал я. А вдруг она не сошла с ума, а просто не хочет ни с кем общаться, думал я. И от радости она преподнесет приятный сюрприз поклонникам, думал я. Скажем, спустится в гастроном за едой, думал я. Если не продавец, то я точно буду удивлен, думал я. Проблема только в том, что я устал, думал я. В остальном безупречная народно-музыкальная пьеса, но я почему-то зверски устал, думал я. Если в этом проводнике есть хоть капля совести, он найдет ошибку у меня в билете и вышвырнет меня из бегущего поезда прямо в пусту, думал я. Привет, венгерская пуста, думал я. Тогда тебе придется есть меньше хлеба, думал я. Потому что Господь Бог не побежит в гастроном, думал я. Или надевай свой пожранный молью костюмчик и вперед в гастроном, или ты сдохнешь от голода, думал я. Но больше ты не будешь мудровать надо мной, думал я. Больше никаких гдетыбылсынок, думал я. Будешь у меня лететь, пердеть и радоваться, думал я. Не думай, что я не посмею тебя ударить, думал я. Я схвачу тебя за твои обесцвеченные волосы и вытащу на улицу, думал я. Вцеплюсь в твой костюмчик и отволоку в Восточные Карпаты, и без всяких яких поцелуешь ей ноги, думал я. На коленях будешь благодарить Эстер за то, что она не позволила мне сдать тебя в сумасшедший дом, думал я. И обещаю тебе, если я начну писать твоей кровью, критики только возрадуются, думал я. Так что не смей мне говорить, веди ее в мотель, как остальных, думал я. Не смей швырять в меня червивым яблоком, если я спрошу, кто такая Эва Иордан, думал я. И никогда, никогда в своей гребаной жизни не смей у меня спрашивать, чтоэтозашалавасынок! Не смей притворяться, что не знаешь, а то я размозжу твою голову об звуковую колонку, мама! Меня не волнуют твои жалобы на сердце! Да, будешь слушать эту пластинку, пока не оглохнешь!
– Добрый день, – поздоровалась со мной жена Берени.
– Добрый день, – сказал я.
– Заходите? – спросила она и подержала дверь.
– Нет, – сказал я и внезапно почувствовал, будто я отрезал себя ножницами ото всех и вся.
Когда я распрощался с женой Берени и отправился в сторону площади Кальвина, я окончательно понял, что такое свобода. Даже если под свободой мы понимаем не эйфорию, какую чувствует пилот, взлетающий в небо, и не право выбора, и не странный, немного ханжеский, настрой, когда мы, сообразуясь с нашими моральными принципами, вольны решать или осуждать, и вдобавок решение целиком и полностью совпадает с самыми нашими тайными мечтаниями и чувствами. Свобода – это не черные чернила на белой бумаге. Не четыре скрипичные струны и не десять тысяч органных труб. Не Диогенова бочка и не мгновение, когда остановится бутафорский Божий будильник и неведомая сила раздвинет прутья в клетке ребер. По-моему, свобода – это состояние, когда ничто не привязывает нас к окружающей действительности. Когда у нас ни мечтаний, ни страстей, ни страхов. Когда у нас нет ни цели, ни бесцельности, когда этот вакуум абсолютного безразличия не причиняет нам боль. Свобода удивительна в своей бесцветности. Она совершенно непохожа на равнодушие, поскольку последнее невыносимо цинично, непохожа на отчаяние, когда нечего терять, потому что отчаяние всегда скрывает стыд или тайную надежду. Если уж совсем на все наплевать, это архичеловечно. Свобода – это антипод отчаяния, это обесчеловечивающее состояние.
Пошел дождь, и я спрятался под навес газетного ларька. Продавец спросил, нужно ли мне что-то, я сказал, нет. На островке тротуара напротив мать тормошила ребенка, потому что пацан не хотел надевать капюшон, затем пришел трамвай. Некоторые торопились, бежали, чтобы успеть, пожилая женщина, держа ридикюль над головой, ринулась на красный, машины сигналили – жить надоело, матьтвою? Городские альпинисты устанавливали новый рекламный щит. Один из них оттолкнулся ногой от арматуры, описал в воздухе гигантский полукруг, словно какой-то маятник, отдал напарнику инструменты, и затем, снова оттолкнувшись, перемахнул обратно. Я не мог вспомнить, какая реклама была здесь раньше – “Лотототто”, или “Фабулой”, хотя я проходил здесь минимум два раза в день. И это меня страшно раздражало, я не люблю забывать. Наконец я спросил у продавца в газетном киоске, он сказал, “Фабулой”.
В подземном переходе работал кофейный автомат, я пил черный кофе и перебирал знакомых, с кем бы мне пообщаться.
С одним я иногда говорил о литературных журналах, а с другим о выставках – если ты не в тусовке, кури бамбук, старина, даже крошечную заметку не опубликуешь в “2000”, тебя даже смотрителем не возьмут в выставочный зал. С третьим я беседовал о жизни, у обоих все из рук вон плохо – остается пустить себе пулю в лоб или завести ребенка. А потом я вспомнил, что у меня остался ключ от Нап, могу там пробыть, сколько захочу.
Я подумал, что эти несколько дней будут очень кстати, я смогу дожать какую-нибудь толстую книгу, “Волшебную гору” или “Человека без свойств”, потому что с ними я уже несколько лет бился, словно с какой-нибудь задачкой по математике, но так и не продвинулся дальше пятидесятой страницы. Буквы расплывались перед глазами и голова трещала, словно я читал какие-нибудь ноты. Полчища муравьев на пяти линейках, страх и ужас, сил нет. Напрасно я просил Юдит научить меня, мы несколько раз пробовали, но у меня ничего не получалось. Она говорила, что для меня гораздо естественнее чечевица, просыпанная на пол из мешка, чем вещи, которые подчиняются законам гармонии. Я на это отвечал, чепуха, теоретически я знаю, что на какой линейке нужно писать и что такое бемоль или диез, просто у меня не хватает терпения собрать все эти значки воедино, а Юдит говорила, что она как раз об этом.
Сложно сказать, отчего у меня был такой напряг с этими книгами. Дело тут, конечно, не в объеме, взять тех же “Карамазовых”, их я не залпом, но все же прочитал кухонному буфету, когда решил научиться выразительно читать. В мире нет ни одного кухонного буфета, который бы слышал столько Иоганнов Себастьянов или Федоров Михайловичей. Мамочка учит роль Дездемоны, доченька играет на скрипке, сынуля читает вслух – идиллия, да и только! – а я брал с полки “Опасные связи” и усаживался в мамину остывшую ванну, чтобы передохнуть немного. Здорово было. А что касается этих двух книг, они даже в самых интересных местах производят презануднейшее впечатление. Несчастный литератор только начнет рассуждать о ботанике, или о погоде, или об ОРЗ, а я уже засыпаю. Занудные диалоги на пятьдесят страниц – к примеру, с медсестрой о температурной кривой – дико меня раздражают, и не потому что это все выдумки, а потому что, будь я этой медсестрой, давно бы отправил умника в жопу. И вообще эти описания – редкостная ахинея, пока преподобный Альберт Мохош не сошел с ума, он на протяжении шестнадцати страниц кряду слушал, сегодняяопятьсъездилженеврыло или впостянажралсямяса, а еще всякие истории о краже индоуток. Я про это написал. И разумеется, был отправлен в жопу. Та женщина выскочила из зала, словно из чумной палаты. И ведь была права.
И все же я снова взялся штурмовать “Волшебную гору”, в основном потому, что еще весной одна журналистка у меня спросила, случайно ли вышла параллель между моей “Историей хосписа” и “Волшебной горой”, прошу вас, поймите меня правильно. На что я ответил, конечно неслучайно, нормальный человек осознает, что хочет сказать, и любой литератор существует на фоне широкого культурного контекста. Культурный контекст пришелся очень кстати, потому что журналистка больше не умничала. Словом, я начал заново читать первый том и радовался, что у Эстер то же издание, что у меня, коричневое, потому что я к нему привык, но честно говоря, параллелей я не находил. В “Хосписе” совершенно другие люди помирают и совершенно по другим причинам, и они не слишком расположены трепаться с кем ни попадя, ну да ладно.
Впрочем, за несколько дней я вполне уютно обустроился в Давосе, только мне не удалось узнать, существует ли на самом деле место с таким названием, потому что у Эстер нет дома атласа. Хотя господин писатель был довольно педантичным человеком, но вряд ли он предполагал, что в будущем дотошные читатели начнут еще попутно заглядывать в справочники. По-моему, он даже Ганса Касторпа нашел в каком-нибудь особом списке или в архивах в морге, имена он, скорей всего, не выдумывал, хотя в плане понимания авторской идеи это не играет роли. Подобная любовь к достоверной реальности очень даже объяснима, в конце концов, я сам старался, чтобы Юдит писала исключительно из мест, которые отмечены на карте мира. Не могу сказать, что за все эти годы мне ни разу не пришло в голову чего-нибудь эдакого, какого-нибудь курорта на Летейском берегу. В первую очередь я думал о маме, она ведь искала на карте мира эти чертовы города. Даже если бы Юдит написала из Антарктиды, что с того? Да, там зверски холодно, но на хреновой карте она есть, не придерешься. А что касается архивов в морге, я, черт возьми, действительно забыл посмотреть.
Короче, Давос – ничего местечко. Еще мне дико понравилось, как туберкулезные женщины умоляли туберкулезного господина Альбина на верхней террасе, спрячьте пистолет и в другой раз не прогоняйте чистильщика бассейнов, если тот захочет полечить вас спиртом. Мне было любопытно, пустит себе в итоге пулю в лоб Адонис или нет. Меня куда больше занимает сюжет, интрига, чем нездоровые восторги Ганса Касторпа по поводу сущности времени. Господин Фюзеши тоже задумывается о сущности времени, он от души удивляется, как странно истекают минуты в добавочное время, не говоря уже об одиннадцатиметровых. Еще есть женщина в спортивном костюме, Эржи, которая раз в неделю обещает Иолике повеситься. Если она исполнит обещание, за ней последует весь четвертый этаж, и реально Эржи всегда занималась вещами куда серьезней, чем выкладки господина Фюзеши.
Еще я иногда играл в шахматы сам с собой, на доске, которую когда-то получил от Эстер к Рождеству. Мне удалось сыграть отличную партию. Со стороны можно подумать, что я сбрендил, но это только на первый взгляд. Если мы сделаем ход и перевернем доску, через несколько мгновений с треском рухнут все наши представления о шахматной игре, особенно если кто-то понимает в игре примерно столько же, сколько я. Уверяю вас, так даже интереснее. Отъявленного знатока или рядового зэка нимало не смутит, если по другую сторону баррикады он увидит самого себя, но я в последние годы играл исключительно с Эстер, да и то недолго. В детстве я любил играть с Юдит, не только из-за самой игры, а потому что мне нравилась клетчатая доска. И вот что интересно, в период развития вторичных половых признаков ситуация изменилась. Настолько, что, когда после несложной операции по удалению миндалин Юдит вернулась домой, мы перестали играть в шахматы. И Эстер мне удалось поставить мат всего несколько раз, потом выяснилось, что она много лет по воскресеньям играла в шахматы с ветеринаром, который потом усыпил ее дедушку.
Я впервые играл в одиночку, хотя дело, казалось бы, очевидное. Играть в одиночку – это не более абсурдно, чем, скажем, в одиночку заниматься любовью или в одиночку пить утренний кофе. Повторяю, мне даже удалось разыграть несколько удачных партий. Один раз я белыми вынудил ту сторону разменять ферзя, у черных не было выбора, через пару ходов стало ясно, что лучше было пожертвовать коня, и этим разменом белые только создали себе лишние проблемы. Они попытались захватить пешку на правом фланге, но черные задумали какой-то сатанинский маневр, начали с короля и последовательно, ход за ходом, прорвались за линию обороны, и затем на А8 ладьей ударили по пешкам и тем самым выбили почву из-под ног у слона.
Я славно провел время со слюнтяем Касторпом и с тридцатью двумя фигурами. По правде, гораздо больше времени я уделял Клавдии Шоша, об этом сложно было бы не упомянуть, хотя и рассказать особенно нечего. Когда она нервно хлопала дверью в ресторане и потом, в белом джемпере, терзая косу, садилась к “правильному” русскому столику, словом, когда эта женщина с восточным, киргизским, лицом, появлялась снова и снова, научные изыскания господина Сеттембрини о парадоксах логического мышления начинали раздражать меня все сильнее. Настолько, что, когда мадам Шоша будто бы случайно появилась в предбаннике перед рентгеновским кабинетом и, немного сгорбившись, закинув ногу на ногу, начала листать цветную газету, читатель в моем лице крепко задумался, черт возьми, жизнь могла сложиться совершенно иначе. К примеру, если бы он пятнадцать лет встречался с этой женщиной, если бы по пешеходному переходу брела не полупьяная шлюха, держа в руках туфли и полудохлую птицу, а эта Клавдия… ну да ладно, что я там писал об особых списках, зачеркиваем. В общем, в те дни я был, можно сказать, счастлив. Иногда я выходил в круглосуточный магазин на проспект. Ночью, поскольку не хотел, чтобы соседи меня видели.
Когда я вернулся, дверь была открыта. На кухне сидели двое мужчин в костюмах, судя по всему, уже довольно долго. Они пили кофе и курили. Когда я вошел, они даже не встали.
– Вы ответственный квартиросъемщик? – спросил коренастый и попросил, чтобы я показал документ, удостоверяющий личность. Было ясно, зачем они пришли, однако в таких вопросах лучше играть по их правилам. Худощавый отодвинул ногой табуретку и кивнул мне, чтобы я садился.
– Я могу закурить? – спросил я, словно был не у себя дома.
– Естественно, – сказал он и протянул мне пачку.
– Спасибо, у меня есть, – сказал я.
– Оставьте, вам еще пригодится, – сказал он, в его голосе не чувствовалось угрозы, и все же я взял из его пачки. По крайней мере, будем курить одно и то же, думал я. Казалось, из двоих старший по званию – он. Правда, они забыли представиться, что у них, впрочем, не редкость. Мне очень хотелось, чтобы мы поскорее покончили с положенными формальностями, поскольку я в любом случае не собирался ничего отрицать.
Коренастый посмотрел на коллегу, понял, что тот не собирается сейчас говорить, и зачем-то проронил:
– Очень уютная квартира, – словно это было какое-то существенное замечание, которое может отпустить только старший по званию. Лучше бы заговорил худощавый, думал я. Он казался гораздо более вменяемым, чем это свиное рыло, но, судя по его неподвижному взгляду, был садистом.
– Да, – сказал я, мне не хотелось говорить на посторонние темы.
– И обставлена мило.
– В основном декорации, – сказал я.
– Но на пятьсот франков в месяц вполне можно прожить, – сказал он. И я начал немного нервничать, потому что какое его дело, на что мы жили.
– Да, – сказал я отрывисто. Я хотел было добавить, что, с тех пор как стали печатать мои рассказы, я езжу на встречи с читателями и открываю выставки, что с недавних пор я сам неплохо зарабатываю, но решил, это только запутает разговор.
– Даже вдвоем, – сказал он.
– Даже вдвоем, – сказал я. От этих пошлых намеков у меня заныл желудок, но протестовать я не стал.
– Перерыв, – сказал худощавый и снова протянул мне сигарету. Пока я курил ее, слышно было только тиканье будильника. Я попытался вспомнить, в каком спектакле были задействованы эти часы, в голову приходило “Много шума из ничего”, хотя там они точно не могли быть задействованы.
– Очень уютная квартира, – сказал коренастый, когда я потушил окурок.
– Да, – сказал я.
– И обставлена мило.
– В основном декорации, – сказал я. Мне показалось, где-то я это уже слышал. Вряд ли мы сидим тут, чтобы рассуждать о ворованных декорациях.
– На пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.
– Да, я уже сказал, что можно.
– Даже вдвоем.
– Я уже говорил, можно вдвоем.
– Перерыв, – эхом вмешался худощавый. На этот раз я не взял сигарету. Мы молчали, я злился, поскольку никак не мог вспомнить, в каком спектакле служил реквизитом этот будильник. Меня раздражало, что мы никак не закончим положенные формальности. Я чистосердечно во всем сознаюсь и затем получу пожизненное, или пятнадцать лет, в любом случае я не стану ничего отрицать.
– Очень уютная квартира, – сказал коренастый. Мне ужасно хотелось встать и сказать, пойдем, но я знал, что нельзя этого делать. Еще мне пришло в голову, что я не могу сказать двум палачам то заветное слово, которое сказал Эстер на мосту Свободы пять лет назад.
– Зачем вы спрашиваете? – выпалил я.
– И обставлена мило.
– Мы уже это обговаривали, здесь только декорации.
– На пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.
– Чего вы хотите? – спросил я у второго, но тоt не ответил. Он пил кофе из маминой кружки, его серые сверла сверкали, он молчал.
– Даже вдвоем, – сказал коренастый.
– Конечно, даже вдвоем. Если пересчитать на наши деньги, выйдет, что примерно столько здесь платят врачам, – сказал я.
– Перерыв, – сказал худощавый и поставил чашку на стол.
– Какой еще перерыв! Скажите, чего вы хотите, и пойдем наконец, – сказал я и хотел встать, но старший по рангу кивком головы показал, что еще не время, и я не двинулся с места. Снова воцарилась тишина, мы сидели и слушали, как тикает будильник.
– Очень уютная квартира, – снова начал он.
– И обставлена мило, и несомненно, на пятьсот евро в месяц вполне можно прожить. Сколько еще будет продолжаться весь этот бред?
– И обставлена мило, – сказал он.
– Прекратите вы когда-нибудь? Вы что, дураки, или меня за дурака держите?
– На пятьсот франков в месяц можно прожить.
– Да! Мы отлично жили на пятьсот франков в месяц! Хватало на дрянную косметику и огнетушители! Вполне обходились! Все в шоколаде!
– Даже вдвоем.
– Перестаньте, вы, скотина!
– Перерыв, – сказал худощавый и протянул мне сигарету. Я отказался, поскольку у меня начинали сдавать нервы. Я попытался взять себя в руки, я понял, что нельзя терять самообладание. Чего бы они ни хотели, надо оставаться непроницаемым. Это была ошибка, я не ответил на вопрос. Да, это была ошибка. Я попался в ловушку. Я принимаю их правила игры.
– Уютная квартира, – снова заладил коренастый.
– Да, сказал я.
– И обставлена мило.
– Мне самому нравится, хотя это только декорации, – сказал я.
– Но на пятьсот франков в месяц можно прожить.
– Да, вполне можно, – сказал я.
– Даже вдвоем.
– Естественно, даже вдвоем, – сказал я.
– Перерыв, – сказал худощавый. Я курил сигарету, слушал будильник и чувствовал, сейчас все прошло как надо. Единственная ошибка в том, что я отвечал немного другими словами, чем в первый раз. Затем я подумал, наверно, они сами уже не помнят, как я отвечал сначала, и решил придерживаться последнего образца.
– Уютная квартира, – сказал он.
– Мне самому нравится, хотя это только декорации, – сказал я, но тут же понял, что ошибся, поскольку эту реплику я должен был произносить после второй фразы. Я попытался скрыть замешательство и снова сосредоточился.
– И обставлена мило, – сказал он.
– Мне самому нравится, хотя это только декорации.
– На пятьсот франков в месяц можно прожить.
– Да, вполне можно.
– Даже вдвоем.
– Даже вдвоем. Перерыв, – сказал я, и понял, что окончательно все испортил. Напрасно я продумывал стратегию. Эту фразу должен был произносить худощавый, поскольку он здесь командует. Я не могу приказывать, когда делать перерыв.
– Перерыв, – сказал худощавый, словно ничего не случилось. Мне было бы легче, если бы он как-то отреагировал. Если бы, скажем, он не дал сигарету. Потом я подумал, наверняка скоро конец, они ведь тоже люди, они сами долго не выдержат. Даже хорошо, что мы делаем эти перерывы, по крайней мере, можно сосредоточиться, но тут он опять начал.
– Уютная квартира.
– Да.
– И обставлена мило.
– Да, но это только декорации. Дальше.
– На пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.
– Да.
– Даже вдвоем? – спросил он. Я уже собирался ответить, да, как вдруг меня пронзила мысль, что он всегда просто говорил это, а не спрашивал. До сих пор он ничего не спрашивал. До сих пор не было ни одного, черт побери, вопроса. Я почувствовал, что они заманили меня в ловушку, что они хотят вымотать меня, взять измором, и не ответил им, как полагается, а начал орать: нет! на двоих не хватало! я ничего не делал! прекратите наконец, вы, козлы! – и тому подобное.
– Перерыв, – сказал худощавый, когда я успокоился и извинился. Я получил сигарету и хотел спросить, могу ли я выпить воды, но не осмелился.
– Уютная квартира.
– Да, – сказал я.
– И обставлена мило.
– Спросите что-нибудь, – сказал я. – Я не понимаю вас. Спросите, и я отвечу, если смогу.
– На пятьсот франков в месяц можно прожить.
– Я правда отвечу! Зачем вы так? Почему вы думаете, что я буду все отрицать? Спросите что-нибудь, ради бога! Спросите, понимаете?
– Даже вдвоем?
– Да, но это не имеет отношения к делу. Причем здесь квартира и ее обстановка? Спросите что-нибудь, в чем есть смысл. Спросите, зачем я это сделал? Хорошо? Перерыв, а потом спросите, умоляю вас.
– Перерыв, – сказал худощавый. Я подумал, они в общих чертах выяснили, что надо спрашивать, и теперь я спокойно могу попросить стакан воды, в конце концов это не тюрьма, это пока наша кухня. Затем я подумал, наверняка скоро конец, недолго осталось, если я даю показания, странно ожидать, что я буду клянчить стакан воды в собственной квартире, и я прикусил сигаретный фильтр, и стал его жевать, потому что, когда жуешь, выделяется слюна и не чувствуешь жажды.
– Уютная квартира, – сказал приземистый. Я решил, что он просто хочет меня напутать. Настал момент истины, думал я. Сейчас он спросит, зачем вы это сделали, и я все расскажу как на духу.
– Да, – сказал я.
– И обставлена мило.
Я молчал. Не из упрямства, скорее от усталости. Я посмотрел на второго, чтобы понять, могу ли я помолчать немного. Его лицо было таким же гладким и неподвижным, как в момент, когда я вошел на кухню, и взгляд был таким же сверлящим.
– На пятьсот франков в месяц можно прожить.
Худощавого я ненавижу больше, чем коренастого, думал я.
Ведь это он говорит: перерыв, и он дает сигарету.
– Даже вдвоем.
В нем не было ничего человеческого. По сути, он смотрел на меня, словно на какой-то предмет. Как на робота, который говорит четыре запрограммированные фразы и курит, снова говорит и снова курит. Я ненавидел его, а ударить не смел, наверно, поэтому я ненавидел его еще больше – за то, что он сильнее меня и лучше знает, чего хочет. Коренастый просто исполнитель. А этот мертвец со сверлящим взглядом отдает приказы и отправляет на смерть. Почему ты не скажешь, перерыв? Уже было дажевдвоем. Какого лешего мы не делаем перерыв, ты, хрен собачий? Че вылупился? Впервые видишь убийцу?
– Перерыв, – сказал он, вылил в раковину остатки чая из маминой чашки и поставил передо мной кружку с водой. Лучше бы он сначала спросил меня, хочу ли я пить, думал я. Лучше бы он что-то сказал или просто показал взглядом, доволен он или недоволен, думал я. С ума можно сойти, думал я. Под камертон тикающего будильника я медленно отхлебывал воду. Я знал, сейчас не будет сигареты, перерыв продлится ровно до тех пор, пока я не выпью воду. Когда я поставил на стол пустую кружку, у меня в горле было точно так же сухо, как раньше, я подумал, надо было оставить пару глотков, наверняка больше воды я не получу. Потом я подумал, ничего страшного, можно был о вообще не пить воду. Совершенно ясно, что экзекуция будет длиться, пока я не потеряю сознание. Тогда уж чем раньше, тем лучше. Ясно как божий день, их не интересуют мои показания. Они ни за что не спросят;, зачем вы это сделали. Господи, зачем я проболтался.
– Уютнаяквартира.
Это хуже, чем гдетыбылсынок, думал я.
– И обставлена мило.
У них нет права, думал я.
– Но на пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.
В общем да, думал я.
– Даже вдвоем.
Эстер вернется, думал я.
– Уютноимилононапятьсотвдвоем.
Эстер, думал я.
– Ваш сын немного устал, товарищ капитан.
– Сейчас, – сказал сверловзглядый, и тогда я зарыдал: ты скотина, ты мерзкий сексот, я тебя убью, ты хрен собачий, но это их уже не интересовало. Они встали и оставили меня, скрюченного на табуретке, словно мешок с говном. Я слышал, как они заколачивают входную дверь, и, когда кончик гвоздя протыкал доску, я в страхе вздрагивал, оттого что кричу, и с меня льется пот, и в дверь колотят. Внезапно я понял, что не знаю, где нахожусь. Вернулась Эстер, а я забыл ключ в замке, это она колотит в дверь, потому что не может войти, я даже забыл, что надо врать, будто мама в больнице. Затем я выглянул из окошка в ванной, но это был только сборщик платы за коммунальные услуги. Я дождался, пока мужчина засунет платежное извещение в щель между дверью и косяком, потом слез с табуретки, умылся, и это окончательно привело меня в норму. Я навел порядок в комнате, убрал на место шахматы, “Волшебную гору” и постельное белье. Я собрал пустые пакетики из-под печенья и коробки из-под сигарет, выскреб гущу из кофеварки и поставил зубную щетку в стакан, как Эстер обычно делала, поскольку не хотел, чтобы она когда-нибудь узнала, что эти дни я провел у нее.
В дверях я услышал, как скрипит проигрыватель, и подумал, игла окончательно накрылась. Уже несколько лет были неполадки, лапка не хотела возвращаться на место. Ковер был усыпан письмами Юдит: “Уважаемая мама, вчера у меня было выступление в Амстердаме”, “Уважаемая мама, сегодня у меня выступление в Лиссабоне”, “Уважаемая мама, завтра у меня выступление в Монреале”. Они были разложены по дате отправления, словно какой-то пасьянс, ящик письменного стола был выдвинут. Все его содержимое – конверты, адресованные в нигдененаходящиеся гостиницы и бессмысленные заявки на возмещение ущерба – было вывалено на пол. Мама в поеденном молью платье лежала на моей кровати, сжимая в руках разодранную в клочки цыганскую девушку из Каракаса и остатки извещения из Красного Креста, на мгновение мне показалось, она еще жива, потому что глаза ее были открыты и она смотрела на меня, точно сквозь запотевшее стекло.
– Она скончалась где-то полтора дня назад, – сказал врач, ухоженный мужчина предпенсионного возраста, в грифельно-сером костюме и с ногтями, наманикюренными в салоне. – Скорей всего, сердце, но вскрытие покажет.
– Вскрывать обязательно? – спросил я.
– В принципе надо бы, – сказал он, слегка подчеркивая это “в принципе”.
– Я хочу знать, отчего она умерла, но без вскрытия, – сказал я и вложил ему в руку пятитысячную.
– Сердечная недостаточность. После тридцатилетней практики опытный врач легко поставит диагноз с первого взгляда, – сказал он, достал кошелек, аккуратно разгладил банкноту и спрятал ее.
– Уверены? – спросил я.
– Я да. Но если вы сомневаетесь, тогда конечно, лучше делать вскрытие. Сейчас научились превосходно зашивать, вы ничего не заметите.
– Откуда вы знаете, что она не умерла, к примеру, от голода? – спросил я.
– Вы что, никогда не видели людей, которые умерли от голода? – спросил он, а я ответил, как ни странно, нет.
Только во дворе я решился закрыть крышку гроба. Я хотел, чтобы она, пускай ненадолго, увидела внешний мир, раз уж ее глаза остались открытыми. Когда рабочие затащили гроб на второй этаж, соседи диву давались, за пятнадцать лет они успели забыть про маму, словно про общественные туалеты или про обвалившуюся прачечную в бомбоубежище под лестницей. Затем я сказал женщине в бюро, что хотел бы похоронить ее как можно позже, поскольку надеялся, что со дня на день вернется Эстер, но женщина ссылалась на какой-то новый порядок. Она испуганно говорила, что труп и так уже двухдневной давности, и не хотела продлевать замораживание даже за доплату.
– Почему вы не кремируете? – спросила она. – Это практичнее, и вы сможете выбрать дату, которая подходит всем членам семьи, но я сказал, что не сожгу свою маму, и расписался в книге, где она мне показала.
Слава богу, насчет могилы не пришлось заморачиваться, мама арендовала место на Керепеши на двадцать пять лет вперед, из которых прошло пока только пятнадцать. Гранитный мастер сказал, что Юдит Веер он не будет выдалбливать, так не положено. Я подумал, может, оно и к лучшему, и мы договорились, что снизу он выдолбит “Ребекка Веркхард”, а сверху – “Ребекка Веер”, так даже останется место.
– Никакую надпись не хотите? – спросил он.
– Нет, нет, – сказал я.
– Обычно выбивают, – сказал он. – Короткую молитву или цитату из стихотворения. Я покажу вам тетрадь с образцами.
– Лучше не надо, – сказал я. – А рисунок вы тоже можете выбить? – спросил я.
– Конечно, – сказал он.
– Тогда выбейте пеликана, – сказал я.
– Пеликанов среди образцов нет. Только крест, или плакучая ива, в этом духе, – сказал он.
– Вот образец. Можете оставить у себя, наконечник золотой, – сказал я.
В субботу с утра я зашел к Эстер посмотреть, вдруг она вернулась, мне хотелось, чтобы она увидела это исхудавшее тело, ногти, в последнюю ночь изгрызенные до лунок, на узловатых пальцах, с семью памятными кольцами, памятное кольцо сезона Юлии, памятное кольцо друзей поэзии, памятное кольцо московского фестиваля… да мало ли, фальшивые кольца, с которых уже давно слезла позолота, и они окрашивали основание пальца в черный или зеленый, в зависимости от того, были они сделаны из меди или из алюминия. Я хотел, чтобы она увидела ее липкие от лака соломенно-желтые волосы, на которых из года в год все причудливее ложилась краска, из-под которых уже просвечивала пепельно-серая кожа головы, груди. Я хотел, чтобы Эстер увидела груди, снова тугие от трупного яда, которые мама в свое время, после того как новорожденные сосали их полтора месяца, мазала солью, чтобы укрепить соски, но больше всего я хотел, чтобы она увидела мертвый взгляд, взгляд, ничем не отличавшийся от живого, синее свечение которого, начиная с субботы, будет освещать глубину пятнадцать лет ожидавшей ее могилы, потому что я так и не смог закрыть ей глаза.