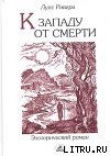Текст книги "Спокойствие"
Автор книги: Аттила Бартиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Думаю, врач, в свою очередь, выписал ей крем для спортсменов “Рихтофит”.
– Выписал. Затем мама заперла меня в туалете, натянула резиновые перчатки и с помощью шнура от утюга пыталась провести ток в ручку входной двери, чтобы в дальнейшем все, кто помогает мне отправить ее в больницу Липотмезе, подыхали прямо на лестнице. К счастью, она повернула тумблер на нуль, и всего-навсего выбило пробки.
– Ужас какой.
– Привыкаешь, – сказал я. – Слава богу, когда она включает свет, всегда надевает резиновые перчатки. Ей повсюду мерещится опасность. Кстати, если бы телевизор и фен работали от пульта дистанционного управления, возможно, я бы до сих пор сидел в туалете.
– Ты сумасшедший. Как можно над этим смеяться? – спросила она, смеясь.
– Можно, если я знаю, что Эстер Фехер сейчас обнимет меня, – сказал я, и она обняла меня, и ее язык несколько минут боролся с моим в темноте ротовой полости, но потом я отдал победу ей. Я позволил ей завладеть областью от губ до горла, потому что за это время я нашел кнопку на ее летнем платье. Ты в самом деле сумасшедший, так нельзя, сказала она, но я уже чувствовал, как набухают ее соски, как каменеет клитор, словно сказочные кристаллы, внизу, в глубине шахты, они мягче морской губки, но как только их озарит свет, они становятся твердыми, как розовый кварц. Я уже чувствовал, как ее пальцы заползают между пуговицами на штанах, я слышал биение ее сердца. От ударов молота в сердечных клапанах эхом отозвался весь Восточно-Будапештский-промышленно-спальный район, для которого, по доброму Божьему велению, было сделано исключение и куда с самого утра не ступала нога человека. Еще! – прохрипела она в блиндаже углового столика в комнате размером с сарай, и, пока одна моя рука забиралась в гладкую глубину лабиринта наслаждения, другая зажимала ей рот, потому что я знал, что на ее крики сбежится весь обслуживающий персонал. Откуда ни возьмись появятся официанты и прибегут посудомойки, но возврата уже не будет. Я знал, что сейчас даже целый полицейский батальон не способен меня остановить. Еще одно движение, и от зависти позеленеют все нефтяные скважины Кувейта и гейзеры Исландии. И тотчас ожили искусственные цветы, прикрученные проволокой на трубу радиатора, пошли волнами линолеум с рисунком под мрамор и плафон в стиле кубофутуризма, погасли неоновые лампы, и заволновались, ослепляя глаза, нейлоновые шторы, словно кто-то с помощью шнура от утюга пропустил ток в ресторан “Розмарин”, ожидающий закрытия. Потом задрожали стены и на их фоне затрепетал весь соцреализм с двумя пивными кружками и полными пепельницами, потом Эстер упала на стол, и я хотел было упасть на нее, но вдалеке в полумраке замаячила слишком антропоморфная фигура Бога, который спросил, будете еще что-то заказывать, а я сказал, не знаю, то есть конечно, принесите еще две того же самого.
– Больше, – прошептала Эстер, все еще закрывая лицо рукой, поскольку боялась, что ее глаза вот-вот все выдадут. Боялась, что сейчас ее опустошенный взгляд вмещает в себя целый параграф о непристойном поведении, и я чувствовал, что параллельно второй рукой она пытается быстро навести порядок под столом.
– Меня отстранили от работы на полгода, – сказал я, когда мы наконец остались одни.
– Всего-то? Меня на десять лет приговорили к заключению, – сказала она и улыбнулась, и провела своим скользким пальцем по моим губам, прежде чем поцеловать, а я добавил, что тогда меня – пожизненно.
– Почему ты хочешь ее увидеть? – спросил я уже на улице.
– Сама не знаю, – сказала она.
– Она тебя заочно ненавидит.
– Понимаю. Ты говорил ей обо мне?
– Нет. Она знает тебя по запаху.
– Я бы ужасно ненавидела того, кого знаю только по запаху.
– Ты не моя мама, – сказал я.
– Думаю, в глубине души я хочу увидеть не ее. Ну то есть ее я тоже хочу видеть, но по-другому. Из любопытства. С любопытством я как-нибудь справлюсь. Но я боюсь, и ничего не могу с собой поделать.
– Тебе нечего бояться.
– Думаю, я боюсь даже не ее, а ее сына. Боюсь, что ты поможешь ей скрыться и запрешь в комнате, совсем как тюремщик.
– Тогда пойдем, – сказал я и взял ее за руку, хотя знал, что мама с точностью кардиохирурга найдет то единственное сочетание слов, которое навсегда вырежет из сердца Эстер развевающиеся нейлоновые шторы, танцующий плафон и сожженный спермой линолеум в ресторане “Розмарин”. У меня тряслись поджилки, но я позволил Эстер купить цветы в подземном переходе. Мы вошли. Мама смерила ее презрительным взглядом, даже не поинтересовалась, как ее зовут.
– Я не потерплю, чтобы ты приводил ко мне своих шлюх. Веди ее в мотель, как остальных, сказала она и захлопнула дверь, и я увидел, как слезы вымывают из глаз Эстер последние остатки света. Это “как остальных” было больнее, чем если бы ей плюнули в лицо или дали пощечину.
Поля, огороженные колючей проволокой, сторожевые башни вдалеке. Темнеют, насколько хватает взгляда, отверстые ямы правильной прямоугольной формы. Перед каждой ямой эмалевая табличка, на которой указано время посадки. Врач в мундире ведет меня по поселку. Он объясняет, что я должен делать. Около одной ямы он останавливается и показывает вниз. За этой следи отдельно, мы возлагаем на нее большие ожидания, говорит он. Вдалеке какая-то слепая старуха размахивает белой палкой.
– Просыпайся, тебе пора идти, – сказала Эстер.
– Не пойду, – сказал я.
– Надо.
– Мне еще десять лет назад не следовало возвращаться.
– Возможно. Но сейчас тебе надо пойти домой.
– Я ненавижу ее.
– Не надо, предоставь это мне, – сказала она.
– Гдетыбылсынок?
– Не смейте больше этого спрашивать, мама.
– Это ты не смей приводить сюда своих шлюх. Я не нуждаюсь в зрителях.
– Эстер, мама! Эстер Фехер! Выучите это имя! Запомните его лучше, чем свое собственное!
– Это моя квартира! Здесь я называю ее, как хочу!
– Ошибаетесь, мама!
– Шлюха! Шлюха, понял?! Грязная шлюха! Такие хороши на один раз – поразвлечься!
– Я вас очень прошу, замолчите, мама!
– И у нее еще хватает наглости сюда совать нос! Несколько раз потрахались, и она уже тут как тут со своими цветочками!
– Я сказал, замолчите!
– Я знаю, с этой шалавой ты трахаешься уже несколько месяцев! Думаешь, я не знаю!? Ну и тварь! Хочет меня извести!
– Вас попробуй изведи, мама!
– Эта дрянь заморочила тебе голову! Пока эта пиявка не впилась тебе в хрен, ты не осмеливался так со мной разговаривать!
– Я был не прав, мама! С вами только так и надо было разговаривать. Вся венгерская театральная общественность была не права. Товарищ Феньо стал единственным исключением!
– Замолчи!
– И еще Юдит осмелилась, только в письме! Только с другого конца света она осмелилась написать, что…
– Заткнись!
– Какая разница, заткнусь я или нет?! Ничего нового я не скажу, только правду, от которой вы сошли с ума!
– Убирайся в свою комнату!
– Кто десять лет не выходит на улицу, тот псих, мама! Форменный псих, поняли! Умрите уже, вам пора! Сдохните наконец! – заорал я, захлопнул дверь и бросился на кровать, меня всего трясло, я думал, что у меня разорвутся жилы или что я задохнусь, поскольку говорил вещи, которые человек вменяемый никогда себе не позволит.
Через десять минут она постучала. Она стояла в дверях, причесанная, с накрашенными губами, ее халат был плотно запахнут. Она спросила: гдетыбылсынок, как будто ничего не помнила, и я чуть не разрыдался. У меня были дела, мама, сказал я, я сварила томатный суп, сказала она, потом она налила жидкой бурды, и наши ложки синхронно застучали по тарелкам, мы, как ни в чем не бывало, отломили хлеба и проглотили по кусочку. И я понял, она не притворяется, она правда не помнит ни одного моего слова. И впредь, если случится что-то подобное, она будет напрочь забывать о том, из-за чего мы могли бы кардинально переменить образ жизни.
– Завтра купи мне фруктов, – сказала она.
– Хорошо, я куплю яблок, – сказал я.
– Лучше винограда. Да, я хочу винограда.
Однажды в пятницу Эстер принесла из библиотеки пишущую машинку “Ремингтон”, купила пятьсот листов бумаги “Чайка”, копирку и пачку домашнего печенья, водрузила все это на стол и рядом поставила два кувшина с холодным чаем.
– Не хочу тебя видеть, – сказала она и развернула два кресла спинками друг к другу.
– Выходит, я читаю для стены, – сказал я.
– Конечно, – сказала она, и я начал читать свои истории белой стене.
По стуку печатной машинки я знал, где меняется порядок слов или выпадает эпитет, понимал, что эпитет был явно лишним, и продолжал читать “Историю мечтающего о зарплате”, “Историю грузоперевозки” и “Историю скрипичного вора”. Когда наступили сумерки и стены начали темнеть, мне приходилось периодически закрывать глаза, потому что строчки путались и переплетались. Когда я стал читать “Историю детского лечения”, казалось, белые нитевидные черви извиваются на черном поле, и мне стало страшно, я понял, что с закрытыми глазами тоже могу читать. Выяснилось, что я лучше помню фразы, написанные несколько лет назад, чем вкус домашнего печенья, которое только что размочил в чае. И тогда я сказал Эстер: давай прекратим, это все бессмысленно. Стыд и срам, никакого полета фантазии, одно воспаленное воображение. Но она не ответила, просто взяла два новых листа, положила между ними шуршащую копирку, я слышал, как она стучит по столу ребром сложенных листков и заправляет их в машинку. Она ждала, и я глотнул еще чаю и продолжил читать “Историю артиста”, а когда закончил, она сказала мне, что на сегодня хватит, она устала.
Ей пришлось накрыть запястья мокрыми носовыми платками, от долгого печатания у нее начали неметь подушечки пальцев. Я принес из ванной крем “Нивея” и намазал ей сначала ладони, а потом руки до плеч. Затем она повернулась, подставляя мне лопатки и поясницу.
– Теперь немного ниже. Болит твой любимый позвонок, – сказала она и вытащила подушку из-под живота. – Тебе нужен нормальный стул. Когда выйдет книжка, отнесешь его обратно в больницу.
– Я не хочу книжку, – сказал я.
– Не перечь мне. Лучше намажь везде, – сказала она, и я медленно намазал ей все тело, от шеи до пальцев ног, и потом, возвращаясь обратно, я добрался в окрестности половых губ, покрытых капельками пота, но старался не прикасаться к ним.
– Везде, – сказала она из-под растрепанных волос, но я продолжал согревать ее пульсирующий клитор одним лишь дыханием, потому что мне хотелось понаслаждаться предчувствием страсти.
– Господи, больно, – простонала она, когда я попытался войти в нее, и я собрался отступиться, из дальнего закоулка моего мозга кто-то чуть слышно требовал пощады. – Я хочу. Я так хочу, – прохрипела она, десять ногтей вонзились в мою плоть, и она опрокинула меня в себя, словно вонзая копье в собственное тело, и, когда раненый зверь взревел, я понял, что страдание неизбежно переплетается с наслаждением. Что блаженство – это, в сущности, облагороженная боль.
Как житель Помпеи, от которого осталась одна человекообразная пустота, запечатленная в лаве, лежала она на черном матрасе, прижимая подушку к животу, все еще полуголая после всплеска страсти, но полоса спермы наполовину высохла на ее бедрах, а слезы наполовину высохли на ее лице. В окне дома напротив отражалось солнце и окрашивало нашу комнату в красный, потом, наверное, набежали облака, или в доме напротив открыли окно, потому что внезапно стемнело.
– Ты ведь спал с ней, правда? – спросила она, и я не сразу понял, о чем она. А потом соврал, что нет.
Наверно, тогда ей надо было заорать мне прямо в лицо, не смей врать мне. И я вынужден был бы рассказать, что в тот день, когда Клеопатра в костюме третьеразрядной танцовщицы ревю пробежала по центру города и Антоний стер с нее грязь и пот, пахнущий миндалем, разжалованная актриса Веер не поспешила в ванную. Задержалась всего на несколько секунд, в которые вполне могла бы уместиться современная чехословацкая трагикомедия, но и этого вполне хватило, чтобы после мы несколько недель не могли смотреть друг другу в глаза. На следующий день Клеопатра не вышла к завтраку и не листала на кухне первую в ее жизни роль второго плана, она унесла к себе в комнату кувшин с мятным чаем и зубрила роль за закрытой дверью. Что ни говори, в самые бесчеловечные дни мы вели себя по-человечески, мама. А тогда от наших прикосновений зачерствел хлеб и лужа воды натекла из крана. Потом, наконец, от Юдит пришло письмо, и нам кое-как удалось возобновить общение.
– Если подумать, “Метрополитен” не такое уж плохое место. Но как же ужасно, что ты до сих пор не можешь бегло читать, сынок. Неудивительно, что ты до сих пор не получил аттестата
– Меня срезали на алгебре, мама.
– Ага, но ты же мог подать на апелляцию.
– Я потом подам, мама, – но подавать я не стал. Тому, кто живет в двухместном склепе, юридически зарегистрированном как частная квартира, аттестат зрелости не нужен. Да, мама, было совершенно излишне вдобавок ко всему еще и хоронить дочь. На самом деле, ты уже тогда решила повесить на дверь цепочки. Но прежде ты убрала руку Антония со своего живота и переложила вниз, на нежную вагину печальной Клеопатры.
– Не спрашивай ни о чем. Я тебя очень прошу, не спрашивай ни о чем, – сказала Эстер. Когда Юдит еще жила с нами, я привык не приставать к ней с расспросами. Мы часами гуляли по какой-нибудь пештской набережной до какого-нибудь вида на Буду, и я не спрашивал ни о чем. Ночью я смотрел из окна на машины с западными номерами, а утром не спрашивал ни о чем. Я приносил ей с почты письма без обратного адреса и без марки, и не спрашивал ни о чем. Лишь однажды, перед конкурсом в Белграде, я спросил у нее, почему она плачет. Ночью она репетировала в театре, потому что в том зале акустика была лучше, чем в репетиционных залах музыкального училища. Отгремели бурные аплодисменты, смолкли браво и бис, рабочие сцены вынесли декорации Рима и ушли домой, а мы вдвоем остались. Она на сцене, в полусвете мощностью в шестьдесят ватт. Я в зрительном зале, возле ковчега или скрипичного футляра, на задней стенке которого почти десять лет красовались мои скрижали и Моисей с двумя левыми ногами, сжимающий кнут. На незакрашенном месте, где я так и не написал заповедь не убий, бумага продырявилась, потому что Юдит иногда писала на ней “НО” и потом стирала ластиком, через какое-то время истрепанный тетрадный листок не выдержал подобного обращения.
В тринадцать лет ей впервые пришлось стирать ластиком свои воспоминания. Мама отвела ее на плановый осмотр, и после того, как Юдит удалили миндалины, она неделю не ходила в школу. Потом она стерла из памяти две упаковки эуноктина, которыми ее стошнило от страха. Через три года она стерла из памяти голубого балетного танцора. Стерла товарища актера Рети с семьей, ученого-онколога, учителя гимназии и летчика-истребителя вместе с самолетом, взорвавшимся во время учений. Затем снова товарища Рети, но на этот раз не с семьей, а с нашей мамой, с тех пор ей приходилось стирать маму, ровно четыре раза. Уже тогда Юдит и мама перешли на ты, только я не хотел этого замечать, и, когда актриса Веер сказала дочери, что хотела бы видеть ее в трио, бумага сама порвалась. Теперь Юдит стирала свои воспоминания с фанеры, так она стерла портрет, который художница Агнеш Райман начинала писать с Юдит, а заканчивала уже портретом Ребекки. Мама вообще-то терпеть не могла, когда к нам приходили женщины, но тут решила потерпеть. Думаю, больше всего на свете мама любила мелодраматические сцены, и, когда Юдит сделали промывание желудка, мама приехала в больницу к дочери со стихами Сафо – милая мама, безотрадна жизнь моя, – а я, дурак, верил, что эти три дня Юдит провела на музыкальном фестивале в Шопроне, как будто нельзя было догадаться. И только когда я нашел письмо Юдит, написанное на нотном листе, только тогда наконец понял, что означали ее слова, сказанные на кладбище: “никогда больше не смей сравнивать меня с нашей матерью”.
До поездки в Белград я думал, что лучше ни о чем не спрашивать. Пусть она не врет хотя бы мне. А потом я сидел в третьем ряду и смотрел, как она стоит на сцене в слабом свете лампочки в шестьдесят ватт, и слушал Паганини си минор, выученный для конкурса. Во время исполнения второй части у нее из глаз ручьями текли слезы.
– Ты наверняка выиграешь, – сказал я.
– Знаю, – сказала она.
– И все-таки боишься, – сказал я.
– Очень, – сказала она.
– Ты ведь вернешься, правда? – спросил я.
– Молчи, – сказала она и стояла на сцене так одиноко, словно Бог забыл сотворить для нее мир.
– Так сложилось. Я очень тебя прошу, не спрашивай ни о чем, – сказала Эстер, когда я спросил у нее, почему она так боится врачей, а у меня в это время в кармане лежало направление на гистологический анализ, которое официантка чуть было не выбросила, и я решил отложить расследование. И уже почти год у меня был ключ от квартиры, но я знал только, что она работает на полставки в столичной библиотеке Эрвина Сабо, в ее филиале в шестом районе, и что ничего интересного в ее жизни не происходило, пока я не сказал ей на мосту Свободы: пойдем.
Сначала мне казалось, если нужно, я хоть тысячу лет могу оставаться в неведении, но незаметно в мое сердце прокрался страх, и воображение потихоньку запуталось в его цепкой паутине. Человек, который всю свою сознательную жизнь проработал в районной библиотеке, не занимается любовью так отчаянно. Сперва я подумал, что у нее был отец-педофил, затем – что она работала в кафе “Анна”, где деклассированные, но вполне фешенебельные фрау по вечерам попивали коньяк вместе с классово-чуждыми, но платежеспособными посетителями. Насилие в детстве или проституция – это первое, что может вообразить мозг, отравленный цианистыми подозрениями. Как будто у женщины нет других причин молчать о своем прошлом. Как-то утром я зашел в квартиру, задернул шторы и стал искать. Я знал, что сейчас она на работе и вряд ли вернется скоро. Мой ящик полон картами, нарисованными на клочках бумаги, и никчемными медальончиками, думал я, и по очереди просматривал все чеки. В моем ящике ворохом пылятся мамины письма, адресованные в нигдененаходящиеся гостиницы, думал я. И я не вскрываю их, думал я. Письмо Юдит попало мне в руки по чистой случайности, думал я. У меня правда болела голова, я искал лекарство, думал я. Чертов кварелин, думал я. Но я никогда не подглядывал, думал я. И никогда не буду ни к кому приставать с расспросами, думал я, но мои поиски увенчались полным провалом. Я обнаружил несколько кинопрограмм и уже знакомое заключение врача, складывалось ощущение, будто в мире не существует семейных фотоальбомов, только кабинка для фото на паспорта. Было странно, что никто не фотографировал ее в купальнике, что нет недодержанных темных экспозиций, которые непременно лежат в ящике у каждой женщины. Я перетряс все книги и альбомы, но нигде не нашел даже засушенного цветка. Я по очереди проверил полки в шкафу: трусы и полотенца, чулки и ночные рубашки. Я просмотрел бирки на платьях, изучил, где они были сшиты, обыскал карманы трех сумок и одного зимнего пальто, и чем дальше, тем яростнее я вынимал коробки из встроенного шкафа у нее в прихожей. В одной крем для обуви и щетка, в другой лекарства, в ящике инструменты: молоток, кусачки, лампочка накаливания, но нигде ни одного предмета, какой бы намекал на то, что же случилось когда-то с человеком, которому сейчас почти тридцать лет. Как прошла его жизнь до того, как кто-то на мосту сказал ему: “Пойдем”.
Где-то хлопнула дверь, я кинулся в комнату и растянулся на матрасе, притворившись, что сплю. Скажу, что мама, да, мама кричала всю ночь, думал я. Пришел сюда рано утром, думал я, дома особенно не поспишь, думал я, потом до меня дошло, что это, скорее всего, сосед, Эстер сегодня до двух, значит, у меня еще целый час. И я стал обыскивать ванную, хотя знал ее лучше, чем ванную у себя дома. Я просмотрел все, начиная от стаканчика для полоскания зубов и кончая коробками с тампонами, одного я так и не понял: что же, в сущности, я ищу и, если я что-то найду, что от этого изменится. Смогу ли я позабыть пальцы, которые цепляются за мои лопатки, угрюмый стук пишущей машинки на рассвете, позабыть о страхе, с которым я сжимал ручку двери операционной и уже был готов ворваться, закричать им, прекратите немедленно, поскольку знал, что ей тоже страшно. Не важно: доброкачественная или злокачественная, только не прикасайтесь к ее матке своими резиновыми перчатками и не выбрасывайте ничего в мусорную корзину. Что бы я ни нашел, я буду помнить эхо, задыхающееся среди скал Ирхаш, суровый взгляд смотрительницы Музея изящных искусств и обуглившуюся яичницу, думал я. Внезапно я вспомнил, что одну сумку просмотрел недостаточно внимательно, я вернулся в прихожую и достал черный ридикюль, я извлекал оттуда смятые бумажные носовые платки и использованные автобусные билеты, как вдруг что-то обожгло мне затылок, и я почувствовал, что сгораю со стыда.
– Я пришла только за этим, – сказала она и взяла со стола рукопись моей книги. – Когда закончишь, закрой дверь.
Я запер дверь и кинул ключ в почтовый ящик. Я думал, у меня не хватит смелости показаться ей на глаза, но больше трех дней я не выдержал. До вечера я слонялся перед библиотекой, вместо цветов я принес в кармане пару перчаток из овечьей кожи. Как ни странно, они не были театральным реквизитом, а вместе со скрипкой, тремя серебряными ложечками, одним позднеромантическим пейзажем и несколькими выцветшими фотографиями достались нам в наследство от древней дотрианонской Венгрии Вееров. Я не знал, кто была эта Э. В., чью монограмму выгравировали на оленьей коже и на бирках, чтобы уж не было никакого урона господскому добру, если вдруг под господским деревом пастух заснет и клейменное животное потеряется. Словом, я не знал, кто была эта Э. В., только знал, что отдам всю дотрианонскую Венгрию за прощение женщины по имени Эстер Веер. Наконец она появилась в дверях, а я, позабыв про эти несчастные перчатки, молча развернулся, чтобы уйти, во мне уже не было ни стыда, ни сочувствия, только холодное равнодушие, для которого ничего не значили ни обуглившаяся яичница, ни рука, сжимающая ручку двери операционной. Я успел дойти до Кольцевого проспекта, когда она сзади схватила меня за руку и развернула, словно какую-то тряпичную куклу.
– Ты забыл это, – сказала она, вложила мне в руку ключ и бросилась прочь. Я стоял один посреди улицы и смотрел, как она перебегает на красный, чтобы успеть на трамвай.
Впервые после отъезда Юдит я ревел, рыдал на углу проспекта Ленина и проспекта Народной Республики, с элзеттовским ключом в руке, по сравнению с которым ключ “Петер” – жалкая подделка, дурацкий амбарный ключ. Да, я чувствовал, что если есть на земле ад, то он находится в Венгерской Народной Республике с эпицентром на проспекте Ленина, а глиняное месиво в недрах земли, под желтой веткой метро – это сущий рай, блаженное царство милости Господней.
– Ты ничего не найдешь в моих ящиках. Ничего, понял?
– Понял. Но я, в отличие от тебя, все…
– Это твои проблемы. И ты тоже не все рассказываешь. А я ненавижу ложь, поэтому не вынуждай меня лгать. Меня не изнасиловал отец, я не была шлюхой и у меня нет любовников. Думаю, это тебя интересовало.
– Я только хотел узнать…
– Я именно та, кого ты знаешь – с тех пор как ты меня знаешь, – сказала она, натянула овечьи перчатки Э. В. и начала расстегивать на мне рубашку.
На основании каких-то архивных документов она попыталась составить семейное древо Вееров, чтобы к Рождеству я сделал маме приятный сюрприз, хотя нельзя наверняка угадать, чему может обрадоваться безумная. В прошлой жизни одна Юдит знала, что наверняка понравится нашей матери.
– Подари ей свои картины, – сказала она. После Моисея я вошел во вкус и время от времени рисовал картины размером с лист почтовой бумаги, я орудовал всем, что попадалось мне под руку, даже маминой помадой или лаком для ногтей. Иногда я клал на бумагу столько краски, что рисунки казались рельефными. Признаться, я делал это не специально, просто я не умел толком рисовать, и мне приходилось много раз все замазывать, пока не получалось то, что задумал, а потом я фиксировал рисунок лаком для волос. Мне нравились мои картины, хотя подписи были важнее. “Животное, спасающееся бегством с герба”, “Молодой резчик впечатлений”, “Если есть Бог, зачем тогда я?” и тому подобное.
– Она сама купит себе духи. Подари маме свои картины, – сказала она.
– Я испорчу нам Рождество, – сказал я.
– Ошибаешься. Уверена, ей очень понравится.
– То, что тебе они нравятся, еще ничего не означает.
– Чего ты боишься?
– Я не боюсь. Только она рассердится.
– Я лучше знаю. Ну ради меня, – сказала она и взяла альбом, и мы вдвоем выбирали картины, и остановились на подписи “Уроды и их родители”, поскольку Юдит считала, что эта подпись подходит нашей матери больше, чем остальные.
На площади Кальвина под рекламой “Фабулона” стояли елки, утопая в слякоти, казалось, будто лес приехал в город на экскурсию, а продавец ругался отборными словами – что за дела, все покупают в последний момент, а ему еще возвращаться домой в Бичку. Одна старушка сказала, так дешевле. Вчера вы спокойно могли продать метровую за сотню. И тогда, молодой человек, вам бы не пришлось ругаться на чем свет стоит. Вы только представьте, в сорок четвертом мы встречали Рождество в подвале, но даже в те трудные голодные годы у людей не хватало наглости просить цену четырех мешков картошки за одну еловую ветку, наоборот, Фрици Берек-младший сказал, что он потом все подсчитает, если живы останемся, и пожелал нам счастливого Рождества. А продавец сказал, он был таким же идиотом, как и вы, а сейчас извольте шаркать домой – рулет подгорает, и затем приставил к измерительной рейке дерево, которое я выбрал.
– Двести шестьдесят, – сказал он.
– Два с половиной метра, – сказал я.
– Десять за шпагат, – сказал он.
– Тогда не надо шпагата, – сказал я.
Когда я притащил елку домой, из меня отовсюду торчали веточки. Пока Юдит вытаскивала хвою у меня из волос, я попросил ее срочно придумать какой-то другой вариант подарка. Когда мама увидит мои рисунки, у нее случится припадок ярости. Я не хочу, чтобы она уходила из дома в рождественский вечер только потому, что у меня больное воображение. Но Юдит сказала, ты не знаешь нашу маму, а за твое больное воображение я тебе подарю Страдивари. Затем я отыскал топорик и обтесал ствол дерева, чтобы оно вошло в подставку. Когда мы зажгли свечи и мама взяла сверток с подарком, меня чуть не стошнило, словно я съел червивого мяса. Я думал, сейчас не выдержу и опрокину рождественскую елку, а пока они одергивают шторы, я убью эту дрянь, потому что она просто дрянь, или плюну ей прямо в лицо.
– Это что-то потрясающее, Я и не знала, что ты такой способный, сынок. Ну а подписи, они же гениальны. Я договорюсь, чтобы тебя взяли в художественное училище, – сказала она, а я, вместо того чтобы вздохнуть с облегчением, внезапно почувствовал, что сейчас задушу ее вот этими руками. Я по очереди запихну ей в глотку все двадцать четыре рисунка и в придачу карандаши для глаз, цветные мелки и тени для век. Плесну ей в лицо тушью “Ворон” и затолкаю ей в вагину поглубже флакон с лаком для волос. Нож для рыбы дрожал у меня в руке.
– Я рад, что тебе нравится, мама – сказал я и внезапно поперхнулся рыбной косточкой. Меня затошнило, я побежал в ванную, Юдит пошла за мной, била меня по спине и, когда мне удалось выплюнуть косточку, с гордостью посмотрела мне в глаза.
– Ну что, я была права? – сказала она.
Мы отстрадали концерт китайского скрипичного виртуоза. У него взмокли виски, и руками он размахивал, точно дрался в стиле каратэ. Помнится, афиши и дикторы в новостях культуры как один заявляли, что он, словно тайфун, проносится между тридцатым и сороковым градусами широты, и на его выступлениях рыдают люди всех рас – от Пекина до Парижа. В самом деле, все зрители в Центральном зале консерватории покрылись мурашками сверху донизу. Подобное я наблюдал только после концерта органной музыки: женщины, у которых была менопауза, заходились в рыданиях, их сумрачным душам было мало десяти тысяч органных труб. Так и этому китайцу было мало четырех струн, и он схитрил, порвал одну струну, поскольку три у скрипачей – это больше, чем четыре, это уже сделка с дьяволом. Старушки захлопали, ему нужно было сменить смычок, но он стоял и смотрел, какой это вызвало эффект у публики, он ждал аплодисментов, и мне ужасно хотелось встать и выйти, но я, как правило, не встаю ни на концертах, ни на спектаклях. Точнее, только на концертах, поскольку в театре я уже не был тысячу лет, однажды какая-то из моих бывших сказала: ах, это такой драйв, а я сказал: весьма фальшивый драйв, и больше мы с ней не трахались. В общем, мы с Эстер отстрадали концерт этого китайца и очередь в гардероб и, шлепая по декабрьской вечерней слякоти, вышли на проспект Народной Республики, чтобы найти забегаловку с человеческим лицом. И мы уже понимали, что на самом деле мы идем по проспекту Андрашши, но удостовериться в этом еще не осмеливались. В те годы еще никто не выламывал паркет в казармах, никто не наполнял сегедской паприкой тарелочные мины и не раздавал боевые патроны ученикам начальных школ, а значит, с нами могло случиться все что угодно.
– Юдит уже в десять лет понимала в музыке больше его, – сказал я.
– Знаю, – сказала Эстер.
– Откуда ты знаешь? Ты никогда ее не слышала.
– Она твоя сестра.
– Ты пристрастна.
– Разумеется.
– Все так серьезно? – спросил я.
– Даже слишком.
– Завтра повторим?
– Возможно. Но только если я получу подарок.
– Нет, не получишь. И кстати, луну с небес уже заворачивают. Небо в облаках, чтобы ты не заметила.
– Я не хочу луну с небес.
– Почему?
– Она растает.
– Доверься мне.
– Не надо. Она займет всю комнату, и нам придется переехать в прихожую. Мне нужно, чтобы в прихожей уместилось еще кое-что.
– И не мечтай. В прихожую не уместится ничего.
– Кроме…
– Одним словом.
– Младенец.
Я закурил и долго искал спички, чтобы не пришлось смотреть ей в глаза.
– Вообще-то о подарках не говорят заранее, – сказал я.
– Я хочу от тебя ребенка.
– Ты знаешь, что пока нельзя.
– Все давным-давно в полном порядке.
– Врач говорит, надо подождать.
– Он сказал это почти два года назад.
– Да, но два года это не так много.
– Почему ты не скажешь, что боишься иметь ребенка.
– Потому что это неправда. Я беспокоюсь о тебе. Не хочу, чтобы ты попала в больницу.
– Спрячь спички.
– Ты ничего не боишься, только больниц?
– Не только. К примеру, сейчас я боюсь тебя.
– Не передергивай. Я только сказал, что беспокоюсь. Из-за простого профилактического осмотра ты несколько дней ходишь бледная, как стена.