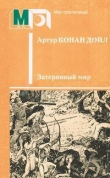Текст книги "Затерянная земля (Сборник)"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Соавторы: Чарльз Робертс,Кристофер Брисбен,Иоганнес Иенсен,Карл Глоух
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Мы заглянули в пропасть. Гак-ю-маки были здесь, покрытые снегом, свернувшиеся вокруг погасших костров. Казалось, их стало больше.
Я ходил вдоль ограды, не спуская глаз с равнины. Внизу зажигались новые огни. А когда я молча, почти рассеянно оглядел подъем, я заметил там какое-то движение. Что-то свернувшееся за камнем в нижней части каменного подъема, осторожно двинулось. Я тихо позвал товарищей.
Фигура была еще неразличима, скрываясь настолько, насколько возможно. Теперь она поднималась по ступеням.
– Подождите! – упорно вглядываясь, сказал Снеедорф. – На гак-ю-мака не похоже. Смотрите, троглодиты тоже увидели этого человека. Они несутся к ступеням с натянутыми луками. Стреляют! Они его преследуют. Кто это?
Человек тоже заметил, что его преследуют. Он старался уйти, и, напрягая силы, карабкался к нам. Вот он в тени; вот появился в свете месяца.
И тут удивленный голос Снеедорфа подтвердил то, что боялся выговорить каждый из нас.
– Смотрите! Да ведь это Сив!..
Это был он, Сив, которого мы уже давно считали мертвым и о котором уже давно не говорили.
Он пробирался вверх, через острия скал, на виду у дикарей. Видя, что они не в состоянии схватить его, гак-ю-маки начали пускать в него стрелы, метать дротики. Сив не издавал ни звука. Вдруг показалось его лицо на краю каменной площадки. Какое это было страшное от ужаса и боли лицо!
Каким чудом мог прожить этот человек один среди хищных зверей, среди безжалостной природы Каманака?..
Как удалось ему избежать гак-ю-маков? Несчастный, исхудалый сверток из грубых звериных шкур, полный грязи, пропахший дымом чадящего костра.
Хрипя, он перелез через камни и упал на площадку. Тут только мы с ужасом увидели, что восемь стрел засели в его теле. Он не имел времени вытаскивать их.
И одна стрела прошла у него горлом. Он не мог говорить. И этот несчастный человек полз, как зверь, выкатывая окровавленные белки своих испуганных глаз.
Он полз к Снеедорфу. Подполз, хрипя, и обнял ноги своего спасителя. Верный, как собака, до последней минуты, он склонил свою поседевшую голову к его ногам.
И вот, когда он метался от боли, разорвался мешок, который он нес за спиной; содержимое мешка рассыпалось и засверкало при свете луны. Это было золото.
Но хлещущая из раны кровь залила горло Сива Кьельтринга, и розовая пена выступила у него на губах. Его тело несколько раз дернулось и затихло. Мы подняли мертвого Сива и отнесли его в заднюю часть пещеры.

Но откуда же это золото?.. Несчастный со страстью собирал его во время своего одиночества.
Нашел он его, очевидно, в русле реки Надежды, и это обстоятельство объяснило мне странность его поведения, когда мы увидели у ледника Снеедорфа остатки автомобиля. Он заметил там золотой самородок и старался скрыть свою находку. Потом он жил изгнанником, в сознании своей вины, ужасной жизнью дикаря, издали следя за нашей судьбой.
Через четверть часа Фелисьен заявил, что осаждающих внизу прибыло. Огни запылали в большем количестве, чем прежде. Лихорадочное беспокойство овладело нами. Молча мы окружили машину, стоявшую неподвижно, как бы в насмешку над нашим беспокойством.
Вдруг, около десяти часов утра, застучал один из моторов. Быстрей и быстрей билось сердце машины. Алексей Платонович нажал рычаг и тотчас же снова отпустил его. Передняя турбина на один момент начала свое вращение. Циклоплан сделал движение, как пробудившийся от сна зверь.
– Все в порядке! – закричал Алексей Платонович. Он преобразился – сиял и улыбался. Мы пожали ему руку. Тотчас после этого общими силами мы вытащили циклоплан из пещеры на площадку.
Он в последний раз обошел машину; испытал, осмотрел, нет ли чего лишнего, увеличивающего вес машины. Убедился, правильно ли работает руль. Потом открыл дверцы своей будки.
– Садиться! – скомандовал он писклявым голосом.
– Да и время. Гак-ю-маки идут в общую атаку, – произнес Снеедорф.
С колебанием подошел я к машине. Скрытые сомнения и опасения волновали меня. Все это было уж слишком необыкновенно. Купе были низки, как раз только для сидения. Но француз со Снеедорфом уже исчезли в одной будке, и мне осталось лишь последовать их примеру.
– Ну, дорогой друг, – послышался мягкий голос Надежды. Я напоследок бросил беглый взгляд на отдаленный, покрытый снегом край, на машину, стоящую в ожидании на краю пропасти. Дверцы захлопнулись. С замиранием сердца я уселся, но волнение моментально прошло. Оно уступило место сильному возбуждению и беспокойству: чем все это кончится.
Я опустил окошко. В это же время я услышал слабый шум у остатков нашей ограды, и звериная голова гак-ю-мака осторожно показалась из-за камней.
Заработали моторы. Турбины завыли с все возрастающей силой.
Гак-ю-мак моментально исчез, пораженный ужасом.
Циклоплан вздрогнул, сдвинулся с места и плавно заскользил к краю террасы.
Мы все издали легкий крик. Машина перевалила через край и падала в пустоту.
Взглянув вниз, я увидел гак-ю-маков, которые оставались на равнине, окаменевшими от страха. Чудовище падало прямо им на головы.
Но вовремя повернулся руль, и машина поднялась по параболе от земли к небесам… Далеко-далеко под нами остались троглодиты, и мы уже не слышали их криков.
Внизу остались занесенные снегом леса. Очертания исчезли. Громадную котловину покрыла тонкая серебристо-опаловая мгла. Машина пролетела через редкие облачка. Луна висела в глубине пространства, мертвая, неподвижная, яркая. Слышались лишь удары мотора.
Машина летела на высоте восьми тысяч футов. Заколдованная земля исчезла, и мы с быстротой ласточки приближались к пограничным горам. С такой быстротой мы должны очень быстро достигнуть берега. Но куда направляется Алексей Платонович?
Упернавик в это время года лежит словно под заклятьем. Может быть, Алексей Платонович выбрал Годгааб или Юлиенгааб?
Мы не могли сказать, так как, хотя это и кажется странным, не обменялись относительно этого в последний час перед отлетом ни единым словом. Я знаю только, что у Алексея Платоновича был разговор со Снеедорфом…
До сих пор все шло наилучшим образом. А все же нам не удалось так легко выбраться. Грозный враг, о котором мы не имели и понятия, гнался за нами.
Заколдованная земля выслала его догнать улетевших смельчаков, которые могли открыть ее вековечные тайны. Ураган шел из центральных частей края.
Я видел через заднее окно, как его черная пасть поглотила луну, как распустил он по небу исполинские щупальца, чтобы схватить улетающую машину.
Алексей Платонович заметил приближающуюся опасность, и машина понеслась быстрее. Но, тем не менее, мрак приближался. Небо над нами было еще ясно и полно звезд. Но через несколько минут ураган захватил почти треть небосвода, и страшная черная тень легла на лед. А потом ураган догнал и нас.
Равнина, до сих пор мертвая, пришла в движение. Снежная пыль поднималась, как дым, и безудержно двигалась вперед. Высоко крутившиеся снежные вихри алчно вздымались в воздухе.
Напрасно Алексей Платонович пытался подняться над областью бури. Ветер каждый раз сбивал его вниз. Затем нас окутало облако дико крутящегося снега. Небо исчезло, и наступила беспросветная тьма.

Циклоплан, подхваченный страшным воздушным течением, несся вперед с быстротой, во много раз превосходившей быстроту турбин. Руль совсем отказался от службы. Мы отдались во власть бешеным стихиям.
К этому присоединилась новая опасность. Снег налипал на крылья аэроплана и отягощал их. Аппарат мало-помалу оказался в опасной близости к леднику. Окна также были залеплены снегом.
Поверхность льдов понижалась по направлению к морю, и циклоплан летел низко над равниной, в снеговом дыму, послушный воле ветра. О том, чтобы снизиться, нечего было и думать. Но вихрь мог нас занести далеко в неприступные ледяные поля Девисова пролива.
Вдруг раздался удар. Я был сбит со скамьи и отброшен к противоположному окну, которое, к счастью, выдержало. Надежда глухо вскрикнула. Машина ударилась колесами о ледник, отскочила и продолжала лететь.
Я уже было успокоил девушку, но тут раздался удар гораздо более сильный. Окна треснули, и поток ледяного воздуха и снежной пыли ворвался к нам и наполнил купе. Скрип и резкие удары послышались под нижней переборкой купе. Машина поднималась и качалась, как раненая птица. Она тащилась по льду.
Казалось, профессор делал попытки остановиться.
Мы ждали, полузасыпанные снегом, еще несколько секунд. Потом раздался треск; показался какой-то зеленоватый огонек и погас. Крыша над нами разлетелась, и мы были выброшены в мрачную пустоту. Мы упали в сугроб.
С отчаянием оглядывались мы вокруг, ища помощи.
Но вдруг рев ветра умолк. На небесах показались звезды. Буря утихла.
В это время какая-то серебряная, блестящая полоса показалась на горизонте над неподвижным слоем скопившихся черных туч.
Небо над нами заполнилось ликованием. Край побелел, засеребрился. Равнина выступила с поразительной ясностью; а вместе с нею и силуэты темных скал, которые окаймляли побережье к югу и востоку.
Появилась луна.
XLIIТак окончилось наше безрассудное фантастическое путешествие.
Циклоплан разбился на куски о скалы незнакомого берега. Мотор взорвался, крыша сломалась, турбинный вал был скручен и смят. Передняя будка ударилась о каменный выступ, и гениальный изобретатель погиб. Его дело погибло вместе с ним.
В тот же день мы похоронили Алексея Платоновича. Надежда совсем осиротела. Мы с Фелисьеном выстроили на берегу ледяную хижину. Что можно было пустить в дело из остатков машины, было нами использовано.
Итак, тут мы застряли. Перед нами было замерзшее море, из разбитых льдин на нем образовались торосы.
Слабый, едва заметный просвет на юге, говорил, что там сейчас день. Солнце там, к югу, ходит над более радостным краем и светит более счастливым. Здесь были одиночество и смерть. Но мы решили бороться упорно, до последнего вздоха.
Мы избежали одной смерти, чтобы принять другую, более ужасную. Единственной нашей надеждой были эскимосы. Я знал, что их колония у мыса Йорк довольно обширна, и что они предпринимают довольно продолжительные путешествия вдоль берегов.
Несколько недель сидели мы в своей хижине, и никто не приходил.
Мы совсем одичали. Убив тюленя, освещались его жиром и питались отвратительной пищей, так как наши запасы с циклоплана были съедены.
Единственное живое существо, виденное нами, был белый медведь, который бежал через залив и исчез на северо-востоке.
Снеедорф убил двух полярных зайцев, что поддержало нашу жизнь еще на несколько дней.
Однажды я стоял с Надеждой на льду, у предгорья, в то время, когда пламенные полосы развевались на небе, как вдруг среди простиравшейся перед нами пустыни послышался собачий лай.
Почти в ту же минуту мы заметили у основания предгорья движущиеся черные точки. Двое саней в собачьих упряжках приближались к нам, переезжая через залив.
Мы различили одетых в меха людей. Мы побежали навстречу, бессвязно крича и жестикулируя. Они остановились. Это были два европейца и один эскимос, который вел упряжку.
Мы поздоровались. Они ответили нам на чистом английском языке. Их судно «Президент Тафт» охотилось за тюленями в двух милях к северу, в заливе Ингельфиельд. Оно зимовало, затертое льдами.
Они гостеприимно взяли нас на борт и отвели нам две каютки. Там провели мы остаток полярной зимы.
Капитан Айзек Мортон, типичный янки, с льняными волосами, косоглазый, с кожей кирпичного цвета, оказался любезным хозяином.
Матросы были грубые, но славные парни. Они боготворили Надежду и держались по отношению к нам предупредительно.
С капитаном у нас был долгий разговор.
Мы рассказали ему столько, сколько сочли нужным. Но и этого было достаточно. Капитан слушал, сопя как морж: трое мужчин и девушка в ледяной хижине на пустом берегу!.. И никаких обломков судна!..
Однако он даже и глазом не моргнул. Погладил мочку правого уха, помигал глазами и просипел:
«Да… случаются удивительные вещи здесь, наверху, среди льдов… Дивные вещи…»
У нас же остались лишь воспоминания, подобные тяжелому сну. Мы избегали говорить о них, а когда весной льды выпустили нас, мы возвратились в милый Старый свет.

Иоганнес Иенсен
Ледник


В первобытном лесу горел костер, единственный на мили вокруг. Он был разведен на площадке, под выступом скалы, который защищал огонь от ветра. В лесу гудело, ночь была темная, без луны и звезд. Лил дождь. Но огонь под скалою спокойно горел, и яркое пламя высоко подымалось от груды хвороста; освещенное пространство образовывало как бы пещеру в глубоком ночном мраке.
Вокруг костра расположились люди; они спали, придвинувшись к огню настолько, чтобы находиться в световом круге. Они были голы. Здесь были только мужчины. Каждый спал с дубиной в руках или около себя, чтобы проснувшись, сразу схватить ее. Прутяные корзины с различными припасами, плодами и кореньями лежали на траве около костра, световой круг которого ярко освещал эту группу среди дикого леса. В нескольких шагах от скалы, на открытом месте, где шел дождь и куда подползал мрак, виднелись остатки убитого животного, похожего на зебру – это была жертва огню.
Только один из людей не спал. Он сидел у костра, почти не шевелясь, но глаза его ни минуты не оставались в покое; это был крупный и крепко сложенный юноша, необычайно высокого роста, хотя еще не вполне возмужавший. Возле него лежала огромная груда ветвей и хвороста, откуда он время от времени брал охапку и подбрасывал в костер. Когда огонь ослабевал настолько, что лежавшие с краю оказывались вне стен световой пещеры, сон их сразу становился тревожным. Но случалось это не часто; юноша отличался особой сноровкой поддерживать ровный огонь; он знал, сколько запасено у него топлива и хватит ли на ночь. Присмотр за огнем не требовал от него напряжения мысли, и он большею частью неподвижно сидел, обратив все чувства туда – к дикому лесному мраку.
В левой руке он держал большой клинообразный кремень, пока лишь грубо обтесанный. Когда огонь горел ровно, и ничто не отвлекало внимания юноши, он направлял на то или другое место кремня острый обломок оленьего рога и, тщательно примерившись, с силой откалывал им от кремня осколок, который отскакивал в огонь. Затем он внимательно исследовал действие удара и взвешивал кремень на руке. Кремню этому предстояло стать топором, подобного которому еще никто не видывал; вот почему юноша так внимательно осматривал его со всех сторон, прежде чем снова направить на него олений рог и определить, где еще следовало отколоть лишний кусок, скрывавший ту форму, которую юноша представлял себе. В то время, как он вызывал из камня оружие, грубые черты его озарялись внутренним светом, проблесками предвиденья; лицо его сверкало умом, когда он примерялся нанести удар; в самый же удар он вкладывал такую силу, точно ему предстояло пробить этим оленьим рогом череп врага, и выгибал спину, как будто собирался сдвинуть с места гору, хотя всего-то навсего нужно было отбить крохотный осколок. Оружие должно было выйти несравненное. На коленях юноши лежал топор, которым он рубил топливо для костра; но то был просто жалкий, бесформенный обломок кремня безо всякого лезвия. Зато это было священное родовое наследие, которое определило судьбу юноши.
Его звали – Младыш. С самого рождения он был предназначен в хранители огня, принадлежал к высокочтимому и грозному роду, все члены которого пользовались преимуществом поддерживать огонь и принимать приносимые огню жертвы.
Преимущество это было столь древнее, что никто не помнил его происхождения. Ходили лишь смутные предания о том, что один из мужей племени, охваченный безумной жаждой смерти, ринулся на горящую гору, где обитал могучий, всепожирающий дух огня; и вернулся оттуда невредимый, с горящей веткой в руках. Родичи, разумеется, связали безумца и бросили на гноище, коршунам, но огонь все-таки сохранили и были им очень довольны. Злосчастный похититель, впрочем, после смерти был возвеличен, коршунов объявили неприкосновенными и стали поклоняться им, так как предполагалось, что в них переселилась душа пожранного ими человека. А огонь и приносимые ему жертвы стали наследственным достоянием рода похитителя, одним из потомков которого и являлся Младыш. Он пользовался подобающим его происхождению почетом, но, кроме того, его побаивались и по другим причинам.
Младыш был воин. Вообще-то род Огневиков отнюдь не отличался мужеством; возложенный на членов этого рода труд был легок, и, благодаря жертвенной дичи, жилось им чересчур сытно. Большей частью эти представители племени были слабосильными сиднями и возмещали недостаток силы колдовством и тому подобными фокусами трусов. У большинства других племен, о которых знало это племя, но с которыми не водилось, хранение огня было поручено женщинам, как занятие, мало приличествующее мужчине. Но, разумеется, настоящей причиной таких порядков являлось невежество тех племен и низкий уровень их развития. Беда была только в том, что угрюмый Младыш, по-видимому, вполне разделял взгляды тех далеких дикарей и часто с презрением отзывался о своем призвании да еще наделял оплеухами тех, кто бранил его за это. Младыш уродился не похожим на своих ближайших предков и рано стал выделяться склонностью к одиночеству. За огнем он смотрел лучше, чем кто-либо до него, но исполнял свое дело без приятной угодливости, не ползал перед сжигающим духом огня на брюхе, а лишь добросовестно кормил его топливом; деревья же для костра рубил с ожесточением, словно головы врагов. Все это было не по сердцу почтенным мужам племени. Руки у Младыша были сильные, и он изготавливал лучшее в племени оружие, но это не приличествовало его званию.
С самого детства он обнаруживал наклонности, не подобающие будущему жрецу: любил ходить на охоту, да и то не гурьбой с другими юношами, а в одиночку. Совсем еще мальчишкой убивал он зверей обломком ясеневого сука, обожженным в огне, и притаскивал домой их детенышей: то жеребенка трехпалой лошади, то пещерного медвежонка, а то толстенького, розоватого, еще безрогого детеныша носорога. В ту пору на такие его проделки смотрели сквозь пальцы. Но пришло время, когда ему торжественно вручили священный топор и посвятили в хранители огня на многие мирные лета, лишенные бранных тревог и почестей.
Пришел конец беззаботному детству. Правда, Младыш еще пытался удирать в лес, когда пост у костра занимал кто-нибудь другой из членов семьи, но родичи очень неодобрительно смотрели на такие его суетные наклонности и умели так насолить ему за каждую отлучку, что он предпочел больше не отходить от костра. Жажда деятельности, однако, сидела у него в крови и искала выхода в напряженной внутренней жизни, в мечтах о великих делах. Тоска по настоящему делу и чувство зависимости от костра сделали его неприветливым, но не сделали дурным или злым, – слишком много было в нем природной живости и восприимчивости.
Несмотря на вынужденную сидячую жизнь, он вырос могучим, как тур, молчаливым и невзыскательным. И как бы ни был он молод, между ним и племенем успели установиться довольно натянутые отношения. Раз старшие стесняли его отвагу, надо же ему было чем-нибудь отводить душу; вот он и позволял себе позабавиться над ними: разводил такой костер, что пламя припекало подошвы спящих и грозило пожрать все становище, или же мог напустить такого дыму, что кашель просто раздирал людям глотки. Племени волей-неволей приходилось мириться с его грубыми шутками, но его недолюбливали. Люди жили идиллической жизнью и не желали напоминаний о том, как далека она от жизни реальной. И судьба Младыша могла бы стать вполне обычной для его рода, даром, что он уродился задорным и непокорным; он мог бы с течением времени озлобиться и стать для своих соплеменников как раз тем бичом, которого они заслуживали, или сердце его могло бы с годами ожиреть от обильной жертвенной дичи.
Но идиллии уже грозила опасность. Давным-давно первобытные люди стали чувствовать, что природа вокруг них изменяется. Они уже не могли больше жить оседло, а кочевали. Лес не давал им ни прежнего простора, ни прежней верной защиты, – он сам начал хиреть. В воздухе появилось что-то новое, становившееся год от году все опаснее и теперь уже грозившее бедой всему живому. Непрерывно шел дождь, становилось все холоднее и холоднее. Холод – что такое холод? Или кто такой? Откуда он взялся?
Обо всем этом и раздумывал Младыш, сидя один у костра, пока другие спали. Думы эти неотступно преследовали юношу. Он понимал, что существованию его соплеменников грозит опасность. На его памяти они еще жили по ту сторону хребта на севере, и он помнил год, когда холод заставил их перевалить через горы на южную сторону. С тех пор они каждый год переходили с места на место и теперь жили во многих днях пути южнее того места, где сейчас сидел у костра Младыш, с тревогой размышляя об этом постоянном отступлении.
Племя с женами и детьми расположилось за много миль отсюда, в долине, где все еще росли пальмы и хлебные деревья, и группа у костра была только отрядом, высланным на покинутые места прежних становищ за плодами и дичью, какие еще могли найтись в старых рощах.
У этой скалы племя жило около года до тех пор, пока холод не погнал их дальше на юг. Младыш еще различал следы шалашей, разметанных дождем и непогодой. Тут, у скалы, играли, бывало, на солнце покрытые пушком маленькие дети племени, подбрасывая в воздух перышки и дуя на них, чтобы они летали, как птички, среди цветущих кустов. Теперь здесь было пустынно; голые камни торчали из земли, которую обесплодили непрерывные дожди.
Но племя спокойно мирилось с отступлением, – если вообще обращало внимание на это обстоятельство. Им было все равно: переселяться – так переселяться; южнее – так южнее, раз нельзя оставаться дольше в северном лесу. Пусть себе топливо и пища оскудевали там, где племя раскинуло свои становища; ничего не стоило сняться и двинуться на лучшие места; мало ли простора на юге? Только один из всего племени не мирился с этим, – Младыш. Он следовал за своими соплеменниками, отступал вместе с ними из долины в долину, но против своей воли. Было в этом какое-то насилие, и оно ожесточало его душу. Долго ли еще будет продолжаться это отступление? Не вечно ли? Неужели нельзя повернуться лицом к холоду и показать зубы этой безмолвной силе, которая заставляла все окружающее блекнуть и коченеть, этому холоду, который никогда не показывался, но если забирал что-то, то уже никогда не отдавал назад? Какой прок предаваться этой беспечной жизни, если из года в год приходится искать себе новые пристанища – еще на несколько миль дальше к югу, за горами? Не лучше ли сразу приладить боевой топор да выйти на открытый бой?

Вот приблизительно что чувствовал и думал Младыш, каждую ночь бодрствуя у костра в течение этого тоскливого холодного похода по местам прежних становищ племени. Душа Младыша настраивалась на воинственный лад, его тянуло к делу, к смертному бою, но сам он не сознавал этого. Он был первобытный человек, с могучими инстинктами, которые подавляли разум. Он только ни перед кем и ни перед чем не сворачивал с дороги, и это неодолимое упрямство, не позволявшее ему покориться насилию, и послужило причиной отлучения Младыша от его племени.
Это происходило в Скандинавии в конце третичного периода, когда климат там был еще тропическим, без смены времен года. Но ледниковый период уже надвигался; передовыми отрядами его были беспрерывные дожди и холодные ночи, выгонявшие людей из мирных блаженных убежищ первобытных лесов. Люди не хотели и не могли приучиться к холоду и дождю и вынуждены были уходить. Они мерзли, невинные созданья, пытались прикрывать себя от непогоды плащами из фиговых листьев, пели красивые жалобные песни, но северный ветер безжалостной холодной стеной вставал между ними и их шалашами, ютившимися под смоковницами. Люди лишались приюта и должны были переселяться.
Они вздыхали, покидая родные сады, которые переставали быть гостеприимными, но там, подальше к югу, под теплым солнцем, быстро утешались и пели от радости, видя, как воткнутые на новых местах дорожные посохи пускают побеги; тут было хорошо, тут они и оставались. На следующий год холод вновь догонял их, и опять им приходилось отступать. Они были, однако, слишком забывчивы, чтобы замечать свое постепенное отступление; они жили только настоящим; но упадок сказывался на всем укладе их жизни, налагал на них свою печать без их ведома, – они нищали и мельчали.
Младыш не мог сдаться. Его сердце питалось упорством; он рос, накапливая в себе силу сопротивления. И когда первобытные люди очутились на распутье между холодом и лесом, Младыш сделал немыслимый доселе выбор.
И стал первым человеком.