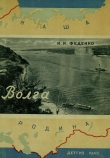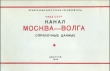Текст книги "Гуляй Волга"
Автор книги: Артем Веселый
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Скуластый сохарь трудился на поле, вспарывая чрево земли еловым суком.
По заросшему берегу озера, колебля метелки камыша, крался охотник, – легок летал глаз его, легка ступала нога, легка и умна взвивалась стрела.
В тайге, вокруг костров, на разостланных шкурах дремали звероловы.
Над вечерней синеющей степью лился древний плач пастушьего рога. Брели стада в тучах пыли, багровеющей в закатных лучах. Над кошменными юртами вился дым. В юртах родились и умирали, смеялись и плакали...
Богато жил Кучум.
В травных долинах, меж озер, нагуливались тьмучисленные отары баранты его, косяки коней, табуны возовых и верховых верблюдов. Бедняки кочевали вослед царских юрт и пасли стада его.
Разлив степей
зеленое приволье
да гоны звериные.
Сверкали, пронятые светом, синие потоки. Синий ветер качал-покачивал траву, гнал-плескал ковыльную волну. По разлужью, полному жарких цветов, скользила тень облака. Напрягая тетиву легкого лука, скакал Кучум по своим землям, – предсмертный стон зверя веселил его старческое сердце.
В женах хан плутал, как в фруктовом саду.
Старые жены с детьми жили все вместе на большом дворе, молодые жены жили каждая в отдельном дворе, и юная Сузге жила против городка, за рекою, в своем урочище.
Дань подвластных народов отовсюду стекалась в царев котел.
Беднач давал царю кобылу с жеребенком, богач вез ему нечто от богатств своих, рыбак вел за лодкой на привязи саженного осетра, охотник метал на широк царев двор шкуры бобров карих и рыжих, лисиц черных и красных, соболей голубых и куниц прокрасных. Калмыки пригоняли в ясак трепетных степных коней. Таежные жители тащили мед и воск, медвежьи и сребристые, в черных кольцах, барсовые шкуры, что на базарах Самарканда и Тавриза, Багдада и Цареграда ценились особенно высоко. Из Кузнецкой волости мастера привозили медь зеленую и красную в котлах и тазах, удила конские, олово в блюдах и тарелах, а также слитками и в прутье. Пастушеские народы в уплату дани рвали с каждого барана по клоку шерсти, свозили [86/87] князькам кошмы и кожи и одеяла, сшитые из разноцветных лоскутьев лошадиных и коровьих шкур.
В уездах сидели подручные мурзы. У мурз в подчинении были князьки, у князьков – старшины и сотники.
Кучум-царь, а заодно с ним и все его послуги и угодники с женами, детьми и собаками, вознося хвалу аллаху, кормились меж рук народа своего.
Весною – по просухе – к низовьям Иртыша скорили караваны купцов алтайских, ногайских и бухарских.
Ветер вздымал косматые верблюжьи гривы.
Заунывная песнь и крики погонщиков, – лица их были запылены, как придорожные камни, – и резкие хлопки ременного кнута с навитым из волоса концом.
– Ааа-аа-чг!..
По степи, дремлющей в зеленом полусне, далеко разносился трубный рев верблюдов, мерно плывущих под тюками товаров.
Базар заполнял город и через рукава тесных улочек выливался на степь.
Чего, чего тут только не было!
Материи всякие и кафтаны стеганые, сафьян и вытканные затейливыми рисунками холсты, кошмы с ввалянным узором, подожженные южным солнцем бухарские шелка и афганские ковры столь яростных расцветок, что от взгляда на них слеп глаз. Писаная посуда, пшено сарацинское, лекарственные снадобья в порошках и листьях, самоцветные камни и граненые рубины, янтарь, масла и сласти и китайский табак столь мелкой резки, что мельчиною своей он мог поспорить с рубленым человеческим волосом. Табуны прядающих аргамаков и диких карабаиров, толпы полоняников с колодками на шеях, да привозили купцы из глубин Азии юных дев в обмен на меха.
Наведывались на сибирские торжища промысленники и с русской стороны. Располагались они своим табором поближе к реке; мылись и отдыхали с дороги, потом на скорую руку мастерили лавчонки, распарывали кожаные мешки, раскрывали лубяные короба и по застланным рядном прилавкам раскидывали немудрые товары: топоры и огниво, сковороды и котлы, бубенцы и перстни, оловянные пуговицы и берестяные солонки, прядь неводную и веревку смоленую, чарки литые и выплавленные из голубого уральского серебра зеркальца сгущенного и светлого блеска; чулки шерстяные и пояса гарусные, крашеные пряники и железца ножевые, сукна сермяжные и полотнишко реденькое и пригодное разве лишь на то, чтобы им дерьмо цедить.
Охотники и кочевники славились простодушием и жили в первобытном непорочии.
За иголку с ниткой купец выменивал кобылку с жеребенком, за латаные штаны и рубаху выбирал лучших бобров и песцов, железный наконечник для стрелы шел в одну цену с соболем. [87/88]
Шумел торг
ржали кони
ржал ветер
плясал Иртыш, седой брадою потрясая.
22
Зима. Полыхали морозы. Навалило снегов выше избяных труб. Лежали снега пушисты и легки, как сияние. Морозная пыль остро сверкала в лунном луче.
Не красна ты, сидячая служба.
По праздникам, от великой скуки, сходились казаки со слобожанами в кулачном бою. Дрались казаки и друг с другом: то была у них любимая забава.
Старики докучали Ярмаку:
– В пьянствах люди бьются и режутся до смерти, крестов на шеях не носят, посты не блюдут, гуляют с слободскими девками и, вернувшись, не помыв рук, за хлеб хватаются да заодно с холопами своих атаманов и есаулов лают... Ты, Ярмак Тимофеевич, своим молчанием всему тому потакаешь... Васька Струна на Волгу сбежал, бурлак Репка на Волгу сбежал...
– Горячий камень им вослед!
– Дай дело людям, атаман, не то все разбредутся розно.
– По времени будет и дело.
– Осатанели от скуки, друг на друга с ножами кидаются. Поставил бы ты которых старателей доброхотов к соляному и рудничному промыслу.
– Черт их заставит работать, обленились, псы... Да и то сказать: потная работа нам не в обычай, и в работники к купцам мы не давались.
...В дальние урманы хаживал Ярмак с собаками. Тут примятый подтаявший снег – лежбище лося; там след зверя путался с подследком зверенка; белка скакала с ветки на ветку – с зеленых ресниц сосны опадали снежные хлопья; из-под куста прыскал зайчишка выторопень; хвостуха лисынька ловила тетерва в лет...
– Орел, бери!
Собаки тяв
лиска верть
и
хлынули!
– Бери-и-и-и!.. Га-га-га-га-га!.. Посчитайте в ней блох!
Катилась золотая лисынька, ныряла в распушистых снегах.
За нею, разбирая путаный след, в крутящемся облаке [88/89] снежной пыли, мелькали собаки. Передом на весь мах стлался собачий атаман Орелко. Стая, взлаивая с пристоном, уходила из глаз.
На раскатах под ногой охотника посвистывала лыжа, разлеталась на ветру черная борода.
В непролазные заломы уходила лиска, замывала лисынька след хвостом.
...По праздникам, после обедни, Строганов зазывал к себе на пирог атамана и есаулов. О чем бы ни велась беседа, а купец нет-нет да и закинет словцо про Сибирь:
– Богатеющий край!
– Сам там бывал?
– Бывать не бывал, а премного наслышан.
– Чужому языку как верить?
Никита навивал на кулак русую бороду, хитринка, словно ясный зайчик, играла в его сером глазу.
– Не с ветра вести ловлю.
– Говори.
– Вернулись на неделе прикащики – с товаришками моими в Мангазею гоняли, и каждый привез себе по десятку соболей, по два десятка недособолей, по полусотне выимок да пластин собольих, по два сорока пупков (ремни из шкурок с брюшка), белых и голубых песцов привезли, бобров привезли, заячины по вороху да по меховому одеялу, да по шубе, да немало всякого лоскута... Дивный край!
Разгорались у гулебщиков зубы.
– Лихо!
– Да-а, кусок!
– Что ж, добыли – не у царя отняли.
– А тут?.. Живем из кулака в рот.
Думали.
– Дорога-де трудна, – осторожно оговаривался Строганов. – Дичь, глушь, заломило дороги лесами.
– Мы в походы бегаем налегке: где зверь пройдет, там и казак пройдет.
– Заломило дороги лесами, а реки порожисты, много по рекам злых мест.
– И то нам не страшно, Никита Григорьевич, – на воде и с воды живем.
Ярмак думал и, усмехнувшись, невесело выговаривал:
– Пожили, попили – пора, якар мар, и бороды утирать.
– По мне, еще хоть сто годов живите, – раскидывал купец руки как бы для объятья. – Будем кормом кормить, доколе бог изволит, и род наш стоит.
– Время зовет.
Потягивая винцо, думали и мало-помалу утверждались в мыслях отправиться в сибирский поход. [89/90]
Строганов:
– Коль примыслите в Сибирь идти – со господом. Поход тот будет богу угоден, государю приятен и нам прибылен. Ведем торговлю с Бухарой и Хивой, а товаришки обвозим морем, Волгою, Камой – голый убыток. Царь давно пожаловал нам землишки зауральские, да руки не достают прибрать. Места там вовсе дикие, топор и коса туда не хаживали, зверя всякого изобильно, а люди живущие не храбры, и урядства воинского у них намале.
Простодушный Никита Пан брякнул:
– Нет ли у вас где такой высокой горы, чтоб мне с нее сразу всю Сибирь глазом поднять?
– Горы такой нет, – дивясь дурости бородатого вопрошалы, любезно отвечал купец. – Горы нет, а пути в Сибирскую землю никому не заказаны.
Думали.
– Гайда, браты атаманы, наудалую! Раз туда слетаем и – завей горе веревочкой!
– Ты, Пан, горячку не пори.
Но Никита Пан хмельно орал:
– Не дойдем горами – доплывем речками, а будем мы татарву огнем жечь, острыми саблями сечь, да пушками пушить! С головнею до края света пройдем, возьмем Сибирь без свинца и пороху...
Строганов ласково:
– Чего ж без нужды нужду терпеть? Свинцу-пороху вам отпустим. Дам хоругвь святую да икону Миколы-можая, – он, батюшка, пособит вам в промысле над некрещеными.
А Ярмак говорит, усом шевелит:
– Ты, Никита Григорьевич, коли на то пойдет, людей нам давай. Икон у нас и своих много. Снаряду готовь, сухарей и всего такого... Будет в Сибири добыча – за все отплатим с присыпом.
– И людей дам предобрых, стрельцов гораздых и просужих, которые разговаривать на всякие языки знают.
– У нас языки не палки, и своими обойдемся.
Думали.
В хоромах было жарко натоплено. Чадили сальные свечи своего литья. Вьюга острым коготком царапалась в обмерзшие оконца. В тяжелых кубках пенилось цветное вино, вино горячило головы. Слушая гул голосов, купец смекал: «Сибирь – царю, а все, что в Сибири, – наше».
Казачья старшина валила к гулебщикам.
– Так и так, товариство...
– Сибирь...
– Золотое дно...
Казаки говорили разно:
– Что Сибирь! Нам и тут не дует. [90/91]
– Сидеть вот надоело – это верно.
– Жить весело, да бить некого! Хо-хо...
– Плывем!
– Время зовет. Плывем!
– Куда там!.. В пень головой.
– Погонимся за крохой – без ломтя останемся.
– А тут чего высидим?
– Удалому горох хлебать, а лежню и пустых щей не видать.
– Богачество...
– Что казаку до богачества? И богатый и бедный лягут в могилу. Нам бы веселой жизни.
– Погулять охота.
– Правда твоя, Микишка.
– Плыть!..
– Плыть!
– Верстай, атаман, людей по сотням!
– Зима на дворе.
Ярмак:
– Любо мне слышать храбрые речи. Мыслю: поплывем, когда время приспеет, а пока пошлем в Сибирь своих доглядчиков, чтоб не было нам промаху.
– Слать.
– Кого?
– Думайте.
Намеченных людей разбирали по всем статьям и наконец, сложившись разумом, выбрали четверых: Фоку Волкореза – казак рассудительный и бывалый; Зарубу – удал и вынослив: сотник Черкиз между дела вспомнил, как однажды на охоте Заруба целую ночь проспал на снегу и в кулак ни разу не дунул; избрали зудливого на язык Куземку Злычого, чтоб веселее было в дороге; за толмача шел полубраток, новокрещеный татарин Мулгай.
Ярмак зазвал подсыльщиков в атаманскую избу и обо всем
подробнорастолковал:
– Перелезете Каменный Пояс, и будет вам татарская орда. Разузнайте, много ль рек и какие под Уральским Камнем верховьем вяжутся? Приметьте воды копаные и родниковые. Где через реки перевозы и перелазы есть, коими нам до татар добраться бы? Какие на реках завороты и много ль урочищ? Сколько верст каждой реке протоку? Под какое царство какая река подтекла и к которому народу которая земля подошла? Велика ль держава Кучума, и много ли у него войска, и где раскинуты главные кочевья? Высмотрите, какие племена и народы вокруг Кучумовых владений бытуют: сильны и храбры ль, каким оружием владеют, отчего имеют пропитание и каким богам молятся?.. Выведайте и обо всем прочем, что к продолжению нашего пути способствовать будет.
Посылы переглянулись. [91/92]
– Послужим.
– Ты, Фока, пойдешь за хозяина – борода хороша, а вы, все другие, – его работники.
– Добро, атаман! Все разведаем допряма.
– Ну, а попадетесь – будьте удалыми и в беде, лишнего не болтайте и славу казачью не роните.
– Бог нам защита да смекалка казацкая.
Разузнайщики нарядились торговцами и с караваном мелочного товара отправились в невиданную и неслыханную Сибирь.
В то же время зауральский князек Ярлаш, набрав татар, вотяков и вогул, внезапно набежал на пермские места, к Чердыне и к острожкам приступал; чего успел – сжег, крещеных, кои под руку подвернулись, перебил, а иных в полон угнал. Казаки тот набег проморгали и за дальностью да бездорожьем не поспели к бою, чтоб помочь. Строгановы к тому казаков и не понуждали, – пускай-де воевода чердынский своей силой отбивается: сводили купцы с воеводою старые счеты.
23
Мартьян зашел к Ярмаку проститься.
– Ухожу, Ермолаюшко.
– Куда поднялся?
– В орду.
– Што так?
– Чую тягость старости своей и в силах умаленье. Хочу напоследок послужить богу и тем вымолить себе грехов прощение.
Прослышав о том, в атаманскую избу налезли казаки. Мартьян обратился к ним:
– Ухожу, братцы, прощайте! Устал я злодействовать, душа заколела от холода.
Карп Большой да Карп Меньшой сказали:
– Живем не по-христиански, а по своей воле. У нас в землянках помолено, а за некрещеными, кои ходят к нам, как хвост тянется всякая нечисть. Напустим анчуток, они нас ночью и душат.
Мартьян с грустью посмотрел на них.
– Купцы и холопы, цари и князья – все от корня Адамова. Русский и черкашенин, ордынец и лях – люди рода и племени Адамова. Мы же, отступя от заповедей и поддавшись бесовским прелестям, пустились в злодейства многие.
– Звери и те поедают друг друга, а чего бы им делить? Не одной ли они веры? – спросил Гуртовый.
– Зверь – тварь бессловесная, человек же создан по образу и подобию божию... Пойду. Буду учить ордынцев добро [92/93] понимать. – Он пал казакам в ноги. – Простите, братья, суди вас бог!
Ярмак поднял его и сказал:
– Твоя воля, батюшка Мартьян Данилыч, держать не смею. Иди, сей слово Христово да молись за нас, грешных.
И побрел Мартьян по лесам и болотам, услаждая одиночество пением псалмов.
Зыряне и остяки поклонялись огню, воде и болванам; язык их был темен и убог, но Мартьян скоро осмыслил его.
Шел путем-дорогою, шел лесами, горами, помогал жителям рубить дрова, тянуть невод, учил печь хлебы, проповедовал слово божье, ставил кресты и часовни да вырезывал из дерева иконы столь искусно, что дикарям они нравились больше, чем свои идолы.
Народы, подстрекаемые кудесниками, накидывались на проповедника с криками и угрозами, но он ласковым словом чудесно гасил их гнев да тем смирением своим побеждал мечтательную вражью силу и покорял самые упорные сердца.
Жители одного селения по уходе Мартьяна скоро забыли русского бога и снова сделали себе болвана. Когда Мартьян возвращался обратно рекою, они, смеясь, бежали по берегу и ему в досаду разрывали и поедали белок. С реки Мартьян благословлял их, говоря без ропота: «Не ведаете, чада, что творите», – да той кротостью многих опять обратил на путь истинной веры. В другом селении заспорил с Мартьяном кудесник Пама.
– Как верить тебе, с русской стороны пришедшему?– спросил Пама. – Вы искони угнетаете наши народы тяжкой данью и насильями. От вас ли ждать нам истины и добра? Служим своим богам, изведанным долговременными благодеяниями. Променяем ли их на одного неведомого бога?
– Христианский бог сильнее всех ваших богов.
– Как тому верить?
– Испытаем силу богов огнем и водою.
В кипящий котел был насыпан песок. Мартьян, по преданью старины глубокой, выхватил из котла горсть песку и сказал:
– Меня бог укрепил твердостью. Теперь пусть и тебе твои боги помогут достать из котла хотя бы одну щепоть песку.
Посрамленный Пама ушел кормиться за Камень, к березовским остякам.
Работал Мартьян и на Вишере-реке, на каменном заделье, где сбродники тесали камни на мельничные жернова. Его приняли за колдуна, стали над ним смеяться, дергать за волосы, плевать в чашку с тюрей. Мартьян, по сказанию церковного мракописца, скатил жернов в реку, сел на него и поплыл. С берега, уверовав в его святость, кричали: «Воротись!» – а он ответил: «Оставайтесь с богом». Каменщики стали поклоняться ручью, из которого старик пил воду.
Край разорялся и с русской и с сибирской стороны. Всюду [93/94] шныряли строгановские и иных купцов прикащики, торговцы с Вологды и Устюга. Где лаской, а где хитростью выманивали у жителей пушнину, самоцветные камни, мороженую рыбу и птицу. Воинственные вогулы опустошали улусы соседей. И в ту злую годину они большой силой нагрянули в зырянскую землю. Навстречу, в долбленой лодчонке, выплыл Мартьян, одетый в ризу. Диким вогулам лицо его показалось грозным, а сам он представился облаченным в пламя и мечущим огненные стрелы, – бежали вогулы и с той поры боялись русского старика, как могущественного волхва.
В голодный год ездил Мартьян в Устюг и пригнал оттуда хлебный обоз, да вскоре вступил в спор с лихоимщиком, воеводой пермским Василием Перепелицыным: за правду свою был бит на воеводском дворе палками и, похворав мало, получил блаженную кончину.
По следам Мартьяна пришли стрельцы, налетели шайки соловецких, макарьевских и иных монахов. Городили острожки, ставили монастыри, забирая лучшие пашни и луга, рыбные ловы и звериные гоны.
Казаки ждали – затоскует Мартьян и вернется, а потом, прослыша о его смерти, выбрали себе нового попа – Семена Чернышева. Ленивый на работу Семен был рад тому несказанно. Хотя круг церковный он править и не мог, да и молитвы целиком ни одной не знал, зато и тех немногих божественных слов, кои удержала его память, действие было столь велико, что дружина была в надежде. Ерошка Дунь говаривал про своего попа: «Он у нас в божественном не силен, зато такой заговор знает – враз любую болезнь сшибет».
Был еще в ватаге колдун Митя Косой. Поп с колдуном жили дружно: где не брала сила божья – призывали на подмогу чертей.
На Строгановых – грозная царева грамота.
Купцы всполошились.
– Ты называл, ты и выкуривай, – сказал Семен Аникиевич своему племяннику.
Никита Григорьевич кинулся к Ярмаку.
– Беда, атаман!
– Опять ты с бедой? Выкладывай.
Никита пересказал грамоту:
– ...Послали-де вы из своих острожков казаков воевать вотяков, и вогулич, и татар, и пелымские и сибирские места, всяко их задирали да тем задором с сибирским салтаном ссорили нас. А волских атаманов к себе призвав, воров-де наняли в свои остроги без нашего указа. А не вышлете-де из своих острогов волских казаков, будет положена на вас опала великая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать...
Ярмак – к дружине. [94/95]
– Ватарба!
Гулебщики на дыбы.
– Не быть нам, казакам, под рукой воеводской!
– Не видать воеводам нашего покору, как ушей своих!
– Бежим, братцы!
– На Волгу, в отход!
– В Сибирь! В Сибирь!..
Ватага разверстана по сотням, полусотням и десяткам. Выбраны походные атаманы. Каждой сотне приданы знамена да иконы. Поддали Строгановы своих людей несколько, Мамыка был поставлен над ними атаманом.
Посылал Никита Григорьевич с казаками и своего старшего прикащика.
– Заведи, Петрой Петрович, книгу плавную. Дороги и битвы описывай. Руду и каменья, какие попадутся, – образцы прибирай. Зверя, птицу, рыбу и последнюю букашку описывай. Меха, кои казачишки добудут, скупай и ко мне присылай. За людями нашими присматривай.
– Слушаюсь, батюшка...
Сделали суда подо всю рать. Загрузили суда порохом, свинцом, мукой да крупами, сухарями да солью, копченым мясом да рыбой сушеной.
Отвальный пир
день и ночь утиху нет.
После всего перед церковью пили прощальный ковш вина и с песнями двинулись к стругам.
Старый солевар Макарка, провожая слезящимся взглядом подбритые казачьи затылки, с завистью сказал:
– Гулевой народ, пришли с песней и ушли с песней... Эх, кабы мне да годков поменьше!
Казаки, крестясь, отплыли.
Народ, чтоб погладить гулебщикам дорожку, доканчивал на площади недопитое винцо...
Вдали замирал многой песни гул...
24
Плыли.
25
Суров Урал в кряжах лесов.
С тяжким стоном и ревом метались речки, сдавленные горами. Водопад висел над кипящей пучиною. В горах паслись племена мирных озер, в камень закованных. По утрам на тихой воде озера солнце прядало будто саженное серебряное веретено на [95/96] синем блюде. До облак взлетала широкогрудая, обросшая мхом скала. С утесов шумные свергались потоки...
Тайга темна
берега пусты
места немы.
Чусовая металась в камнях, как щука в сетке. По реке рубцом вилась струя толщиною в руку. Клубилась и шумела мутная вода на каменных переборах.
Плыли, претерпевая многие трудности и боря их, – не в обычае было от затей своих отступаться.
Жили дружной артелью: не мимо говорит пословица – «Нужда и кошку с собакой дружит».
Без конца дивовались и смеялись над строгановскими людьми. Сядут лапотники сообща щи варить – хлёбово заодно, а свой кусок мяса каждый спускал в котел на своем лычке да, мало уварив, сам и съедал. Зипуны на них были столь толсты, что когда намокали от дождя, то под тяжестью их мужики не могли идти; портки и рубахи были столь крепкой дерюжины, что – повисни на сучке – и будешь висеть, пока высохнешь.
С Чусовой, по сказкам вожей, свернули в Серебрянку.
Подымались по Серебрянке с превеликим трудом, – речка та крута и резва, как огонь, стремит меж высоких гор. Тяжелые суда покинули, пошли на легких, но скоро и легким ходу не стало.
Тогда с берега на берег парусами принялись запруживать узкое русло, оттого вода в речке поднималась: так-то продвигались, пока было можно.
В верховьях Серебрянки срубили Кокуй-городок, порыли землянки и зазимовали.
Ударила зима, взыграла погодушка.
Мороз гулко рвал нагие скалы. В тихом сне стояли леса. Под вой вьюги крепко спалось медведю в берлоге.
Бездыханна лежала река.
Затомились гулебщики, в сырых норах сидючи, заедали их вши, гнула лихорадка.
– Эх-ха-ха!..
– Не стони, друг милый, а закручинишься – в первом бою тебя могилою придавит.
Скучали без баб да от безделья. Все помыслы – в бабу. И разговоры и сны полны бабами. Манила весна, бредили близкой наживою. Самые беспокойные, не считая вёрсты, налегке бегали в остяцкие и вогульские становища – забирали мясо медвежье, мясо лосино, рыбу вяленую и мороженую, забирали всю рухлядь, все пожитки, и собак сводили, и оленей угоняли, и все, что можно было увезти, увозили – до штанов и шуб, а вогулич и остяков оставляли в юртах нагих и голодных. [96/97]
О тех жестокостях скоро и по всей стране рассеялся слух злой.
– Бог скотину и ту приказал миловать, – говорил совестливый старик Осокин, но словам его никто не внимал.
Аламанщики похвалялись:
– Ухватил я ее за бок и тихо говорю: «Ты меня не бойся, я не такой, как Ванька за рекой». Визжит, што кобыленка, и зубами меня за руку – хап! А я, братцы, и крови своей не слышу, волоку ее, ровно собака кость, в угол и давай трепать-целовать...
– Скусно?
– Обхлебался.
– Невелика поди утеха, – ни губ, ни носа, целуешь будто лопату.
– По мне, хошь из корыта, да досыта.
– Хо-хо!
– Хе-хе!
– Одна старуха на зуб попалась... Развалили и все, чего там было, до зернышка подклевали.
– В поле и жук мясо... По сю пору поди-ка спасибо сказывает, ежели богу душу не отдала.
– Еще пойдете – и меня, сироту, возьмите, – тоненьким голоском попросил застолетний дед Елисей Кручина, и круглые ястребиные глаза его блеснули задором. – Не глядите, что лыс: старый конь борозды не испортит.
Хохот молодых прогремел ему в ответ.
– Прыткий!
– Да-а, на кашу да на баб он накатистый.
– Не смейтесь, сынки, старших и в орде почитают.
– Подыхать пора, чужой век заедаешь! – ради злой потехи кинул есаул Осташка Лаврентьев и, продышавшись от смеха, спросил: – Али, Кручинушка, бесово ребро взыграло?
– Грешен, молодцы, томит меня по ночам нечистый.
В метелях летели мутные дни, летели белокрылые ночи, налитые свистом ветра да растяжелой тоской...
Жили казаки, как волки, вполсыта, а толмачей и вожей вовсе не кормили, понуждая промышлять себе пропитание воровством да разбоем.
За зиму иные перемерли от болезней и голоду, иные пустились в разбег.
И снова грянула весна!
Сизые леса разбегались по скатам гор, терялись в низинах, полных белесого тумана. Речки с речками срасталися, ярынь-вода играючи ломила берега. Сокол острым крылом чертил небесный простор. В горах гремел звериный рев. Под обстрелом солнечных лучей горел, дымился луг весенний... [97/98]
Поднялся муравей
поднялись и гулебщики.
В горных кряжах тяжел, угрюм лежал Тагил... Разбежавшись с гор, в пене и брызгах зарывался Тагил в Туру-реку.
Тура пьяно плутала по зеленым лугам, стремилась на восход солнца, вливалась в многоводный – по весне – Тобол.
Плыли.
Глаз русский был поражен диким и мрачным буйством сибирской природы.
Передом, на слуху ватаги бежал яртаульный (караульный) челн. За ним спускались в двух сотнях струги и стружки, насады и лодки и похожие на корыта однодеревые долбленые лодчонки. В хвосте сплывал огороженный жердями плот со скотом и съестным припасом, – под солнцем жирно лоснились туши свежетесанных бревен, в деревянном гнезде певуче скрипело правильное весло, кипела вода у отпорных плюх.
Первую весть о грозе подали бабы Япанчина урочища.
Старуха Самурга, лицо которой было подобно кому засохшей грязи, на рассвете пошла на реку за водою и огласила пустынные берега суматошным криком:
– Алла, алла!
Жители аула высыпали на берег.
– Там люди, много чужих людей! – показала старуха на полдень.
По реке, крутясь в мутной струе, плыли свежие щепки, клочья гнилой соломы, птичьи перья и ветки зелени.
Сойдясь в круг, зашептали бабы.
Чуя недоброе, взлаивали собаки, взлаивали и умолкали, к чему-то прислушиваясь.
Ребятишки вылавливали из воды и с победными криками пожирали не виданные дотоле арбузные корки.
Степенные старики опирались на подоги, оглаживали крашеные бороды и негромко переговаривались:
– К нам плывут люди.
– Дальнеземельные.
– Беду за собой ведут.
– Купцы?
– Нет, то не купцы: купцам не время.
– Русь?
– Русь, больше и быть некому.
– Давно злой слух шел.
– Беда, старики!
– Русь...
– Война будет, горе будет. Субханалла!
И всю ночь чуткое ухо степняка ловило далекий перестук топоров, далекий лай псов и еле слышные в песенном разливе казачьи голоса. Да еще с самой высокой сосны, что росла на яру, было видно легкое зарево далеких костров. [98/99]
Урочище князца Япанчи высилось на яру и с приступной – степной – стороны было обнесено насыпным валом и бревенчатой стеной. Тесно лепились саманные, облитые глиной мазанки. Убогие землянки были похожи на барсучьи норы. Жили в них лишь по зимам, с весны же все от стара до мала откочевывали в степь.
От дыма к дыму
от табуна к табуну
в рыжем облаке пыли мыкался посланный Япанчою скорец с развевающимся на копье зеленым лоскутом.
– Алача!
С боков коня облетали, обиваемые плетью, клочья шерсти.
– Тамаша... Тамаша...
По дорогам, тропам и целиною на арбах и верхами скакали татары, направляя бег коней к урочищу.
Визги да крик:
– Арга булга... Алача-а-а-а!..
Подняли завалившуюся в одном месте крепостную стену, перерыли сбегавшую к реке дорогу и, наполнив саадаки переными стрелами, стали ждать врага.
Всю ночь по аулу дымились костры, под ножом резаки вячел баран, в котлах варилось мясо.
Но лишь на востоке забелела заря и на седую от росы степь пролились первые лучи солнца, из-за мыса, держась средины реки, выплыл обережный, яртаульный челн, а вскоре в блеске ясных доспехов показалась и вся дружина.
Скрипел кочеток под веслом, с весла вода стекала блистая...
На одних стругах люди еще спали, на других – уже бренчал бубен, заливались на разные голоса камышовые дудки, в ловких руках поляка Яна Зуболомича самодельная гармонь торопливо плела незатейливый наигрыш.
Со стругов – смех.
– Аман ба! (Здравствуй!)
С берега робко:
– Аман, Русь!
Казаки:
– Шайтан голова!
С берега смелее:
– Сама шайтан... Тьфу, донгус!
Есаул Осташка Лаврентьев появился на носу атамановой каторги с вестовой трубой и проиграл – та-та-та-та-а, та-та-та-а-а... – построиться в боевой порядок.
На стругах – движение.
Князь Япанча, чтобы устрашить казаков, выставил по бровке крутояра все войско свое – и лучников, и копейщиков, и конников, сам же с абызами (попами) вышел вперед, надел на большой палец правой руки широкое костяное кольцо, [99/100] употреблявшееся для натягивания тетивы, поставил перед собой большой лук, уперев один рог его в землю, и пустил первую стрелу.
Струги греблись к берегу, со стругов гайкали:
– Гей, волчья сыть!
– Пади!
– Абыз, свинье ухо обгрыз!
– Подбери полы кафтана, не то стащу!
– Подавай нам вашего князя на мясо!
Казаки – кто наводил на берег пушку, раздувая дымящийся фитиль, кто, опираясь на пищаль и раскуривая трубку, стоял по борту в ожидании команды.
Со шмелиным жужжанием густо летели, подобны косому дождю, остро точенные стрелы.
Абыз запел:
– Аллах вар... Аллах сахих...
Свирепый клич татар:
– Ал-ла-а!..
А встречь:
– Бей с нагалу!
Казаки подняли пищали
залп.
С обрыва свалилось несколько, – взметывая рыжую пыль, устремились по откосу и шлепнулись внизу, у самой воды.
Стон:
– Ал-ла!..
В упор:
– Огонь!
Залп.
Орда взвыла и шарахнулась прочь от дышащих огнем и смертью, не виданных дотоле пушканов.
На арбах и верхами ринулась орда в степь, гоня перед собой баранту, коней и верблюдов. Поспешала и старуха Самурга, волоча за собой упиравшегося старого козла с ободранным боком.
Свист и гайк победителей неслись орде вослед.
Поп Семен из ведерка покропил свяченой водой берег, ватажники полезли на яр.
Урочище было разграблено и сожжено.
Пожили тут сколько хотелось, погреблись дальше.
Татары караулили на многих местах, где берега были высоки, а река узка, но вреда причинить не умели.
Казаки, где не брали с бою, там брали хитростью: так, они наплели из таловых прутьев легких щитов, в которые и утыкались все стрелы, пускаемые с берега.
В одном злом месте, замысля похитить крещеных, тамцы (там живущие) открыли плотину, – заржала река, хлынула волна в сажень, но гулебщики вовремя поставили струги гусем и укрылись за плотом. С плоту волною смыло муку, смыло кое-какие съестные припасы и сухари подмочило. [100/101]
Жители Маитмасова городка в самом горле реки вбили в дно– вершка на три ниже уровня воды – поперечный ряд кольев, обращенных острием вверх. Обычно берестяные лодки зауральских народцев пропарывали на колья днища или опрокидывались, но казаки проплыли невредимы, расколотили мурзу Маитмаса и городок его земляной разгребли.