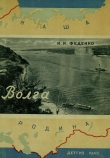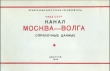Текст книги "Гуляй Волга"
Автор книги: Артем Веселый
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Дана грамота в Москве лета 1558 апреля 4 дня».
У подлинной грамоты – на шнуру вислая красная печать. Да на обороте той грамоты подписано так:
«
Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси.
Приказали окольничий
Федор Иванович Умной, да
Алексей Федорович Одашев, да казначей
Федор Иванович Сукин, да
Хозяин Юрьевич Тютин, да дьяк
Дружина Володимиров».
Спустя несколько лет грамотой, повелевающей крепиться всякими крепостями накрепко и в Сибирской стране, и за Югорским камнем на Тахчеях, и на Тоболе-реке, и на Иртыше, и на Оби, и иных реках, – царь и вовсе развязал Строгановым руки.
Так, по слову летописи,
высокими государевыми милостями и благодатью божьей, труды к трудам прилагая, происходили Строгановы из рода в род и из силы в силу на лучшее.
14
В верховьях Камы, на светлом яйвинском плесе стоял, во всех стенах крепок, будто налитой орех, Орел-городок, рвами и боевыми завалами обнесен.
В бревенчатых стенах трое ворот да наугольные глухие башни с боем пушечным, пищальным и лучным. На башнях караульные шалаши, в шалашах несводные караулы.
Над главными воротами двухъярусная башня с малыми оконцами да с колоколом вестовым, да с образом Николая-чудотворца в резном киоте.
На земляных накатах пушки и к ним каменные, облитые свинцом ядра. Пищали затинные, пищали семипяденные, пищали ручные и к ним свинец и ядра. На дощаных щитах – луки и к ним в кожаных торбах пучки мелко точеных стрел. [57/58]
Церковка немудрая из бревен слажена и узорной резьбы крышей крыта. В церкви образа на камне и дереве, образа на празелени в серебряных окладах, сосуды оловянные, сальные свечи своего литья, паникадило медное невелико – немецкое дело, евангельце печати литовской и закапанный воском святырь (псалтырь) монастырской работы: по пергаменту затейливо вилась, играя златописными титлами, кудрявая строка.
Против церкви стоял, как слитой, двор самого Строганова; рядом с ним – двор попа да двор палача; дальше как попало разбросались дворы прикащичьи, дворы соляных поваров да подварков, дворы пищальников да людские черные избы.
За городом лепилась слободка, в слободке – дворы посадские, дворы крестьянские, землянки бобылей, нищих и задворников, юрты и шалаши иного языка народов, которых в город не впускали, особенно к ночи.
Сидел в Орле Никита Строганов.
Не ладившие с ним дядя Семен и двоюродный брат Максим уплыли на Чусовую-реку и состроили там Чусовской городок.
В Великой же Перми в городке Чердыне воеводствовал царев наместник Василий Перепелицын.
Жили Строгановы, как царьки.
Широко были раскинуты пашни, промысла и рудники, разработки на рудниках производились тайно от царя.
На свой страх и риск затевали они с дикими народцами войны, строили города и крепости. По рекам и на усторожливых местах, на пути ногайских и сибирских людей ставили острожки и караульные вышки.
Торговое знакомство Строгановы вели от Бела моря до ногаев и от Волги до Югорских земель. Людей своих с мелочным товаром рассылали по рекам и землям. Целыми годами шастали доглядчики по дальним странам, примечали и выспрашивали, где, кто и как живет, и, вернувшись с соболями и лисами, выменянными на ножевые железца, обо всем купцам докладывали.
В Устюге, в Калуге, Москве и Вологде торговали строгановские соляные лавки и меховые магазины.
В устьях Северной Двины на своей верфи строили Строгановы свои корабли да на Мурманском побережье был заведен торг немецкий, на который каждое лето приплывали иноземные купцы. [58/59]
Никита, проведав от прикащика, гонявшего в Казань соляной обоз, о зимующих на Каме казаках, заложил тройку и не мешкая погнал в Чусовской городок.
Крутила-мела поземица
буй снеги вил.
Большой дом старших Строгановых был отделан еще только вчерне. Волоковые, завешенные меховыми наоконниками и обмерзшие, как медведи, оконца еле пропускали свет. Широкие некрашеные лавки ровно из стен росли, стены и потолок были закопчены чадом лучины. Во весь передний угол – иконы живописные, подризные и чеканные, выбитые на меди. В мерцающем свете лампады вспыхивали разноцветными искрами драгоценные камни, суровые лики угодников казались живыми.
Никита вошел в дом, обратился в передний угол и, еще не кончив креститься, начал рассказывать о казаках.
– Много ль тех сбродников? – спросил Максим.
– Того, брат, не скажу. Видать их мой человек видал, а считать побоялся.
– Што так?
– Буйственные, слышно, казачишки. К оружию сручны и в боях удалы, во всю Волгу храбруют.
– Вот как!
Порасспросив о городовом строении и о промыслах, Никита вдруг сказал:
– Напустить бы тех казачишек на наших азиятцев, живо припугнули бы поганцев.
– Ы-ы-ы-ы!.. – перекрестился дядя Семен. – Пронеси царица небесная! Они и сами хуже орды, и нас разорят да на дым пустят... Ты, Максимушка, как мыслишь?
– По мне, коли што, отдариться.
– А по мне, – сказал Никита, – послать казачишкам зазывное письмишко, пускай придут и обороняют нас.
– Они оборонят, – своих волос не досчитаешься.
– Даром не пойдут – наймем. Разве ж не повелел государь родителю нашему называть в сей край вольных людей?
– Ы-ы-ы, не любы мне речи твои, племянничек. Отцы и деды наши зазорным почитали якшаться с разбойниками и нам заказали.
– Они и разбойники, а своеземцы и крещены. А вогулы с зырянами – и разбойники и нехристи. Ты как мыслишь, братушка?
– По мне – отдариться!..
– Телятина! «Отдариться»!.. Не позовем, так сами придут, лопухом от них не загородишься.
– Вестимо.
– А коли так...
– Погоди, – перебил его брат. – А как взглянет на наше своевольство царь-батюшка? [59/60]
– Будем в надежде, что сие до Москвы не дойдет, как многое не доходило и ранее.
Максим собрал в кулак черную, в кольцах, бороду и сморщился.
– А ежели дойдет?
– Невелика беда, – сказал Никита. – Гоже ему сидеть в кремлевских хоромишках за нашими спинами. Мы со своей мошной туда, мы – сюда, мы – на все стороны, а он... – Никита махнул рукой и досказал: – Не одни мы и на умишке у него, пока еще дознается...
– Уймись, злоязычная безотцовщина! – рассердился дядя Семен и схватил со стола медный витой подсвечник. – Не изрыгай хулу на помазанника божия. Не его ли щедротами живет все купецкое сословие? Не его ль милостями и ты, смерд, жив?.. Ы-ы-ы, сила нечистая, сгинь с глаз моих, а не то – за ноги да об угол!
Максим встал меж ними.
– Не гневайся, батюшка, Семен Яковлевич, Никита брякнул не со зла, а по дурости. Оно и страшно, а не миновать нам казаков на подмогу звать.
Никита упятился к порогу, сорвал с деревянного гвоздя тулуп и, с шапкою в руках выбежав на двор, крикнул своему человеку:
– Запрягай!
Кони дружно взяли с места и понесли.
Весь обратный путь Никита разметывал умом и так и этак.
Призывать казаков было страшно, а житье без сильной охраны было тоже не уедно: редкий год проходил, чтоб какой-нибудь зауральский князек не учинял набега на освоенные Строгановыми места.
Торговать с инородцами было и выгодно, но дороги кишели лихими людьми.
Не входило в его расчеты ссориться накрепко и с братом Максимом, – дядя в счет не шел: съедаемый недугом, он быстро близился к могиле.
Надумал Никита поговорить о том деле со своим первым советчиком, Петрой Петровичем.
Старший прикащик Петрой Петрович Жарков был беглым монахом и служил еще отцу Никиты, Григорию Аникиевичу. Грамотей и пройдоха, вел он книги памятные и уговорные, сметные и ужимные, хлебные и соляные; языки и наречья туземных народцев разумел; знал, сколько в острожках деревень, починков, дворов крестьянских и бобыльских, сколько во дворах детей, братей, племянников, внучат, зятей, приемышей – всех по именам и по прозвищам, да сколько пашни распахано, да перелогу, да лесу, да рыбных ловель и звериных гонов, да с кого сколько и когда оброку брать. [60/61]
Вызванный с дальних промыслов, куда он ездил раздавать людям урочный корм, Петрой Петрович явился наскоре.
Хозяин сидел в горнице и попивал вишневую наливку. Вбежал Петрой Петрович и отвесил истовый поклон.
– Вызывал, Никита Григорьевич?
– Ты, братец, того, надень шапчонку-то, а то поди вшей там набрался и мне тут напустишь... Да потуже, потуже нахлобучь, чтоб не расползались... Ну, рассказывай.
– Слава богу все живы-здоровы, – скороговоркой начал было Петрой Петрович.
– Не тараторь, – остановил его Никита. – Говори ровнее, а то у меня после твоих речей три дня в голове копоть стоит.
Петрой Петрович осклабился, раздернул пуговицы домотканого, подбитого беличьими черевами кафтана, откинул полу и, вывернув карман, высыпал на стол горсть дикого серебра.
– Вот, при мне с десяти лопат намыли.
Хозяин ухватил буроватую крупинку, покатал ее в толстых пальцах, подышал на нее, прикинул на руке, надкусил зубом.
– Доброе серебришко. Отколь?
– Из-под Вздохни-горы.
– Еще чего там?
– Баловство, батюшка Никита Григорьевич. Десятник Демидка Савин посягает на девку Лушку Вятчанку.
– Не по рылу каравай.
– Я ему всяко говорил – и слушать не хочет. «Женюсь» да и только.
– Этак все захотят с женами спать, а кто же о добре моем радеть станет? Пошли Демидку под Вздохни-гору в мокрый рудник, там с него живо дурную кровь сгонит. А Лушку... Лушку вороти в золотошвейню, а то они, подлые, всю ее красу расклюют. Да скажи ей... или нет, пускай лучше ко мне сама придет.
– Слушаюсь, батюшка Никита Григорьевич.
Никита тянул душистую наливку, лукавый огонек играл в его сером глазу, а Петрой Петрович часто сыпал:
– За Вишерой опять зыряне пошаливают, лес твой жгут, на нашу сторону за лисами ходят, одного нашего человека прозвищем Колобок забили до смерти и втоптали в болотце. Никудышный был мужичишка, а все-таки божья душа. Долгу за ним полтина пропала, да ржи на масленицу мешок взял, да сапоги яловочные, да...
– Не до того мне ныне.
– Совсем разбаловались ордынцы, грозы над собой не чуют.
– Я тебя, Петрой Петрович, по нужде вызвал. – Никита рассказал о казаках и о своем свидании с братом и дядей. – Призвать думаю.
Прикащик отпрянул и перекрестился. [61/62]
– Што ты, батюшка, господь с тобой! В своем ли ты уме? Называть казаков – все равно что волков к стаду прикармливать. От них и от неприкормленных отбою нет. Я эти народы знаю, видал их да видал. Ощиплют нас, как гусей, и сожрут совсем с потрохами.
– Бог милостив.
– Как знаешь... Мое дело холопское.
Никита немедля еще раз съездил в Чусовской городок и вернулся оттоль веселый; позвал прикащика и решительно сказал:
– Пиши.
Петрой Петрович достал из-за божницы письменный снаряд, развел полное блюдце голубой киновари да, спустив с плеча кафтан, высвободил из рукава правую руку и, помахав ею, – кровь-де застоялась, – сел за дубовый стол.
– Сказывай, батюшка.
– Пиши. «Во имя отца и сына и святаго духа. От русских купцов Семена, Максима и Никиты Строгановых казачьему атаману Ярмаку с товарищи, которые казаки зимуют на Каме-реке близко Волги. Имеем крепости и земли, но мало дружины. Идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства...» Пиши. «Приходят басурманы войной на нашу землю и своими безбожными набегами нашим посадам и городам многое пленение и запустение учиняют и всякий задор творят, и нету силы отбить их. Летом 1572 года черемисы и башкирцы русских торговых людей на Каме побили восемьдесят семь душ. Летом 1573 года, на Ильин день, из Сибирской земли, с Тобола-реки приходил с мурзами и уланами султан Маметкул – дороги на нашу русскую сторону проведывал, многих ясачных остяков побил, жен их и детей в полон повел и посланника государева Третьяка Чебукова и с ним служилых татар, кои шли с ним под Казань в орду служить, иных побил, иных в полон повел...» Пиши, да помасленное... «Вы б приплыли к нам, единоверные казаки, и нам служили б. Мы вам за вашу службу жалованье хлебное и денежное хотим дать. Пока шлем малые подарки: селитры батман (десять пудов) и свинцу против селитры в меру, и рыболовную снасть, и гвоздей, и казны бы прислали, да не ведаем, сколько вас голов. Посылаем два постава сукна настрофилю, десять половинок сукна яренку, десять половинок сукна ярославского, да десять половинок сукна гагрецу. Посылаем шестьдесят четей сухарей ржаных, семь четей с осьминою круп, десять четей толокна, двадцать колодок меду и вина две бочки под пятьдесят ведер. А коли похотите к нам ехать, то доверьтесь нашим посылам, они проводят вас по бесстрашным местам. Аминь».
Великим постом, отговев и помолясь угодникам, Петрой Петрович с людями и подарками санным путем отправился к устью Камы, где, по сказкам тамошных чувашей, и разыскал казачий стан. [62/63]
15
Уснула Волга, скованная льдами. Уснула Кама, зарывшись в пушистые снега. Мороз рвал дуплястые дерева, выжимал мороз из камня ледяную искру. Стыла в дубах темная кровь. Над полыньями клубился туман. От холода птица колела на лету.
Порыли казаки землянки по пяти сажен меж углов и зажили.
В прорубях рыбу ловили, рыли ямы под волка и лося, капканы и ловушки с заговорным словом ставили.
Кругом леса, в лесах зверье.
Мордвин Зюзя вышел ночью помочиться, волки утащили его от самой землянки. Двое заплутались в лесу и замерзли. Еще один потерялся в болоте: окна – прососы – в болотах не замерзали всю зиму.
В глухом овраге набрел Мамыка на медвежью берлогу. Обвязал себя бурлак веревкою, другой конец которой укрепил за пень, спустился в логово и зарезал сонного медведя, а молодую медведку привел на стан и стал жить с нею в особой землянке. Скоро он научил ее всяким проказам и прокудам. Спали они нос в нос; грея друг друга, ели из одного котла – Мамыка сопел, а медведка мурмыкала.
В метелях летели мутные дни, летели ночи, налитые свистом ветра да – э-эх! – растяжелой тоской.
Под завывы вьюги много было сказок и бывальщин порассказано. Народ собрался разноземельный и гулевой: иной побывал в Крыму, а то и в самой Туретчине; иной залетывал в Литву или Венгрию; иной кроме Дона да Волги нигде не бывал, но в россказнях и видалого за пояс затыкал.
Наконец, зимушка подломилась, обмякла и стала сдавать.
В распутицу, как обняла весна, в самое расколье, по последнему санному пути приехал Петрой Петрович с людьми и подарками.
Шумел и гудел на крутом берегу казачий сход.
Мартьян принародно читал зазывное письмо Строгановых:
– «Имеем крепости и земли, но мало дружины...»
Через плечо походного попа, дивясь премудрости божьей, в грамоту зорко вглядывался сотник Фока Волкорез. Его ль ухо не было тонко, и его ль глаз не был остер? Шипенье селезня он слышал через всю Волгу и в темноте на слух стрелял крякнувшую в кустах утку...
Мартьян вычитывал:
– «... С Тобола-реки приходил с мурзами и уланами султан Маметкул – дороги на нашу русскую сторону проведывал...»
Фока ждал: вот дрогнут строки, и меж них плеснет вода, блеснет огонь, сверкнет клинок... Но письмена лежали ладом, не шелохнувшись: покойно текла строка, играя титлами... Сотник отошел, сокрушенно вздохнув. [63/64]
Внимали Мартьяну и – кто про себя, кто вслух – вторили:
– Всем по штанам.
– Крупа...
– Порох...
– «... и вина две бочки под пятьдесят ведер...»
Закричали, заметались:
– Винцо на кон!
– Засохло, отмачивай!
– Бочку на попа!
Ярмак:
– Вольное буянство, не галчи! Оравою тоже песни орать, а говорить надобно порознь. Думай думу с цела ума, чтоб нам не продуматься.
И старший кормщик Гуртовый показал горланам свой облупленный и пребольшой, в телячью голову, кулак:
– Во!
Горлохваты понурились, зная, что от кормщика не получишь ни синь пороха, пока не решится дело.
Долго молчали, собираясь с мыслями, потом разбились по куреням и заговорили:
– На Волге жить – нам таловнями (ворами) слыть.
– На Дон, братцы, переход велик.
– Не манит и на плесы понизовые.
– Да, в понизовье нам возврату нет.
– Тутошний купец пуганый, добычи нет.
– В Казани стоит царев воевода Мурашкин с дружиною. Коли попадем ему в лапы – всех на измор посадит, а атаманов наших до одного перевешает.
– Большим людям, хо-хо, и честь большая!
– Пускай сунется Мурашка со своими зипунниками! Колотили мы их раньше – и впредь колачивать будем.
В стороне, засунув руки за кушак и полуприкрыв глаза, стоял Петрой Петрович со своими людьми, дивовался на вертеп разбойников и, слушая поносные речи да дерзкую брань, творил шепотком молитву.
А гулебщики уже ярились крутенько.
– Не красно нам, – мычал Мамыка, – не радошно к купцам в службы идти. Воля...
– Волк и волен, да песня его невесела.
– Помолчи, высмерток!
– Я и мал, да удал, а у тебя, полудурок, и в бороде одни блохи скачут, ума ни крупинки.
– И-их, ворвань кислая!
– Уймитесь, каторжные!
– Костоглоты!
– Не задразнишь!.. У рыбака голы бока, зато уха царска.
– Духа казачьего в вас нет, мякинники!
– А вы – блинохваты! [64/65]
– Не бранись, ребята, играй в одну руку.
– Будя шуметь! От шаты-баты не станем богаты.
– Там нам будет кормно. Поживем, отдохнем, кровью соберемся, а далее видно будет.
– Обещают бычка, а дадут с тычка, и пойдем утремся.
– Правда твоя, Лукашка, с купцами нам рыбы не едывать, – костями заплюют.
Слово за слово, зуб за зуб.
Двое раздрались, остальные бросились разнимать, и пошла потеха, только клочья полетели. Мамыка сбычился и отошел к старикам: по силе ему не было ровни во всей ватаге, в драку бурлак никогда не ввязывался, после того как однажды чуть не убил человека – в лоб пущенным с ногтя – медным пятаком.
Старики посмеиваясь глядели на побоище, посасывали трубки, а иной еще и покрикивал:
– Ругайся на стану вволю, бейся дома досыта, чтоб в походе жить нам в ладу да в миру.
Долго пришлось старикам ждать, пока драчуны утихомирятся. Мартьян поднял руку и призвал:
– Будя, товариство! Думай во весь ум, что нам делать и как нам быть?
Гулебщики потирали шишки на головах, щупали разбитые носы и понуро молчали. Превеликие умельцы кистенем бить, на игрища и на хитрости горазды, которые и на работу слыли валкими, а языки у всех были привешены криво.
Иван Бубенец, с казачьей стороны, зыкнул:
– Плыть!
Бурлаки опять заспорили!
– Не плыть!
Казаки в один голос:
– Плывем, плывем!
Мамыка:
– Думай не думай, сто алтын не денежки... Плыть так плыть!
– Поплыли!
– Атамана за бока!
Повременив и послушав голоса, Мартьян сказал:
– Всяк своей голове хозяин. Вольному воля, бешеному поле, удалому легкий путь... Кто с нами – гуртуйся ко мне, кто не с нами – отходи прочь.
Закачались, зашумели, как камыш под ветром.
Иные отошли было, но поглядели друг на друга, поскребли затылки и вернулись в общий круг.
– А коли плыть, – опять приступил Мартьян, – то надобно нам выбирать коренного атамана на камский поход. Кого похотите?
– Ярмака!
– Ярмака на круг!
– Хорош, сулил за него черт грош, да спятился. [65/66]
– Никиту Пана, умен...
– И умен, да неувертлив, сам себе на пятки навалил.
Гогот подобен залпу.
– Нам хитрого да погрознее.
– Ивана Кольцо.
– Долой Кольцо! На него надёжа, как на старого ёжа.
– Запивоха и до баб ходок. В Астрахани кинжал и последние штаны с себя пропил. В Дубовку к нам без штанов прибежал. Хо-хо...
– Мещеряка в атаманы.
– Не гож, не гож! Не ходить нам, казакам, под гусаком бурлацким.
– Ярмака!
– Ярмака-а-а!..
Мартьян:
– И я мыслю – Ярмака. Люб или не люб?
– Люб!
– Гож!
– Люб, люб!
Ярмак снял шапку, шапка – малиновый верх, из-под шапки чуб волной.
– Благодарствую, браты, за привет и ласку, а только постарше меня атаманы есть.
– Люб!
– Послужи!
– Из старых порох сыпится.
– Волим под Яр-ма-ка-а-а-а!..
Ярмак долго отказывался, как того требовал обычаи, и пятился за спины других.
Старики вывели его под руки и поставили в круг.
– Люб!
Ярмак поклонился:
– Ну, коли так, добро... Только, якар мар, на себя пеняйте. Я сердитый.
Круг гудел и стонал:
– Люб! Ладен!
Мартьян подал Ярмаку обитую медными гвоздями суковатую дубинку.
– Милуй правого, бей виноватого.
И всяк, кому хотелось, подходил к выбранному атаману и, по древнему обычаю, мазал ему голову грязью и сажей с артельных котлов и сыпал за ворот по горсти земли, приговаривая:
– Будь честным, как земля, и сильным, как вода.
Кормщик Гуртовый выкатил на круг бочку с даровым вином и позвонил ковшом о ковш.
– Налетай, соколы!
Ковши пошли вкруговую, загремели песни, – повольщина обмывала своего коренного атамана. [66/67]
Гулкий ветер обдувал поля.
Ноздристые снега сползали в низины. Синие сороки-стрекотухи расклевывали почки зацветающей вербы. На лесной поляне, на солнечном угреве резвились пушистые лисенята.
С галчиным граем, с косяками курлыкающих журавлей прилетела весна-размахниха.
Разыгрались как-то Мамыка с медведкой да и раскатили землянку по бревну. Медведка, фыркая и обнюхивая прелую хвою, припустилась в лес с такой прытью, что бурлак и смигнуть не успел, как она скрылась в чащобе. Он, как был в одном сапоге и без шапки, кинулся за ней и – пропал. Спустя время вернулся и – вернулся один.
– Ну, – потешались товарищи, – к осени пойдет твой косматый сынок по лесам, по болотам чертей полошить.
И до того был нелюдим Мамыка, а тут и вовсе задичал, – задавила удалого чугунная тоска.
Ночью
река дрогнула
тронулась...
Разбуженные треском и шорохом плывущих льдов, гулебщики вылезали из прокопченных логовищ и, тараща в темень глаза, размашисто крестились.
– Ого-го-го!.. Пошла матушка!
– Пошла!
– Час добрый!
– Гуляй, голюшки! Гуляй, гуленьки!
– Запевай, братцы, артельную!
Во всю-то ночь мы темную,
Непроглядную, долгую
ухнем,
грянем!..
Нам гусак кричит: «Давай!»
Мы даем, сильно гребем
да-а-ы,
ухнем!..
На берегу костры и говор, песня, звонкий перестук топоров, смрад кипящей смолы. Кто из лыка веревки вьет, кто дубовые гвозди строгает.
Разметала Кама льды, хлыном Кама хлынула: тут остров слизнет, там – двинет плечом – берег сорвет.
И Волга, играя и звеня под солнцем льдиною как щитом, всей силой своей устремилась в дальний поход.
На дереве начал лист разметываться; птица суетливо завивала гнездо; подобны облакам, гонимым полуденным ветром, летели станицы гусей да лебедей; пролилась весна зеленым дождем, хлынула красна в долины, зажгла лес, затопила луг и поле...
16
Плыли, отдыхая на радостных местах.
17
Славна Кама осетрами!
Высокое небо
синий простор.
По верхам дерёв дремотно шумел ветер. Солнце падало на воду, качалось солнце на волне, тонуло и вновь всплывало, взвивалось над водами и твердью. С черемух и диких яблонь осыпался цвет, дух от того цвету шел веселый. Пчелы пили росу. И от вечерней зореньки да до утренней в темных лесах гремел и сверкал соловьиный свист.
Плыли.
Вешняя вода тащила дерева и дрязг и копны сена. Шумела грозная вода, трепала ветви точно всплывших прибрежных кустов. Ухая обваливался подмываемый берег. В быстрых струях колебалось и угасало отражение висящей над кручью березы. Чай, листая сребристым крылом, с суматошным криком гонялся за чайкой.
Плыли.
Мимо яров, мимо развалин старинных булгарских и татарских крепостей. Попадались безыменные деревнюшки, и дети, провожая караван, далеко гнались по берегу с заумными криками. Дремлющие в зеленых зарослях озёра были полны тишины и света. На озерах табунилось великое множество птицы, – казаки набирали полные лодки гусиных и утиных яиц.
Плыли.
Немудрой снастью ловили икряную рыбу, били на мясо медведя и кабана. Однажды орда белок преградила стругам путь: несметной силой, подняв хвосты торчком, два дня и две ночи кряду переправлялись зверки через реку, – казаки хватали их руками, били палками и из шкурок беличьих нашили легких шубеек и одеял.
Плыли.
Гад заедал – никакими хитростями и сбруями немыслимо было от него защититься. Гад лез в глаза, в рот, в уши, не давая вздохнуть. Порою за гуденьем комара не слышно было плеска волны и шума леса. Лось, спасаясь от гада, покидал дебри, выбегал на открытое место и ложился в воду да так, выставив морду, и дремал. Один сохатый запутался рогами в прибрежных талах, и его взяли жива, освежевали, растяпали на куски, и, пока наводили костры, комары высосали мясо добела – лосину не стали есть и собаки. Иногда на пригорок, под ветер, со стонущим ревом [68/69] вылезал закусанный гадом медведь. Уличенного в лихой корысти астраханца Истому Беса, по приказу куренного атамана, раздели догола и привязали к дубу: всю ночь комары висели над ним гудящим столбом и к утру заели насмерть. Когда варили варево, то кухари собирали нападавшего в котлы гада полными ложками. Жалил комар, душила мошка, била пестрая муха, жало которой было острее шила. Ошалелые от изнурения люди задыхались от едкого кура, разложенного на стругах и вокруг стана, метались, лезли в огонь и нигде не находили себе спасения. Повизгиванье и воркотня осатаневших собак; псы зарывались в песок, забивались в гущину колючих кустов или, кувыркаясь через головы, как бесноватые мыкались по лугам, по лесам, но свирепые комариные орды всюду настигали их, липли к кровоточащим ранам, объедали голые места в ушах, под хвостом и под брюхом, объедали губы, нос, веки, да так, что глаза совсем заплывали кровью. Ослепшие собаки, стеная, бежали за караваном по берегу и, выбившись из последних сил, отставали, гибли.
Плыли.
Ждали крепкого ветра, как праздника.
Сказка засольщика Панкрашки Лоскута:
«...Давно, братцы, было, в те блажные времена, когда козы волков драли.
Жил на гречушных горах царь Федул, и был он тяжел для народа своего. Головушка на него была насажена с пивной котел, а ума в ней было чуть. Знал он песни играть, в дудки дудеть, а всеми делами завладали и ворочали мудрецы-думщики. От вольной жизни, то ли от дурости такая у царя борода разрослась, – залетит в нее воробушек и не найдет, бедный, вылету.
Росла при отце дочь Светлянка, красавица-раскрасавица.
Вот раз поехал царь Федул на охоту, а вперед пустил тыщу прислуг. Они и давай чертей полошить: лес рубят, траву секут, камень ломят, камнем дорогу мостят, метлами метут и коврами устилают. Сам царь на золоченой телеге едет – только колеса гремят. По сторонам дурни и холуи скачут: кто от царя мух гоняет, кто ему песни поет, кто в барабаны бьет, кто бороду по волосу расчесывает, кто в пасть ему съедобье лопатой сует, кто волосату спину чешет, кто хвалит его дородность и красоту, кто славит ум и доброту, кто мужиков разно ругает.
Наохотился царь, – наваляли перед ним зверя гору, – устал и лег спать под дубом. И привиделся ему диковинный сон. Проснулся весь в черном поту, созвал мудрецов-думщиков и спрашивает:
– Што такое?.. Лежу будто я поперек реки, запрудил ее, а вода через меня хлещет. Из ушей, из ноздрей у меня пшеница растет... Што такое? [69/70]
Мудрецы-думщики три дня в книгу глядели, три ночи думали и ничего не выдумали.
Рассердился царь и говорит:
– Кто разгадает мне сон, тому полцарства и дочь в придачу отдам!
Позвали одного усача рыбака, он не стал много растабаривать и сказал коротко:
– Так и так, царь, завтра тебе умирать.
Испугался царь Федул, и волосы на нем медведем поднялись.
– Я с тебя, – кричит, – такой-сякой, завтра шкуру спущу!
– Это дело нехудое, – отвечает рыбак. – Ты переживи завтрашний день, тогда и спускай с меня шкуру.
Царь объелся медом, и к утру дух из него вон. Полцарства он рыбаку не дал и в дочери отказал, ну, а все-таки перед смертью поставил его старшим над всеми мудрецами-думщиками.
Живут.
Рыбак вино пьет, яйца вволю ест и к царевне молодой подбирается. Светлянка царствует, а рыбака к себе ближе чем на сажень не подпускает. Ну, а мудрецы были свирепы, – зависть берет, рыбак в царски дела путается, – и всяк только и думает, на какую бы хитрость пуститься, чтобы рыбака со света сжить.
Приходит к царевне один мудрец и говорит:
– Было мне виденье и голос от твоего батюшки. Велел он рыбака к себе прислать, чтобы окуньков ему на ушицу наловил.
Согласилась Светлянка. Рыбак с похмелья во дворце мучился. Холуи схватили его, завернули в сети и поволокли на реку. Сгребли на берегу деревьев пребольшую кучу, рыбака взвалили, сучьями забросали да и зажгли, чтобы душа его с дымом на небо летела. Рыбак унюхал – паленым пахнет, сразу очухался и думает: «Жить тошно, да и умирать не находка». Выпутался из сетей, в дыму потихоньку к воде сполз и уплыл на остров. Мудрецы-думщики обрадовались, что избавились от него и опять за свое, начали царством ворочать.
Живут.
Прошло сколько-то время, подъявился рыбак как ни в чем не бывало – и прямо к царевне.
– Так и так... Близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, а побывал я у твоего батюшки и рыбки ему наловил, насолил.
– О чем он с тобой побеседовал? – спрашивает дочь.
– О чем ему со мной, дураком, беседовать? – отвечает рыбак. – Просил он для умной беседы всех мудрецов-думщиков той же дорогой к нему прислать.
Мудрецы – круть-верть, туда-сюда, не тут-то было. По приказанью царевны, свалили их всех на кострище и сожгли [70/71] под барабанный бой. Рыбак не будь дурен, царевну на себе оженил и сам царем стал. Весь народ возрадовался. На целый год пошло у них пированье. И я там был, вино и мед пил, украл царев шлык, в подворотню – шмыг, и поминай как звали...»
Отгремела весна
отсверкала красна.
Кама вбралась в берега, загустели леса, в лесах – калина, малина и дикое вишенье, хоть косой коси.
Заря зорю встречала.
В лесах тосковала кукушка, на перекатах судак бил малька, и по ночам – в грозы – над омутами, как свиньи, плескались сомы.
Крепко спится под шум ветра, под плеск волны.
Шли своей силою на веслах и на шестах, и бечевою, подпрягая в лямки набранных по пути татар и чувашей, бежали парусным погодьем.
Секли дожди, хлестала волна.
Полон дикого своеволья и напористой силы, Ярмак не щадил ни своих, ни чужих костей и – гнал. Вставал он раньше всех, наскоро молился на закопченную складную икону и тормошил караванного:
– Поплыли!
Караванный поднимал куренных старшин:
– Поплыли!
Куренные старшины будили людей:
– Поплыли!.. Поплыли!..
Подымались лохматые, рваные, с запухшими от комариных укусов рожами, крестились на алевший восток, обжигаясь хлебали заранее сваренную кухарями ушицу и, на ходу дожевывая обмусоленные овсяные лепешки, валились к стругам.
– Поплыли!
– Водопёх, выбирай бросовую, толкайся!
– Загребные, на весла!
Струги гуськом пробирались вдоль бережка.
– Ох, братцы, спал я нынче, – клюй ворона глаз – и носом бы не повел.
– Всех нас атаман примучил, ребро за ребро заходит.
– Торопыга.
– Крутенек батюшка, да пререкаться-то с ним не приходится.
– Терпи, кость, плывешь в гости.
– Вестимо, на то и гульба...
– Горе наше тут гуляет..
В самую жару устраивали привал. Наскоро пожевав чего придется, расползались в кусты и, укутав головы в тряпье, отдыхали. В полуденной тишине сонно бормотал ручей, перебирая [71/72] обмытые камни. Склонившись над ручьем, как завороженные дремали ивы.
И снова атаман гнал по стану позыватых:
– Поплыли!..
В полулета добрались до Орла-городка, бревенчатые башни которого были видны издалека.