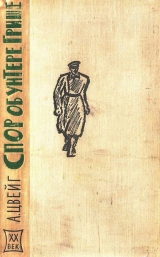
Текст книги "Спор об унтере Грише"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
Пусть товарищ простит его! Он, Герман Захт, всегда желал ему самого лучшего, но в данном случае – он клянется женой и ребенком – другого выхода нет!
И прежде, чем опустить руку, он тихо прибавил:
– Да простит бог тех, которые нас, порядочных людей, так зажимают в тиски, что от страха мы только и способны на свинство.
Затем он повернулся, надвинул шлем, подошел к двери, загородил ее спиной и, крепко сжимая винтовку обеими руками, держа ее наизготовку, палец на спуске, приготовился к отпору.
Винфрид, бросив удостоверение на стол, собирался отвечать ему. Сердце его отчаянно билось. Вдруг – внезапным рывком – в большом помещении ярко вспыхнули лампы, свет больно ударил всем в глаза. Винфриду осталось только сказать:
– Кончено!
Дрожащими пальцами, выпятив нижнюю губу, он поднес бумажку к пламени свечи – пепел, кружась, лег на пол. Затем он погасил свечу. Гриша, все время стоявший неподвижно, протер глаза и, не говоря ни слова, вернулся в свою камеру.
Бабка, обводя осторожным взглядом троих мужчин, хриплым бешеным шепотом напоминала ему о водке – сейчас, немедленно пустить ее в ход!
Тут Гриша сделал ошибку. Он тихонько хихикнул, покачал головой и безмолвно указал пальцем сначала на себя, а затем на помойное ведро.
Бабка одним прыжком очутилась у бутылки. Она увидела, что бутылка откупорена, пробка вставлена вновь. Резким движением она выхватила ее из горлышка, поднесла бутылку к носу и в ужасе взглянула на Гришу. Налив несколько капель жидкости на ладонь, она слизнула их – это была вода, едва отдававшая водкой и слегка горькая на вкус. Тогда она застонала стоном, который, казалось, не столько вырвался наружу, сколько сдавил ее внутри. Что-то схватило ее за сердце. Она грохнулась на стул, хоть и сжала кулаки до крови. Комната перед ней пошла кругом, и от резкой боли в животе, которая, как ножом, пронзила самые чувствительные ткани внутри, она испустила долгий жалобный стон. Пошли воды. Вторая волна режущих болей сотрясла все тело. Беременным женщинам в начале восьмого месяца не рекомендуется переносить сильный испуг.
Но Тевье, сам муж и отец, тотчас же понял из торопливых объяснений Гриши, отчего кричит Бабка. Когда солдаты с громким топотом и шумом ввалились после медицинского осмотра и получки жалованья во вновь освещенные казармы, они нашли на нарах бившуюся в судорогах женщину.
Винфрид попросил солдат осторожно вынести Бабку. Ожидавший на улице автомобиль пригодился по крайней мере для того, чтобы отвезти ее в больницу.
Солдаты впервые заметили на искаженном от боли покрасневшем лице Бабки молодые глаза. Они разглядывали ее, рассуждая о том, какие странные случаются вещи и как помолодела эта старая седоволосая женщина. Ефрейтор Захт, с посеревшим как пепел лицом, весь в поту, незаметно лег на свою койку, поставив возле себя винтовку, надвинул шапку на лицо и заснул, несмотря на свет и шум, как человек, который только что закончил самую трудную в своей жизни работу.
Фельдфебель Понт, сгоравший от нетерпения, сидя за рулем, и писарь Бертин, также ожидавший в машине, с чувством безнадежности выслушали краткий, сухой доклад Винфрида. Чего только не бывает на свете и как судьба играет человеком!
Они отвезли Бабку в городскую больницу. Там было установлено, что у нее начались нормальные роды, которые, однако, у первородящей могут затянуться. Штатский врач, бледный седобородый еврей в чистом белом халате, пожал плечами: может быть, двенадцать часов, а может быть, и все двадцать четыре! Обер-лейтенанта поставят об этом в известность.
На обратном пути все молчали.
– Нельзя заключить, что все кончено, – сказал Винфрид, когда они подъехали к зданию штаба. Но Понт выразил их общее чувство, ответив:
– Во всяком случае, шансов немного.
Как раз в это мгновение Гриша, обмякший, словно половая тряпка, укладывался на свои нары. Унтер-офицер Шмилинский запер за ним дверь. Во сне у Гриши все еще лились слезы, быть может, это была скорбь о жизни, быть может – жалость к самому себе.
Книга седьмая – последняя
ГРИША ОДИН
В квартире Винфрида, на окраине города, лампы снова, как бывало прежде, ярко горят. На электрической станции жужжит и стучит динамо, провода уже в полной исправности. Словно гигантская медуза, медленно плывет огромная масса холодного воздуха, она виснет на ветвях деревьев этого необозримого лесного края; здесь она замерзнет, превратится в кристаллы.
– По-моему, начинается оттепель, – раздраженно жалуется сестра Барб, прильнув лицом к окну. Затем она закрывает форточки двойных рам, между которыми красиво зеленеет, защищая от холода, мох.
Прежде чем она оборачивается, Винфрид шепчет ей на ухо:
– Терпение, дорогая, терпение.
Винфрид изменился, вернее, он стал похож на прежнего Винфрида: острое, худое, измученное лицо с ввалившимися дерзкими глазами – такое, каким оно выглядело у окопов, пулеметных гнезд, под походным шлемом, в свете сигнальных ракет, среди воронок от снарядов. Сейчас, однако, это лицо бледно комнатной бледностью, а в те времена оно было покрыто коричневым загаром.
– Увы, у меня совсем не терпеливое настроение! – возражает Барб.
Забившись в угол дивана, Познанский курит свою матово-коричневую сигару. Бертин, со скрипкой и смычком, стоит перед нотным пюпитром. У рояля сестра Софи собирается петь. Но все это – эти пятеро друзей, комната с мягкими зелеными обоями и смежная спальня с широкой кроватью, – все это лишь фон и второстепенные детали; главное – это черный, блистающий никелем, властным оком глядящий из своего угла телефон.
Унтер Маннинг – сегодня ночью он несет дежурство – обязался немедленно сообщать сюда о каждом телефонном вызове, который, выбравшись из снежных сугробов, наконец дойдет сюда из «Обер-Ост» или с Брестского вокзала. Даже если разговор будет касаться непосредственно комендатуры, унтер Маннинг, нарушая служебную тайну, поставит об этом в известность обер-лейтенанта Винфрида.
– Завтра утром, – докладывают с соседнего участка, – а может быть, еще и сегодня вечером аварийная команда – оттепель ей как раз на руку – проложит новые провода на месте поврежденных. Кроме того, предполагают установить радиосвязь и с Мервинском, если окажутся серьезные к тому основания.
– Какой-то русский, никому не ведомый – не есть серьезное основание, – ворчит из своего угла Познанский.
Невыносимо гнетет этих пятерых человек напряженность ожидания. Признаться в том, что положение безнадежно, они все еще не решаются.
– Не может быть, – в десятый раз начинает обер-лейтенант Винфрид, – не может быть, чтоб Лихов подчинился, не показав своих когтей. Он наверно даст знать о себе, а если это случится слишком поздно, тогда помилуй нас бог.
– Кого? – спрашивает Бертин из-за пульта.
– Нас всех, – отвечает Винфрид, – нашу честь, страну, немцев, разве я знаю кого?
Среди наступившего молчания слышно, как поет электрический чайник.
Теперь восемь часов. Совершенно бессмысленно рассчитывать на получение известий сегодня. Связь с восточным фронтом в настоящий момент ни для кого не представляет интереса, никто не заставит монтеров работать ночью.
– Мы просто дураки, – заявляет Познанский.
– Да курите же, господа, курите, – приглашает Винфрид гостей.
Всем пятерым кажется, что они прождали здесь долгие часы. Завтра, в день поминовения усопших, полковой священник Людекке отслужит обедню в маленькой военной церкви Мервинска. А сестра Софи споет арию Баха – кантату величественную и благочестивую. Она обещала сегодня вечером прорепетировать ее перед своими друзьями. Но сейчас она не в состоянии и рта открыть.
По мере того как бежит время, все пятеро изводятся все сильнее, и секунды их жизни, словно распыленные, превращенные в тонкий пепел, падают в небытие, как бы распростертое вокруг этого дома, живущего одним только ожиданием. Они позвякивают ложечками о чайные чашки, которые Руппель, тщательно вымыв, поставил на стол; они стараются не раздражать друг друга, не задеть необдуманным словом, поддерживать в себе надежду на то, во что никто из них уже не верит.
Познанский снимает очки с усталых глаз.
– Выскажем же ясно и коротко, что происходит здесь с нами, – ворчит он. Его выпуклые глаза без очков, с покрасневшими веками растерянно и удивленно глядят с умного сократовского лица.
– Все мы надеемся, что невиновный, несмотря на все, будет спасен, – раздраженно и резко отвечает Барб.
Познанский качает своим выпуклым черепом.
– Разве вообще теперь время такое, чтобы задумываться о судьбах отдельных лиц? – мягко возражает он. – Чего стоит отдельная личность? Что такое виновность и невиновность? Как раз теперь там, на Западе, в Италии, рвутся в окопах газовые бомбы, с какой-нибудь вершины Доломит бьют шрапнелью, точно по кеглям, по другим горам Доломитовой цепи, а по обе стороны передвигаются люди, подобные нам. Может быть, в эту минуту в морях, омывающих Европу, торпеды пробивают бока каких-нибудь судов и топят нашего брата, а во всех газетах и правительствах, учреждениях и присутственных местах твердят: держаться! А страдания и лишения народа в тылу дополняют картину войны. Бедный Гриша, – прибавляет, качая головой, Познанский, – если завтра тебе пришлось бы перейти в иной мир, не думай, что эта участь постигнет только тебя!
Как зловещая туча, повис над столом бледно-голубой табачный дым.
– Чего же мы тогда, в самом деле, дожидаемся? – резко спрашивает Бертин, зажав скрипку под мышкой. – Ведь судебная компетенция дивизии затрагивает вас только символически, а вмешательство Шиффенцана волнует вас лишь постольку поскольку.
Софи, сидевшая рядом с ним, нежно, незаметно для других, пожимает его руку.
– Совершенно верно, вы угадали, молодой человек, – кивнул военный судья. – Именно символически и постольку поскольку.
– Для нас дело заключается в том, – устало говорит Винфрид, – чтобы в стране, чей мундир мы носим, правильно работали весы правосудия и осуществлялась справедливость. О том, чтобы наша мать – Германия – не очутилась на ложном пути. Ибо гибнет тот, кто сходит с пути справедливости.
Сестра Софи качает своей милой головкой. Передать свои чувства словами она не в состоянии, но они возносятся выше тех сфер, где пребывают государства и народы.
– Играйте же, – приказывает она вдруг, выходя из состояния подавленности. Она берет первые аккорды прелюдии, и Бертин присоединяется к ней.
Звуки малого баховского оркестра легко слетают с клавишей старого, жалкого, дребезжащего пианино. Завтра унтер-офицер Маннинг будет аккомпанировать ей на фисгармонии, заменяющей орган. Сегодня она сама приходит себе на помощь.
Однако, ария не может зазвучать в комнате одна, без сопровождения, она не может быть доверена одному лишь человеческому голосу. Ей предшествуют, ее поддерживают, оберегая и чарующе оттеняя, звуки скрипки. На скрипку Бертина Софи может положиться. Из ее недр струится – вся в мягких волнующих арабесках – медлительная мелодия. С этими нарастающими, как прибой, звуками, в сопровождении напоминающих арфу аккордов рояля уже ворвалась в комнату одухотворенная плавная музыка взволнованной души: мрачная, глубоко сладостная, проникнутая трепетом вещего сердца.
Чистый, нежный альт сестры Софи преображает насыщенную беспокойством комнату. Она поет с безыскусственной простотой. Жажда любви дрожит в благоговейной красоте этого низкого печального голоса, как и в мощном духе мастера, сочинившего эту восторженную любовную арию – песнопение.
Все три слушателя как бы растворяются в этой бессловесной красоте музыки, и страстное самоотречение Баха, его стремление к беспредельному, переданное глубоко чувствующей, но до сих пор всегда безмолвной в своей страсти Софи, проникает и в душу ее подруги.
Когда Софи начинает следующую строфу, Барб, словно кто-то толкнул ее, поворачивает голову к телефону. Винфрид шепчет ей:
– Ошибка, дорогая, телефон безмолвствует.
В это же время там, в Бресте, в канцелярии, фельдфебель Матц рвет исписанную карандашом желтоватую бумажку с пометкой о разговоре по телефону, который был заказан Шиффенцаном, но не мог вчера состояться. Генерал-майор больше ничего не спросил. Равнодушным кивком головы встретил он сообщение о том, что связь прервана.
«Нет, так нет, – спокойно подумал он. – Значит, дело пойдет нормальным путем».
Он вообще не понимал, что его так взволновало вчера, почему он чуть было не отменил телеграмму, им же самим составленную. Разве, посылая, он недостаточно основательно продумал ее? Его взбудоражил старик, остальное довершила усталость. Ну, теперь с делом русского покончено, вся переписка ушла в регистратуру, к Матцу, и будет отослана Вильгельми.
Шиффенцан считает нужным щадить свою память: он вычеркивает из нее дело Бьюшева. Поэтому Матц поступает согласно с его волей, уничтожая эту записку без особого на то распоряжения. Он тщательно подбирает два клочка бумаги, упавшие возле тростниковой желтой корзинки для бумаг, и ворчит:
– И без того найдется достаточно неотложных дел для передачи, когда восстановится телеграфная связь.
«Звучит неописуемо, – думает в этот момент Познанский. – Дело не только в голосе Софи, не только в музыке Баха. „Не только“, – правильно сказано, – продолжает он свои размышления. – Эта полнота, эта окрашенная суровостью сладость, эта неисчерпаемая гениальная выдумка! А как благочестиво она поет, малютка! Неплохое время, когда даже у таких вот благочестие начинает отделяться от церковной веры, как переводная картинка от влажной бумаги. Благочестие становится самоцелью, и доброму старому папаше, которого они, как сладкую водку, путем перегонки преобразили в господа бога, придется постепенно ретироваться и предоставить место другим, более величественным воплощениям возвышенного…»
Толстым пальцем он держит сигару у подбородка и, с наслаждением затягиваясь, время от времени беспокойно оглядывает лица обеих пар.
Софи стоит, отвернувшись от него, – так, чтобы только Бертину видно было ее бледное одухотворенное – лицо. Она поет. В созвездия сплетаются невероятные, неслыханные звуки, и над скользящим потоком ночных гармоний звучат, внутренне отграниченные друг от друга, тихий голос скрипки и исполненный задушевности голос девушки.
В заключение скрипка, – чтобы не сразу отбросить своим молчанием слушателей в жестокий, грубый мир, – зазвучала сильнее, еще раз прошла по ступеням прелюдии, медленно распуская все, что было связано, освобождая то, что еще слито было друг с другом…
Все молчали. Казалось, дом стоит на острие пирамиды и качается во все стороны. «Выходить, нельзя, разобьется!» – думает Бертин. Лишь с того мгновения, как Софи запела, Бертин полюбил ее. Он охотно прижал бы ее головку к своей груди и поцеловал в губы, которые одухотворили мир своим дыханием. Но он ограничился тем, что поцеловал ей руку.
Как прикованная, сестра Барб смотрит на дно чашки, где в форме созвездия расположились чаинки. Она измучена жалостью к человеку, который страдает и которому нельзя помочь.
– «Бедный Гриша, – думает она, и горестные слезы неожиданно для нее самой выступают в уголках глаз. – Бедный милый парень…»
Винфрид механически, чуть ли не в шестидесятый раз, взглядывает на ручные часы и тотчас же забывает, который час.
– Н-да, – откашливается наконец Познанский. – Как вы сказали? Германия? А что это значит, дорогой?. Как великая держава, Германия всходит, словно опара для куличей, как моральная сила – она съеживается в тоненькую ниточку. Кого это может удивить? Такова уж судьба всех великих держав. И вообще это не имеет большого значения. Человечество рассеяно по всей земле, кучка к кучке. Стоит одной кучке очутиться на некоторое время в тени и забвении, другая тем временем вскарабкается на высоты. Никто не знает, – закончил он, сосредоточенно закрыв глаза, – почему вообще человек болтается на земле. Человек гораздо легче научается летать, радировать, управлять подводными лодками, чем творить справедливость в своих же собственных интересах. Мораль не есть просто красивое слово, и все же… Заставить народы ощущать над собой высшее начало – справедливость, как ощущает ее индивид, если только он не потерял рассудок или не отупел от борьбы за существование, – вот к чему, по-видимому, сводится наша дальнейшая задача.
Он замолчал.
Его хриплый скрипучий голос затих, и чтобы сгладить впечатление от душевных страданий, завесу над которыми он только что приоткрыл, чтобы избавить слушателей от ощущения некоторого стыда за себя, он прибавил:
– Тем самым эта мировая загадка была бы решена. И тогда наступила бы очередь следующей!
Винфрид несколько спокойнее посмотрел на лысый череп Познанского.
Гриша спал в камере так глубоко, что не просыпался от собственных стонов, – во сне его душил жуткий кошмар. Он лежал, маленький и потерянный, в углу нелепо высокой и узкой камеры, напоминавшей поставленный стоймя гроб. От страха смерти, который ему до сих пор удавалось подавлять, у него ослабела и тихо вздрагивала нижняя челюсть, отчего из открытого рта вырывалось хрипенье и фырканье, как у человека, которого засыпало угольной пылью…
Софи и Бертин, в сопровождении Познанского, только что покинули светлую, уютную комнату в квартире Винфрида.
– Мне так страшно, – сказала, глубоко вздыхая сестра Софи.
Они не стали ждать сестры Барб, которая у телефона, с трубкой в руке, добивалась соединения с больницей, чтобы узнать, в каком состоянии роженица.
Таким образом, всем троим удалось тактично попрощаться, как бы не замечая, что Барб еще оставалась у Винфрида.
Старшая сестра, она же и акушерка, врач с русским дипломом, охотно дала справку.
– Роды правильные, хотя ребенок лежит не совсем удобно. Схватки превосходные. Роженица уже немолода, и роды могут затянуться. Лучше немного потерпеть, чем накладывать щипцы…
Глава вторая. МогильщикиСреди солдат – возбуждение, приглушенный шепот. Наконец раздается приказ «смирно», и рота застывает на месте.
Сегодня утром, второго ноября, фельдфебель Шпирауге, как обычно, распределяет задания между солдатами роты. Расходясь, солдаты выражают удивление: среди сказавшихся больными и отправившихся на осмотр в «околоток», находится и ефрейтор Герман Захт. Хотя в условиях гарнизонной жизни это бессмысленно, тем не менее и здесь стремятся по привычке и во имя дисциплины выживать симулянтов, людей, которые притворяются больными, чтобы избавиться на некоторое время от прелестей службы.
Впрочем, ефрейтор Захт стоит с серым безжизненным лицом и совсем не по-военному размахивает руками. У него блуждающий взгляд, глаза бессмысленно моргают. Температура – 39°. Все остальное зависит уже от дежурного врача, доктора Любберша, который из – страха, что его могут принять за еврея, крайне грубо обращается с солдатами. Тем не менее ему не удается выставить из амбулатории ефрейтора Германа Захта. Может быть, после нескольких дней, проведенных в постели, температура и упадет, хотя подавленное настроение и удрученность не оставят его. Затем его пошлют в отпуск, что уж во всяком случае никому повредить не может.
Расходясь, солдаты не знают толком, что, собственно, будет с Бьюшевым. Так или иначе, правы, по-видимому, те, которые вчера стучали по столу и угрожающе кричали:
– Не станем мы стрелять в него! Он наш товарищ, он оказывал нам тысячи услуг, он невиновен, как новорожденный, мы не будем его убивать!
Между тем опытный и расторопный Шпирауге уже давно поставил дело на разумные рельсы. На этот раз его дальновидность простерлась так далеко, что он счел нужным умолчать перед ротмистром о причинах, заставивших его отказаться от услуг тюремной команды при приведении приговора в исполнение. Укажи Шпирауге истинную причину, ротмистр обязательно потребовал бы приструнить солдат и заставить их стрелять хоть в отца родного.
– Тот, кому надо, – думает фельдфебель Шпирауге, – уж смекнет, в чем дело, и будет молчать.
Поэтому он не моргнув глазом доложил коменданту при утреннем рапорте:
– Сегодня между тремя и пятью у меня, к сожалению, не найдется десяти – пятнадцати свободных солдат, чтобы выполнить приказ господина генерал-квартирмейстера. Но в трех пустых бараках рекрутского депо расположился боевой батальон – для дезинфекции, обмундирования и т. д. Батальон наверняка сможет дать по требованию пятнадцать штыков.
Ротмистр фон Бреттшнейдер – тоже парень не промах. Даже в мыслях он не позволяет себе ругнуть Шпирауге – ах ты бестия, ах, пройдоха! – и высказать свою догадку, хотя, конечно, втихомолку чует, в чем дело. Бросив, между прочим, «вот и прекрасно», он переходит к следующему пункту рапорта.
– Надо укокошить кого-то без лишнего шума? – спрашивает помощник фельдфебеля Берглехнер, некогда бывший студентом-юристом. – А водку лишнюю мы за это получим? Требуется унтер и пятнадцать солдат? Три бутылки водки для них, четвертую – для меня. Я доставлю солдат с карабинами, на малом расстоянии из карабинов стрелять удобнее.
Фельдфебель Шпирауге обещает водку и начинает расспрашивать побывавшего на разных фронтах товарища о судьбах его батальона, сформированного из конно-егерской части и имевшего на вооружении тяжелые и легкие пулеметы.
Приходилось ли Шпирауге любоваться трупами отравленных газом солдат, лежащих вповалку на протяжении двадцати минут трамвайной езды? Батальон участвовал в итальянском наступлении, а до того – в румынском отступлении у Фокшан, еще ранее – в ужасных зимних боях под Карпатами. Теперь предстоит включиться в бои во Фландрии.
В батальоне сплошь юнцы лет по двадцати, от которых в самом деле не приходилось ждать большой совестливости. На передке первого тяжелого пулемета у них висит клетка с канарейкой – это ангел-хранитель батальона. Они с любовью кормят птичку сахаром, но, между прочим, они участвовали в начале этого года в гастролях на позиции «Мертвый человек», где разыгрались не поддающиеся воображению бои, кроме того, они специалисты по стрельбе из «гнезд», и в начале войны им в среднем было от роду лет по семнадцати.
– Чего ради мы будем жеманиться? – продолжает помощник фельдфебеля Берглехнер. – Вы – комнатные растения. А вот нам доводилось стирать кровь ближнего своего с пряжки пояса, не зная при этом, чья нога валяется там, в отдалении, – твоя это, или твоя еще при тебе. И нам не по вкусу жизнь в вашем пансионе. Скажи-ка лучше, камрад, что станем мы делать, когда снимем с себя мундир, – мы ведь доживем до этого дня! Уже, наверно, мы не сможем приспособиться к прежней жизни. Не придемся по мерке. Ровно в два, – закончил он, – я доставлю к вашей лавочке помощника фельдфебеля, унтера и пятнадцать солдат. Собственно, это уж излишество! Вполне хватило бы двух небольших дырок в затылке, пробитых вот этим оружием. – При этом он стукнул двумя пальцами, большим и средним, по коричневой блестящей коже своей кобуры. – Но дело ваше, как сказал Шиллер.
Он кивнул головой и удалился вразвалку: в зеленых обмотках, с сумкой для карт и офицерским кортиком.
Фельдфебель Шпирауге, все еще ощущая какую-то тяжесть на сердце, подумал про себя, глядя вслед унтеру: «Уже третью сигару выкуриваю сегодня. Проклятое курево! Надо бы поменьше курить…»
Утреннее небо, хоть и покрытое тяжелыми, как глыбы, тучами, предвещало солнце. Около десяти начало проясняться. С раннего утра, с девяти, возобновилось телефонное сообщение с западом: сначала на одной только линии, затем стали действовать и остальные провода, целиком загруженные разговорами отдела связи и оперативного, откуда майор Грассник снова налаживал столь необходимую связь с Брест-Литовском.
На вопрос адъютанта, вскоре появившегося в комнате Грассника, не поступило ли от его превосходительства каких-нибудь срочных сообщений для военного суда, майор, справившись, ответил отрицательно.
– Его превосходительство отбыл далее, как и предполагал. Он не посылал и не поручал передавать ни телеграммы, ни какого-нибудь иного сообщения.
В ответ на это Винфрид выразил, правда очень сдержанно, удивление и вышел из комнаты. Но за дверью он прислонился к стене и вытер пот со лба. Он почувствовал потребность расстегнуть жилет, ворот рубашки, возможно глубже вздохнуть. Его тотчас же стало знобить – не оттого ли, что в неотапливаемой прихожей и на лестнице было холодно? Он опять наглухо застегнул тужурку.
«Боже милостивый, – подумал обер-лейтенант, снова и снова повторяя про себя. – Что бы это могло значить? Что еще можно предпринять?» Конечно, есть много различных возможностей задержать небольшой отряд, которому поручено будет совершить казнь: напасть на него, остановить приказом, ввести в заблуждение фальшивой телеграммой. Но ясно, он не использует этих возможностей, если бы даже его превосходительство оставался на месте и не уехал бы в отпуск, вряд ли можно было что-либо сделать: слишком зубаст был Шиффенцан, слишком велик всеобщий страх перед духом ослушания и мятежа. «Бедный парень!» – сказал он себе, бледнея.
Он приказал Водригу принести бутылку коньяку и рюмку. Затем по телефону попросил к себе Познанского, чтобы узнать, полагается ли присутствовать при последнем акте кому-нибудь от суда или от дивизии. Познанский обещал прийти.
Кладбище для павших в боях русских было расположено на восточных холмах, выше Мервинска, и представляло собою огромное поле, усеянное небольшими крестами – с одной или двумя поперечинами. Фельдфебель Шпирауге приказал Бьюшеву вырыть себе могилу с помощью солдат, состоявших при кладбищенском управлении. Это звучало жестоко. Но, как бывалый человек, он знал, что на первый взгляд даже иное благодеяние кажется жестокостью. Сидеть, дрожа, в камере и прислушиваться, не стучится ли в дверь палач, еще тяжелее. Не лучше ли осужденному отправиться на кладбище и обратно – и заняться физической работой, которая отвлечет его от мучительных мыслей.
Гриша этому обрадовался. Он сам тщательно осмотрел свой гроб, сам, еще не зная того, он смастерил его. И считал правильным, если сам приготовит для себя и место вечного успокоения.
Так как ефрейтор Захт с утра сказался больным, то два других солдата, из чужой части, плелись за Гришей в качестве стражи.
Кирку и лопату нашли во дворе. Слегка подмерзший за ночь снег как будто вновь начал подтаивать. Солнце прорвалось сквозь тучи и согревало воздух. Гриша деловито одобрил выбор места для могилы, в крайней левой части поля, у самой дороги. Ему было бы неприятно лежать в тесноте.
«Разлиновано, как все у немцев», – подумал он, оглядев усеянное крестами поле, разделенное на три большие части: для католиков, православных и евреев совместно с магометанами.
Ландштурмисты, состоявшие при кладбищенском управлении, гамбуржцы, по распоряжению Шпирауге, уже приготовили место: клочок голой земли – черной, влажной, мерзлой. Гриша ревностно принялся за работу.
– Полегче, полегче, – ворчали гамбуржцы, ибо Гриша забирал для себя слишком много пространства. Они не ведали, что он сам будет обитателем дома, стены которого он возводит. Им часто случалось получать в подмогу рабочую силу со стороны, а Гриша им ничего не сказал.
Кирка выбивала из верхнего слоя окаменевшие от холода земной коры комья, похожие на раковины. В выбоинах серебристой тканью блестели нежные жилки замерзшей воды.
Оба стражника – у них хватило смекалки не мерзнуть без дела – прислонили винтовки к кресту ближайшей могилы и тоже принялись за работу. Рыли яму вглубь с обоих концов.
Очень скоро они добрались до более мягкой земли, вначале влажной, а затем и сухой. Все взялись за лопаты. Гриша видел, как вырытая земля становится светлее: сначала шла глина, затем плодородный суглинок, песчаные жилы и опять глина.
«Чистая земля, – думал он, – аккуратная будет могила. Только бы не оказалась слишком коротка или слишком узка. – Светлым ясным взглядом он осмотрелся вокруг. – Судьбы не избежишь! – Под сердцем защемило незнакомое тяжелое чувство. – Не надо обращать внимания, не надо прислушиваться, иначе это навалится на тебя, собьет с ног, жестоко разделается с тобой. Черный зверь, который повстречался мне тогда в лесу, – проклятая дикая кошка!» – думает Гриша. Бабка растолковала ему, как опасен этот зверь: это рысь, она может растерзать человека, если он вооружен только ножом.
И вот эта рысь, пригнувшись, подползает к нему по снегу все ближе и ближе. Вот ее лапы, когти, уши, торчащие, как у дьявола.
Но здесь перед ним ласковая земля, теплая и надежная земля. Ему вспомнились многочисленные случаи, когда солдаты на фронте забивались под землю, когда они, задыхаясь, борясь за жизнь, рыли окопы для прикрытия от огня пехоты или от осколков снарядов.
«В землю!» – яростно думал он, надавливая сапогом на лопату. В такт, равномерными движениями он выбрасывал наверх землю. Приятная теплота позволяла свободно двигаться всем мускулам. Он снял шинель, развесил ее на двух крестах и продолжал рыть вглубь, ударяя по земле и выкидывая ее, как сеятель, разбрасывающий семена для грядущего урожая.
Оба солдата болтали об отпуске и мире, который все отодвигается. Нескоро они доживут до него.
Гриша уже давно стоял по колени в земле и делал свое дело с ожесточением, которое стражники могли объяснить только яростью, гневом или ненавистью. Между тем ни одно из этих чувств не волновало Гришу. Он целиком ушел в спорившуюся работу, охваченный лишь страстью могильщика, единственная задача которого – хорошо вырыть могилу.
Напоенный солнцем воздух, выходящее паром дыхание, синеющее небо над головой, золотые и голубоватые тени на бесчисленных мягких окрестных холмах и на глубоком снежном покрове, из которого так убого росли кресты… Этот большой, разделенный на три части квадрат, заполненный деревянными крестами, черными или некрашеными, уже не казался Грише по-прусски разлинованным.
Словно все три батальона какого-нибудь полка, безукоризненно выстроившиеся, человек к человеку, плечо к плечу, выглядело теперь это поле мертвых.
«Не плохо пристать к ним», – думает Гриша, жалея, что нельзя взять с собой вниз ружье и огнеприпасы, пояс и шашку, хлебный мешок и скатанную вокруг ранца шинель. В нем жили ощущения древнего языческого воина, который не верил в смерть на поле брани и считал, что должен быть готов к новым рождениям; и все более страстными становились удары лопатой и движения рук. Яма уже так подалась, углубилась, что Грише стало неудобно привычным движением, через левый локоть, выкидывать землю наверх. Его левая рука ловко, почти механически, скользила взад и вперед по гладкой ручке лопаты, которую он крепко обхватил правой.
– Как работает русский! – удивлялись гамбуржцы. – Видно, у него еще на костях остался жирок!
Когда они узнали, для кого сооружает могилу этот неистовый землекоп, они от удивления разинули рты, а у старшего из них лопата выпала из рук. С этого момента, вплоть до половины одиннадцатого, у солдат было о чем потолковать между собой.








