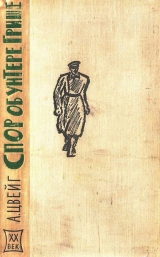
Текст книги "Спор об унтере Грише"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Книга четвертая
ИСПОЛНИЛИСЬ СРОКИ
Русскому лавочнику в Мервинске, скажем Вересьеву, столько приходится терпеть от людей и приказов, что его всегда душит едва сдерживаемая злоба, комом застревающая в горле.
И если он прикрикнет на какого-нибудь нехристя-еврея или крестьянку, зашедших в лавку не для того, чтобы купить, например, сала, а чтобы одолжить бечевку или расспросить о дороге, если он грубо накинется, ругаясь во всю глотку, на такого рода бездельников, отрывающих его от дела, то этим он лишь удовлетворяет свою насущную потребность: человек не в состоянии всегда скрывать свое раздражение – иной раз необходимо выплеснуть его наружу.
Владимир Николаевич Вересьев – в меховой шапке на лысой голове, хотя на дворе лето в самом разгаре, – стоит за неряшливым прилавком и осыпает ругательствами некрасивую женщину, которая терпеливо ждет у двери и с какой-то странной улыбкой выслушивает брань Вересьева.
– Эх ты, свинья в юбке! Дорога в тюрьму? И для этого ты лезешь ко мне? Видать, еще с детства ослепла на оба глаза! Ты что же, не нашла ни живой души на улице, у кого спросить дорогу в тюрьму? Так нет же, прет прямо в лавку. Ягоды продаешь? Но если ты затеяла побираться – не обессудь, пусть тебе подаст святая Афанасия, или Евдокия, или кто там еще заботится о твоей дрянной душонке. Не в ту дверь попала! Я и сам нищий, хоть с виду и смахиваю еще на купца. Только и осталось, что эти чертовы налоги считать, да и то некогда, лезет всякий сброд с улицы. А теперь проваливай! – крикнул он, в самом деле придя в ярость.
В этом были повинны все понемногу: и железнодорожное управление, и винная монополия, и почта, и военная полиция. То, что он сейчас так вышел из себя и обрушился на эту женщину, объяснялось скорее свойствами, человеческой природы, чем обстоятельствами дела.
Женщина подняла корзинку и сказала:
– И чего ты, папаша, разошелся? А я было поклон тебе передать хотела от твоего сыночка, от Федюшки, дорогого-любезного, а может, и письмо к батюшке. Но ежели я тебе так докучаю, Владимир Николаевич, то лучше сдам письмо, да и поклон в полицию. Там-то мне, наверно, спасибо скажут!
С разинутым ртом, словно отяжелевшая вдруг борода мешала ему поднять нижнюю челюсть, Вересьев уставился на женщину, которая насмешливо и дерзко улыбалась ему в лицо.
– Я – Бабка, старик, – дружелюбно кивнула она, – почему бы мне и не зайти к тебе? Ведь сынок твой долгие месяцы торчит у меня, мы приятели. Но, говорят, непрошеный гость… ты прав, купец! Видно, мне придется показать тебе дорогу в тюрьму, злыдень ты этакий! Так-то, разумник!
Вересьев с честью вышел из положения – он громко и добродушно расхохотался, протянул обе руки Бабке и сделал вид, что обрадован ее приходом; однако ему уже не удалось преодолеть ее иронический холодок. Тем не менее она согласилась жить у него и прописаться в полиции как свояченица его молчаливой жены. Она расположилась в конторе за лавкой, поела хлеба с салом, выпила рюмку водки. Все время она поглядывала сквозь решетчатую стеклянную дверь и маленькое грязное оконце на залитую солнцем площадь, где возвышался массивный собор из желтого кирпича с золотыми куполами, сверкавшими в знойном воздухе летнего дня.
Это угощение было не просто едой и выпивкой, оно означало также примирение и, в известном смысле, союз против врага, имя которого еще не было упомянуто.
Что Бабка явилась из-за пойманного солдата, который однажды был у Вересьева, это сообразил бы и чурбан. Поэтому она сразу открыто спросила отца Федюшки о парне, по фамилии Папроткин. Затем она рассказала, по какой, собственно, причине парень попал в тюрьму. Вересьев внимательно слушал. Дело Бьюшева было ему известно понаслышке. Но то, что у Гриши оказалась другая фамилия – Папроткин, которую он услышал от Бабки, в глазах Вересьева, знавшего, что с немцами шутки плохи, не предвещало ничего доброго. Он подивился даже тому, что солдат еще жив.
Бабка не скрывала, что пришла к Вересьеву не для того, чтобы попусту болтать. Она сделала все, что в ее силах, ради спасения этого человека.
– Знай, купец, – сказала она, продолжая жевать и все время поглядывая прищуренными глазами, словно прицеливаясь, на площадь, через которую его каждую минуту могли провести, – знай, он невиновен, как вот эта муха. Он просто солдат, русский солдат, пленный. И ему захотелось домой, через фронт, и он думал, что они вот так просто и пропустят его. Мы нашли его в лесу и забрали с собой. А потом я дала ему совет, видно, плохой. Теперь надо поднатужиться, чтобы он выбрался из беды.
При желании Вересьеву нетрудно было понять и то, чего она не договаривала. Он вежливо заметил, что, конечно, неприятно дать человеку добрый совет и посадить его этим в лужу. Насчет дела Гриши он может разузнать лучше, чем кто бы то ни было в Мервинске, – недаром он промышляет водочкой. Германские солдаты и телефонисты часто заглядывают к нему и выменивают папиросы на водку.
– Ты небось забила себе в голову на худой конец вызволить Бьюшева из тюрьмы?
Полузакрыв глаза, с сонным и безучастным видом, Бабка сказала:
– Если понадобится, то, конечно, дятел с ведьмой да с помощью черта и гору с места сдвинут.
Вересьев не без удивления смотрел на эту женщину, которая отважилась одна-одинешенька прийти в чужой город, задавшись столь невероятной целью – вырвать близкого человека из когтей немцев. Конечно, он уже сейчас убежден в неудачном исходе всей затеи и знает, что ему незачем ввязываться в это дело. Но Бабке он этого не говорит. Наоборот:
– Коли я тебе нужен, что ж, я готов помочь. Во всяком случае, в ближайшие дни разузнаю все насчет солдата.
Вересьев и сам любит риск, полагая, что если соблюдать известную осторожность, то можно заработать и в то же время избежать неприятностей, К тому же эта женщина нагнала на него страху…
Бабка оставила у него ботинки и узелок, а сама отправилась к тюрьме при комендатуре; она была в тревоге, словно волчица, высматривающая клетку, в которой воет ее детеныш…
Летом торговки ягодами толпами ходят по улицам в поисках покупателей. Ими никто не интересуется. Но все же такая торговка не может, конечно, незамеченной вертеться возле казенного здания, да еще такого важного, как местная комендатура со всеми ее пристройками. Часовому у решетки так скучно, что ему сразу бросается в глаза всякий, кто хоть раз пройдет мимо него. А тут женщина прошла трижды, с потупленным взглядом, словно девушка к причастию. В мозгу часового под стальным шлемом шевелится мысль: эти крестьянки боятся забираться в такое страшное здание, как наша комендатура, чтобы сбыть свои ягоды. С другой стороны, писаря и караульные не прочь были бы полакомиться дешевой малиной. А никто не умеет покупать так дешево, как полиция. Это всякому ясно. И когда она показалась в третий раз, он окликнул ее:
– Эй, бабушка с малиной, пойди-ка сюда! Тут ты мигом расторгуешься!
У Бабки защемило сердце.
Со скрежетом зубовным она уже отказалась от мысли пробраться сегодня во двор комендатуры: слишком большой страх внушали стены этих строений. Когда часовой окликнул ее, она уже готова была расплакаться от отчаяния и злобы: быть так близко от Гриши и в то же время так далеко!
Оклик часового был для нее неожиданной милостью божьей. Она быстро сообразила, что если она, не навлекая подозрения, получит доступ во двор тюрьмы как торговка, продающая солдатам ягоды, то самое трудное будет преодолено. И, широко улыбаясь, она прошла в ворота, обвитые сверху колючей проволокой.
Да, в эти дни Гриша уже самостоятельно сколачивал гробы из досок в углу второго двора, за хозяйственными постройками комендатуры, где на маленьком огне переносной печки разогревался горшок с клеем, чадившим, бурлившим, пузырившимся. Тевье ведь изготовлял не только ящики для покойников. Как раз теперь он мастерил ящики для живых – хорошие ручные чемоданчики на клею и с ободками, особенно удобные для пересылки яиц.
Гриша в холщовых, заложенных в сапоги штанах, в расстегнутой бумазейной рубашке на голом теле, как заправский мастер, работал у своих длинных козел. Он был спокоен. К его собственному изумлению, нетерпение в его душе улеглось, не мучило, не грызло больше. Он понял, что самый опасный перевал в его жизни уже позади, решение его судьбы зависит от того старого генерала, стало быть, оно в надежных руках.
Что толку было терзать себя? Кроме того – редкий случай, – три столь различные физиономии: молодого обер-лейтенанта, военного судьи и его превосходительства – все они внушали ему доверие. А его земляки там, на фронте, опять наступали. Солдаты ландвера – он все еще ночевал в одной с ними казарме – хоть и издевались над ним, но утешали его известиями, которые черпали из газет и рассказов проезжавших раненых.
Правда, дело его затянулось. Но так уж бог создал людей. Им нужно время. Они все пишут бумаги и посылают их взад и вперед. Это называется делопроизводством. Сейчас – так сказал ему писарь, только что в прекрасном настроении вернувшийся из служебной поездки, – его бумаги опять посланы в какое-то новое место. Но решение по его делу так или иначе придет.
Все складывается благоприятно. Живется ему неплохо. Даже довелось как-то раз отведать вишен, малины. Говорят, какая-то женщина с малиной вот уже три дня приходит каждое утро в тюрьму. Тевье и Гриша тоже хотели бы полакомиться малиной. Они сказали об этом солдатам.
И вот в это утро Гриша увидел, как торговка ягодами, приложив палец к губам в знак молчания, вошла через дощатую дверь за перегородку, отделявшую столярную мастерскую от двора.
Пылающим взглядом она уставилась на Гришу. От неожиданности он чуть было не рухнул на стол, подбородком на гвозди. К счастью, как раз вовремя, вслед за Бабкой вошел ефрейтор Герман Захт. Гриша сделал вид, что ему ужасно хочется ягод. Он протянул руку к корзинке и сказал:
– Малина, вот так малина!
Ефрейтор посоветовал ему не объедаться, засмеялся и пошел сказать Тевье, который выбирал и испытывал на складе доски, что пришла торговка с ягодами.
Бабка и Гриша стояли друг против друга в тени каштана, под сверкающим голубым небом, в июльской пыли.
Гриша потряс Бабку за плечи и хрипло спросил:
– Как же это ты, чертова баба? Что твоя ведьма, очутилась здесь!
И он крепко прижал ее к груди и поцеловал.
Страшная слабость охватила все тело Бабки, она почти теряла сознание и упала бы, если бы Гриша не поддержал ее. Велика была сила ее страсти к этому человеку. Как хорошо бы отдаться ему сейчас же, здесь на куче кудрявых пахучих стружек, в тени листвы!
Однако сознание, что сейчас придут люди, что до того нужно успеть сообщить о самом главном, вытеснило все остальные чувства.
– Да, я здесь, – торопливо говорила она. – Да, да, я здесь. Живу у Вересьева, возле собора. Там меня всегда можно застать. Пришла я сюда загладить вину, я ведь письмо получила весной. Уж я тебя вызволю, вызову Федюшку и Колю, и не такие дела я обламывала! Я все, все сделаю!
Гриша отпустил ее плечи и усадил совершенно обессиленную на один из готовых гробов.
– Не нужно, Бабка, спасибо. Не стоит затевать новую кутерьму. Дело мое в хороших руках, сам генерал взялся за него. Надо только потерпеть. – И, слабо улыбаясь, он прибавил: – Вот видишь, по грехам и кара – не терпелось мне в Наваришинском лагере – теперь мне было бы там лучше, чем здесь. Что ж, приходится учиться терпению. Но живется мне неплохо. Я сыт, есть работа, ночлег, а теперь и ты здесь, – ласково сказал он, чтобы не слишком разочаровать ее. – Теперь, значит, еще ты будешь мне помогать, кроме еврея Тевье. Хороший он человек. Мне везет на людей, здесь все хорошие люди.
Бабка продолжала сидеть, пристально глядя на Гришу, который стоял перед ней загорелый, с открытой грудью, небритый с воскресенья. Про себя она думала:
«Не хочет бежать! Тут, мол, все хорошие люди! Только не догляди за ним, и он поплатится за это головой!» Но вслух сказала:
– Ну, тогда все хорошо.
– Ты, Бабка, ведь и не знаешь, как все это было. Я расскажу тебе об этом в другой раз или, может быть, сейчас, если Тевье опять уйдет. А теперь продай-ка нам сначала малины. Нам ее до смерти хочется.
Он легонько толкнул ее локтем в грудь и подмигнул. Бабка рассмеялась, несмотря на слабость, которую вдруг ощутила в ногах и в голове.
Да, теперь ей можно отдохнуть! Она нашла его. Она пробралась к нему, как волчица в клетку пойманного детеныша.
– Поспать бы часок, – пробормотала она, прислонившись спиной к каштановому дереву.
Она еще успела заметить, несмотря на невыносимую усталость, как в помещение вошел другой человек, но не могла уже разомкнуть глаз, и, чувствуя, как они судорожно закатываются, она тут же на месте заснула. В ее теле двигалось, пульсировало что-то живое, растущее. Она хотела сказать об этом Грише – нет, лучше в другой раз!
Гриша с умилением смотрел на внезапно заснувшую женщину. Тевье на цыпочках пробрался по стружкам и сказал шепотом:
– Вот жалость, теперь придется ждать, пока она проснется. Но кто обокрадет спящего, тот более достоин умереть позорной смертью, чем Дефан и Авирон. – И Тевье вполголоса стал объяснять Грише, кто были эти люди.
С платком на голове, с зажатыми в коленях руками, Бабка ровно дышала, подняв лицо к ветвям каштанового дерева, страстно обратив к небу прикрытые веками глаза.
Глава вторая. Офицерский праздникДенщики сбились с ног. Они беспрерывно сновали взад и вперед по лужайке.
Четвертого августа фон Лихов пригласил офицеров своей дивизии – тех, кого можно было собрать, на вечеринку, которой предшествовал обед.
После долгих переговоров генералу удалось выторговать у баварцев на северном оперативном участке тонну пива: темного, сладкого, густого, пенистого пива, сочетавшего в себе терпкость хмеля и добротность ячменя. Настоящий мужской напиток – более ценный и более редкий в эти дни, чем вино, постоянно притекавшее из погребов Северной Франции.
В дивизии отмечали четвертое августа, день вступления в войну Англии, а не второе августа, когда Германия объявила войну России и Франции. Ибо, как заявил, подмигивая, фон Лихов, настоящий «бум» начался тогда, когда на арене появилась Англия.
– Я нисколько не умаляю, – прибавил он добродушно, накладывая кусок желтого сыра на бархатно-черный пумперникель[3]3
Пумперникель – нарезанный ломтиками ржаной хлеб (продается обычно расфасованным в пачки).
[Закрыть], – военной мощи и выучки французов и русских. Это старые воинственные народы, как и мы, пруссаки, – весело бубнил он, удобно откинувшись на спинку большого кресла и обращаясь к генерал-майору фон Геста, артиллерийскому командиру, сидевшему по левую руку от него. – А для воинственных народов война не представляет собой ничего особенного. Выигрываешь одну войну, проигрываешь другую, начинаешь третью. Это не порождает ненависти, я хочу сказать, настоящей ненависти – не на живот, а на смерть. А вот англичане – это уж другой разговор. Они давно перестали быть воинственным народом. Людей, еще сохранивших воинственный дух, они отсылают в колонии, предоставляют им на выбор любую часть света – и баста.
Но если вдруг пощекотать их, пробудить их инстинкты, они сорвутся, как разъяренные бульдоги, и тогда только, держись, тогда дело принимает опасный оборот! Сейчас эту опасность навлекли на себя мы. И поэтому выбор у нас один: добиться цели или подохнуть.
Раз уж войны затевают во времена демократизма, когда всякие там Ганцы и Кунцы хотят, чтобы их всерьез спрашивали, желают ли они помирать, то, чтобы выжать соки из этих молодчиков, война должна стать войной не на жизнь, а на смерть, за самое последнее, за собственную шкуру. Понимаете? А посему выпьем за здоровье Англии, которая побудила нас и продолжает побуждать к мобилизации всех сил, до последней крысы. Второго августа все еще могло обойтись, как в семидесятом году, и лишь четвертого августа дело приняло соответствующий оборот. Прозит, камрад!
Генерал-майор фон Геста улыбнулся и отхлебнул из бокала основательный глоток.
В саду штабной виллы, на лужайках вдоль дорожек, был накрыт бесконечно длинный стол; под углом к нему был поставлен второй, и за этим придатком разместились лейтенанты – в полном составе – во главе с Винфридом.
Два ряда профилей, образующих коричнево-розовый орнамент и возвышающихся над зеленоватыми мундирами и тужурками со стоячими воротниками, узкие цветные ленточки орденов на каждой груди – все это четко рисовалось на фоне голубого неба, словно края какого-то длинного, напоминающего корыто сосуда, дном которого служила белая скатерть со всеми ее тарелками и бокалами, а стенками – живые фигуры сидевших офицеров. Посредине, втиснутые среди молодых, выделялись серо-голубые, как рыбья чешуя, мундиры нескольких австрийцев, длинный череп графа Дубна-Тренксина, австрийского офицера связи при дивизии, возвышался над коротко остриженными или причесанными на пробор головами пруссаков.
За стульями ожидали приказаний денщики, одетые в белую холщовую форму. Они то и дело мчались с пустыми кружками к буфетчикам, искусно нацеживавшим драгоценную влагу, и, балансируя, возвращались опять под деревья.
Орешник, клен, липа, одетые в это время года густой листвой, отбрасывали тень на пирующих. Несмолкаемый гомон постепенно утихал, гости разбились на отдельные группы. Офицеры уже закусывали сыром.
С того момента, как его превосходительство расстегнул верхние пуговицы мундира и ворот, другие тоже перестали стесняться. У всех лбы и затылки лоснились от пота. В закрытом зале жара была бы невыносима, здесь же ветер тихо шевелил листья деревьев, освежая, смягчая зной. У всех было одно желание – сбросить мундиры, остаться в рубашках.
К обеду был мясной суп с клецками из мозгов, плававшими среди глазков жира, затем были поданы огромные озерные щуки, оленина с лесной брусникой и черновато-серые оладьи по-силезски, из сырого картофеля. Теперь, после сыра – аллгаусского и эдамского, – денщики разносили пестрые ящики с сигарами и множеством сигарет.
Гриша со свечами для прикуривания в обеих руках обходил столы. Некоторые офицеры щелкали своими ярко вспыхивавшими зажигалками, они были самых разнообразных форм, но все отчаянно коптили из-за скверного бензина. Какой-то саперный капитан подробно объяснял механизм своей зажигалки, которую он предпочитал всем прочим. Сделанная в виде дамского револьвера, она давала пламя при каждом нажиме курка.
У всех была одна мысль: скорей бы его превосходительство встал из-за стола, чтобы можно было поразмять немного кости, прогуливаясь по вилле Тамжинского, и освободить место для новых порций пива, выпить стоя кофе, который уж, наверно, приготовляют на кухне.
Гриша стоял со свечой за стулом его превосходительства. Генерал внимательно, как все, что он делал, оглядел большую матово-коричневую сигару, марки «Форстенланден», смочил ее губами, осторожно обрезал с одного конца, продул с другого и, наконец, полуобернулся к огню и спокойно закурил.
Гриша с восторгом поднес ему огонь. Но генерал не взглянул на него, он не заметил, кто оказал ему эту услугу. Он опять обратился к соседу, который разглагольствовал на важную тему – о размерах офицерских окладов.
Тост за Англию послужил для фон Геста исходной точкой для длинного рассуждения. Можно ли требовать от офицеров, чтобы они не праздновали этих августовских дней? В конце концов только с этого времени они стали получать приличное содержание. Ведь оклады мирного времени просто курам на смех. А теперь можно и скопить кое-что. У него два сына в армии, третий пал под Ипром.
– Да, – отвечал фон Лихов, – теперь еще можно кое-как жить, а потом, когда народы станут еще более, миролюбивыми, с нами, солдатами, может быть, сыграют такую же штуку, как хитрые китайцы со своими врачами.
Он медленно, наслаждаясь, выпустил дым. Длинные ноздри его тонкого носа расширились от удовольствия.
Фон Геста признал, что недостаточно образован.
– Ну, как же, – продолжал его превосходительство, – я читал, что китайцы хорошо и аккуратно оплачивают своих врачей до той минуты, пока их драгоценное здоровье не начинает ухудшаться; тут уж – конец щедротам пациента, покуда снова молодец не станет резв, как жеребец. – Его превосходительство любил такие штабные рифмы еще с той поры, как был полковником.
– Тем самым они, естественно, побуждают врачей сокращать срок болезни. Вопрос только в том, всегда ли это им удается. Ибо в конце концов, как я уже сказал, люди иногда умирают и в Китае. Что в таких случаях делают там с врачами, я не знаю. Но медики уж всегда найдут с помощью своей науки способ выйти сухими из воды. Ваше здоровье, господин тайный советник!
И он поднял свой бокал, чокаясь с генералом – военным врачом, который, улыбаясь, сидел по его правую руку, олицетворяя собой удельный вес медицины в союзных армиях.
– Смерть уж никого не удивляет, – засмеялся врач, – смертью нас теперь не запугаешь! Когда тебе ежедневно докладывают, что сотни больных отправились на тот свет… – И он вытер щетинистые седые усы, с которыми почти сливалась приставшая к ним густая пивная пена.
В разговор вмешалась, хихикая от удовольствия, четвертая седая голова за этим столом старшего поколения. В глазнице у говорящего прочно замурован монокль.
– Не выдавать нам жалованья, пока не наступит мир! Понимаю, ваше превосходительство. Это похоже на них, на этих гигантов духа, там, в рейхстаге. Да нет, руки коротки! Прежде чем мы выпустим из рук власть – а пока мы еще крепко держим ее, – много воды утечет!
Это был начальник бригады, из штатских, по фамилии Мюллер, пришедший сюда из кавалерии. Наконец-то он получил возможность блеснуть своим аристократизмом – как политический единомышленник генерала.
– Ну, пожалуй, пора и вставать, – произнес его превосходительство, допил свой бокал и поднялся.
«Что-то уж очень внезапно», – растерянно подумал мнительный подполковник. Но так как любезная улыбка хозяина дома относилась, несомненно, к нему, а избавление от вынужденного сидения было приятно всем гостям, то неловкость рассеялась.
Гости встали из-за стола в таком приподнятом настроении, что опрокинули стулья, а некоторые даже задели скатерть не без риска для посуды.
Офицеры расселись группами. Над их головами неподвижно застыло среди куп шелестящих деревьев голубое облако табачного дыма. Денщики бросились к столу, чтобы убрать посуду. Пиво из недопитых стаканов они тотчас же отправляли в глотку, как только оказывались за кустами, за изгородью из жасмина и бирючины, где величественно возвышалась бочка с пивом. Каждый из них по очереди исчезал на кухню, где им разрешали пользоваться остатками еды, лежавшими на переполненных блюдах. Они торопливо ели пальцами, вытирая следы соуса салфетками, и вновь кидались из чада кухни в сад исполнять свои обязанности.
Надо было снова накрыть столы: господа будут пить кофе, ликеры, а потом пиво, может быть, даже шампанское.
Теперь пришла очередь сластей, мелкого печенья, изготовленного наподобие домашнего местными кондитерами.
– Русский, ешь до отвала! – подбодрял Гришу седоголовый Водриг. Блестящие глаза и сияющая физиономия пленного радовали старика. Он сунул ему горсть сигарет в карман куртки. Все денщики, одетые в белую, безукоризненно выстиранную и выглаженную форму, выглядели великолепно. Цейхгауз выдал, ввиду торжественного дня, новую, с иголочки, форму всем, за исключением Гриши. Но и Гриша сменил свою одежду на менее заплатанную, и казался принарядившимся.
Вот он стоит с загорелым, слегка побледневшим лицом, живыми светлыми глазами, благодушно настроенный после выпитого пива, насытившийся объедками изысканных кушаний.
Он отведал и сметанного соуса, и брусники, обглоданных рыбных костей, щучьей ухи с петрушкой, клецок из мясного бульона – ощущения, которых его язык никогда не испытывал ни в плену, ни вообще в прошлой жизни. Он обалдел от присутствия такого большого количества хорошо одетых людей, в глотки которых он не прочь бы в другое время вцепиться сильными пальцами.
Но сегодня он по-своему любит их.
Он ясно, остро ощущает, что подбирает объедки, что и его товарищи, немецкие солдаты, делают то же самое, он чувствует, что стыдно подбирать эти крохи, но понимает, что этот позор – не его позор. Резкими контурами вырисовываются в его мозгу образы.
Стоит ему закрыть глаза, как они оживают перед ним: внизу, на лужайке, беспомощно бегают взад и вперед, словно вслепую, люди в холщовых куртках, подставив руки, а сверху господа, восседающие на стульях за торжественным обедом, бросают им объедки. Хмель непривычного нового напитка – пива – влиял иначе, чем острый привычный хмель водки, и выявил в нем творческие способности, о существовании которых он вовсе не знал.
Вот они восседают за столом, все те, кто швыряет им крохи, и только он, Гриша, чувствует, что позорно бросать людям, словно псам, остатки еды. Может быть, это понимают и другие денщики, его товарищи, соратники. Но они не подают виду. Они пользуются случаем хоть раз избавиться от обычного безвкусного варева; они жадно глотают, облизывают пальцы, вытирают их салфетками, тонкими полотняными салфетками из запасов казино.
Гриша прислоняется к стене кухни. У него слегка кружится голова, он трет себе ладонью лоб, оглядываясь вокруг. Но вскоре могучая радость, яркий инстинкт жизни охватывает все его существо. Хорошо жить на свете, хорошо суетиться здесь, подносить огонь для закуривания или водку всем этим господам, смотреть на эти загорелые лица с резкими чертами лица, светлыми глазами и волосами самых разнообразных оттенков.
А еще прекраснее было бы пинком, ударом приклада так отшвырнуть всех этих молодчиков в сторону, чтобы они, точно яйца, шлепнулись об стену, сломав кости и выворотив мозги, а затем убежать домой, вольным, точно голым человеком!
Они держат его, Гришу, в тюрьме, они крепко его, Гришу, пригвоздили. А там смерть снова гуляет, гранаты бешено рвутся – тысячами в час – от Двинска до тех мест, по которым он маршировал прежде, когда шло наступление на австрийцев. Эх, не осталось ни одного места на земле, где бы люди жили спокойно!
Но примечать нужно многое – надо взять в руки раскаленное перо и обструганную доску от гроба и выжигать на ней все, что случилось с тобою. А пока – все прекрасно, все хорошо…
Вновь раздаются смех и разговоры в большом саду, в парке Тамжинского, где остатки старого леса перемежаются с искусственными насаждениями и лужайками.
Теперь к офицерам присоединились – их пригласили с разбором – сиделки и сестры милосердия.
Появление этих женщин, хотя и плохо одетых, но все же женщин, было как бы своего рода десертом.
С их уст срывалась возбужденная болтовня, раскрасневшиеся лица выступали из воротников синих платьев, похожих на дешевую полосатую обивку для матрацев и скрывавших очертания тела. Прусских графинь не отличить было в этих одеждах от дочерей мелких чиновников: скрипучий голос какой-нибудь старшей сестры с одинаковым успехом мог звучать в комнатушке привратника Пизеке и в замке графа фон Клейнингена.
Молодые офицеры с Винфридом во главе окружили сестру Барб, прислонившуюся к пятнистому стволу платана. Она, смеясь, разговаривала одновременно со всеми и всех держала на почтительном расстоянии, к удовольствию своего друга.
Прогуливаясь под руку с его превосходительством, кивнула им издали сестра Софи. По другую сторону ее шел военный судья Познанский, который, как всегда, появился лишь после обеда.
Софи чувствовала себя хорошо со своими двумя кавалерами. Его превосходительство называл ее «девочка» и говорил ей «ты». Военный судья величал ее графиней и милостивой государыней.
Благодаря им обоим капитаны и обер-лейтенанты, на которых она в последнее время смотрела лишь глазами Бертина, не решались приблизиться к ней.
Ей как раз почудилось, будто возле благоухавших розовых кустов «Ла Франс» мелькнула и вновь исчезла фигура Бертина. Повсюду мерещился ей Бертин; с тех пор как он вернулся из Далема, она целиком отдалась своему чувству.
Он тоже как бы стряхнул с себя оцепенение, в которое его повергало унижение его человеческого достоинства. Встреча с женой неожиданно освободила его, как бы сняла с него оковы, он сделался возлюбленным своей приятельницы; начались свидания в лесу, ночные встречи у него или у нее в комнате; оказалось, что в его сердце одновременно может ужиться любовь к Леоноре и любовь к Софи – по крайней мере до тех пор, пока так резко давала чувствовать себя раздвоенность его существования.
Она, Софи, и не добивалась большего. Впервые за свою девятнадцатилетнюю жизнь она встретилась с нежностью мужчины, который, несмотря на сознание своего превосходства, уважал и охранял ее чувствительную беззащитную натуру. Это чувство превосходства не сочеталось у него с ненужной черствостью, как у ее братьев, родных, лиц ее касты.
Она любила этого юношу. Если не случится чудо, то после заключения мира разразится катастрофа – для нее, конечно. Однако это чудо не так уж невозможно, если та, незнакомая Леонора, как женщина окажется, подобно ему, мужчине, человеком нового содержания и, так сказать, нового типа. Почему бы и нет?
Она сама не признает больше никаких преград. В лазаретах она научилась работать тяжелее и питаться хуже, чем какая-нибудь прислуга. Только к жизни без любви, к жизни среди породистых жеребцов ее душа не могла привыкнуть.
С очаровательным взглядом, как дочь к отцу, она опять обращается к Лихову, повествующему об отчаянной борьбе, которую пришлось вести Бисмарку, чтобы отстоять деревья в канцлерском саду.
– Повторите еще раз, дядюшка Лихов, я вдруг задумалась совсем о другом.
Но тут ей пришлось подвергнуть испытанию свое самообладание, ибо внезапно, за темно-красным буком, возле плакучей ивы, почти волочащей по земле свою зеленую листву, пред ними действительно предстал стоявший навытяжку Бертин. Он попросил на пару слов военного судью.
– Милый, – хотелось крикнуть Софи, но она лишь украдкой, из-под полуопущенных век, поздоровалась с ним, так что только он заметил ее взгляд.
Как он стоит здесь в своем солдатском мундире, такой одинокий, но головой выше всех других! И с тайным чувством счастья, которое давало ей сознание их близости, она прошла с Лиховым дальше, туда, где на полукруглой деревянной скамье, возле обросшего мхом пьедестала с безвкусной статуей фавна, вполголоса разговаривали три офицера, единогласно критиковавшие безумную верденскую операцию: трое мужчин, уединившихся для спокойной и важной беседы и вскочивших, когда они заметили приближение его превосходительства с дамой.
Познанский удивленно посмотрел на Бертина.
– Вы здесь, несмотря на такое обилие начальствующих лиц? Наверно, что-то случилось.








