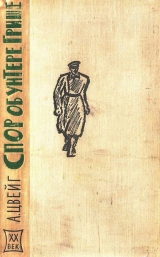
Текст книги "Спор об унтере Грише"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
А ведь с этим делом еще не покончено! Шиффенцан нерешительно признается, что на этот раз ему не удается сразу же переключиться на изучение материалов об Украине. Ему становится понятным, почему первобытные народы верили, что в одном и том же теле уживается множество душ и что одна из этих душ, отделяясь от тела, в состоянии пребывать и в других местах.
Он слышит, как внизу резко гудит автомобиль, увозящий старика на вокзал, слышит, как автомобиль отъезжает. Но душа Лихова как бы по-прежнему стоит возле этого письменного стола. Он, Шиффенцан, не испытывает почему-то чувства упоения властью. Если к концу беседы он стоял в торжествующей позе, широко расставив ноги, то сейчас это настроение испарилось, оно увяло, сникло.
Нет, с этим делом что-то неладно! Шиффенцан чуть не выругал себя. Свинство, что нервы так развинтились. Нужно выспаться. Сегодня праздник реформации, он приглашен попозже на обед к офицерам-саксонцам. Празднество, наверно, затянется, а он уже сейчас чувствует себя усталым, опустошенным. В сердце слабость и пустота, глаза чешутся. Судорожно зевнув несколько раз, он берется за бумаги, лежащие по левую руку, и снова оставляет их.
«Закурить сигару, – думает он. – Итак, он убрался, отважный воин. Перепрыгнуть через тень! Будто это так просто – переть на рожон».
С удивлением он замечает, что вдруг сам тоже стал выражаться по-библейски.
– Черт возьми! – издевается он сам над собой, подымает бутылку, стоящую в ногах кровати, наливает коньяк в рюмку, взятую со стенной полки, и проглатывает жгучий, терпкий, приятный напиток.
Шиффенцан чувствует себя одновременно и измученным и возбужденным. В таком состоянии раздражения, после такой беседы не следовало бы ему еще разглядывать картинку и надпись на внутренней стороне крышки раскрытого сигарного ящика.
Какой-то восторженный фабрикант снабдил эти, впрочем превосходные, бразильские сигары фабричной маркой в коричневых и голубых тонах, с изображением рыцаря в шлеме и в панцире. С закованными в сталь плечами, с суровым взглядом, этот лубочный рыцарь мрачно уставился сквозь забрало в изможденное лицо Шиффенцана. Перед грудью рыцаря торчит крестообразная рукоятка меча, а название сорта сигар – «Возмездие», отпечатанное на всю этикетку крупными готическими буквами, звучит угрозой врагам Германии. Альберт Шиффенцан мгновенно сообразил, на какой эффект бьет эта картинка. Он выбрал сигару и захлопнул ящик, слегка засмеявшись.
«Возмездие»! Превосходное название для бразильских сигар! Затем он обрезал сигару, закурил и, наслаждаясь ее ароматом, стал ходить взад и вперед по комнате. Надпись на ящике в конце концов разозлила его. «Возмездие»! Сигаре полагается называться «Камерун», или «Кронпринц Вильгельм», или, наконец, «Садовая беседка». Это идиотство окопавшихся в тылу «вояк» начинает принимать угрожающие размеры. Какая наглость – совать в руки усталым людям такие ящики!
Итак, старик проследовал дальше в своем поезде. Он не кинулся обратно в Мервинск, о нет!
Открыть окно и подышать! Как свежо и как много навалило снегу, до смешного. Но скорый поезд все же прорвется. Какие заносы, а ведь на дворе всего лишь ноябрь! Ну, снег ли, ветер ли – ведь воюешь не на паркете. Человек справляется с такими вещами.
Надо бы прилечь. Слишком многое надо обдумать. А тут еще по обе стороны стола в воздухе витают, как дым, мысли, высказанные во время разговора, точно еще ожидают окончательного решения. «Человеку свойственно ошибаться», – читал он как-то в хрестоматии, когда учился стенографии. В конце концов и он только человек, но он возведен на такой пост, где ошибки могут повлечь за собой грозные последствия, и не только для данного человека. Может быть, старик заразил его страхом ада? Страхом возмездия! Все в заговоре против него. Но против этого одно лишь средство: надо иметь голову на плечах! Конечно, хорошо бы обладать на некоторых этапах земного бытия сверхчеловеческим предвидением, ибо лишь задним числом решается, что «значительно» и что «маловажно», что влечет за собою последствия и что не влечет. К чему, черт возьми, понадобилось Наполеону, если подойти к этому с точки зрения современности, расстрелять герцога Энгиеннского или под Ватерлоо предположить, что пушечная пальба шла от Груши, в то время как она означала наступление Блюхера и катастрофу.
В человеке всегда найдется уголок, пропитанный зловонием суеверия. Люди не решаются признать (а между тем это так), что те или иные события могут оказать влияние на другие события. Мы почти ничего не знаем. Эти тупицы, словно осы, беспрестанно тычутся в оконное стекло, а тут же рядом большая открытая дверь.
Действия такого человека, как Шиффенцан, думает он, укладываясь на скрипучую походную кровать, предварительно подстелив под ноги газету и вытянувшись во весь рост, действия такого человека носят на себе печать долговечности. Находиться на занимаемом им посту – значит перестать быть случайной отдельной личностью… Правильные решения этой коротко остриженной головы будут оказывать влияние на целые поколения. Радости и горести этих поколений уже и сейчас, словно электрический ток, пробегают по его нервным узлам.
Кроме того, ваше превосходительство, мысленно издевается он над невидимым духом, стоящим за стулом Лихова, там, откуда Лихов бросил на него последний удивленный взгляд, я не нуждаюсь ни в вашем боге, ни в его небесах. Твердое, сильное Я, Шиффенцан, – значительная величина, вот что непреложно! Ведь он, Шиффенцан, тот узел, на котором держится вся сеть.
Заведомо убить человека с помощью правового механизма… Этот вздор и в самом деле стоил того, чтобы старик разразился речью и изрекал грозные словеса, которые падают, как раскаты грома.
Тот, кто посылает дивизии в огонь – правильно, ваше, превосходительство, – уже из практических соображений желает, чтобы большинство солдат вернулось невредимыми обратно. А тот, кто ставит этого русского под прицел, пинком низвергает его в бездну. Вся эта история не стоит и сотой доли поднятой вокруг нее шумихи. К счастью, он, Шиффенцан, волен выбрать то или иное решение. Кивок – и русскому крышка, кивок – и русский останется в живых. А оставить его в живых – значит обрести спокойствие. Просто отдать новый приказ дивизии Лихова: «Упомянутый Бьюшев, – как установлено, вовсе не Бьюшев и не перебежчик, а бежавший из лагеря военнопленный, подсудный обыкновенному суду и подлежащий строгому наказанию». Почему нет? Неужели вся суть в том, чтобы Лихов не оказался прав? Кто он такой, собственно, этот фон Лихов? До чего дошел бы этот старик, если бы он, Шиффенцан, со своим самообладанием, со своей сосредоточенной решимостью сдал хотя бы на один вечер?
Больной от усталости, он поднялся со своего ложа, добрался ощупью, без очков, до письменного стола, снял трубку с телефона и отдал распоряжение фельдфебелю: срочно соединить его с мервинской комендатурой. И добродушным голосом утомленного человека прибавил:
– Но звоните погромче, Матц, может быть, я вздремну ненадолго.
– Все в порядке, – сказал он в полумраке комнаты, зевнув, и снова вытянулся на кровати. Низко спущенная лампа отбрасывала вверх зеленоватый свет, приятно поскрипывал за окном снег. Шиффенцан почувствовал облегчение. Вот удивится Лихов! Ну и пусть. Хоть и не хотелось бы доставить ему этой радости.
Сейчас Шиффенцан казался себе похожим на учителя географии, капитана Аберта из кадетского корпуса. Тот всегда умел вовремя отступать, если отваживался слишком далеко забраться вперед. Важное правило: никогда не отрезать себе путь к отступлению.
В его сознании уже стали путаться сон и действительность. Отступление его высочества, которого нельзя было предотвратить, сливалось с его, Шиффенцаном, собственным отступлением. А вот стоит Аберт и большими, полными упрека глазами, смотрит на Альберта Шиффенцана, который не знает, где находится София. София – горничная, лежала в кровати и смеялась, когда дверь тихонько приоткрылась, громко зазвенев. Но, к счастью, сейчас должен был раздаться звонок. Сию минуту. А затем можно сбежать по лестнице, носиться по двору, дерзить, всегда держа кулаки наготове.
Маленький мальчик, более восприимчивый к познанию мира, чем другие. В его ясной голове предметы отражаются четкими образами. Он нежен, обидчив, понятлив, легко проливает слезы, жмется к матери; он играет в оловянных солдатиков, в его книжке с картинками изображен Фридрих II в длинном детском платьице с барабаном, оба его дяди – лейтенанты запаса.
Так как только офицерский чин придаст ему, сыну мельника, вес в глазах сыновей юнкеров, родители и порешили: Альберт способный малый, Альберт станет офицером. Отдать его в кадетский корпус возможно скорее! И он, насилуя более прозорливую половину своего Я, соглашается, он в восхищении оттого, что уже со столь юных лет станет носить форму: голубой мундир, черные штаны с красными кантами, желтый ворот, желтые, даже белые погоны, блестящие медные пуговицы. С самых ранних лет – настоящий стальной кинжал или по крайней мере пояс, за которым можно вообразить себе этот кинжал. И, таким образом, желания взрослых и тщеславие мальчика берут верх.
Маленький Шиффенцан будет все подыматься и подыматься по лестницам, по бесконечным лестницам. Его будут жестоко избивать, ибо он развитее других, но еще не понимает, почему надо в классе подсказывать, отдавать этим тупым мускулистым бездельникам, норовящим его поколотить, плоды своего ума, своего ясного, гибкого разума.
А чего только они не вытворяют с ним по ночам! Разврат, который в состоянии измыслить только эти тупые лбы, накладывает тяжелый отпечаток на все его существо. И вместе с тем нельзя никого и ничего выдавать, ибо самое страшное будет, если его исключат даже из этой среды и ему придется с позором убраться домой как не сумевшему вынести жестокую, суровую обстановку кадетского корпуса. Ибо трудно поверить тому, что происходит под этими одеялами, во дворах, в закутках чердачных помещений – какой похоти там предаются, каким пыткам подвергают друг друга…
На походной кровати лежит, погруженный в глубокий сон, пожилой, тучный человек. И во сне он видит себя ребенком, маленьким мальчиком в нижней рубашке, – волочащим за собой штаны кадета; и он бежит по лестнице все выше и выше, до того места, где нельзя укрыться, где одни лишь муки и похоть – где не за что ухватиться, где нет перил ни справа, ни слева, и откуда нет возврата назад – где за тобой стоят, хихикая, давно истлевшие товарищи юности и преграждают тебе путь.
Погасшая сигара, зажатая в руке спящего, свисает через край кровати.
Коротко затрещал телефон. Звонок, перемена – послышалось просыпающемуся мальчику. Капитан Аберт, учитель географии, уже не спрашивал его, где лежит София, ибо, поскольку класс решил доконать его, он не смеет уже поднять руку и сказать, что София большой светло-серый, окаймленный красным собор в Константинополе, лежит у Золотого Рога. (Собственно, София лежала в кровати и смеялась, когда дверь открылась и юный Альберт не решался войти.)
Звонок. Перемена. На свете есть и луга, ручьи, в которых можно смыть грязь, тихие заросли в камышах, где можно побыть наконец одному, вдали от той шайки, которой приходится, пока ты слаб, изо всех сил угождать, предоставляя к ее услугам свои знания и способности. И Альберт Шиффенцан лежит на горячем песке, наблюдая игры стрекоз, уносясь мыслями далеко от Лихтерфельде[9]9
Лихтерфельде – предместье Берлина, там был кадетский корпус.
[Закрыть]. Каникулы. Его душа ищет смерти – хорошо, если бы его поглотили теплые, ясные, пронизанные солнцем воды Крумме Ланке, бегущие среди высоких холмов, покрытых березами, дубами, тянущимися ввысь зелеными соснами. Но он умеет плавать, он должен заплыть далеко. С берега ему кивают отец и мать, бегут за ним, подбадривают: сильнее взмахи, глубже голову в волны! И, вместо того чтобы умереть, он получает приз за плавание…
В полутемной комнате осторожно приоткрывается дверь. Фельдфебель Матц, на цыпочках, с листом в руках, почтительно крадется к письменному столу и кладет возле лампы копию той самой телеграммы, которую Шиффенцан приказал отправить еще до своего разговора с Лиховым… На телеграмме – пометка об отсылке, подпись дежурного телеграфиста. Матц растроганно смотрит на спящего.
«И такого человека я стану будить! Я еще не выжил из ума. Он работает с восьми утра. Что же, я по-свински разбужу его только для того, чтобы доложить, что метель оборвала все провода по ту сторону Баклы, что с Мервинском нет никакой связи и что раньше, чем завтра утром или даже завтра вечером, монтеры вряд ли найдут поврежденные места? Дай ему поспать, Матц. Мир не обрушится и Германия не пострадает оттого, что он часом позже узнает об этом».
Матц берет из сигарного ящика две большие бразильские сигары, чтобы вознаградить себя за заботливость. Качая головой, бросив последний восторженный взгляд на спящего, он осторожно закрывает за собою дверь. Альберт Шиффенцан, несмотря на глубокий сон, ощущает какую-то перемену. Вот он шевельнулся, повернулся к стене и вновь перенесся в те времена, когда играл с мотками ниток у гладильной доски матери. Мать в белоснежном фартуке, крепкий, чистый запах только что выглаженных рубах, бельевая корзина со скатертями, салфетками…
– Ветер тихо несет большие белые хлопья, налепляя их на черные стекла. Издалека доносятся свистки. Словно изнемогая в борьбе со снегом, кричит где-то вдали паровоз.
Глава третья. СнегСнежная вьюга над Восточной равниной. Где-то за лесами – центр вращения метели. Вокруг него, словно спицы и обод огромного стеклянного колеса, вихрем проносится над землей рать снежных хлопьев. С визгом и воем падают они на верхушки деревьев, столбы, крыши, на каждый выступ, на широкие, низменные поля, которые жмутся от холода. Сначала мириады хлопьев еще тают, но от их испарений холод усиливается, и через несколько часов над этим талым месивом громоздится твердый, стойкий зимний слой снега. Мир меняет свой облик, становится белым, седым.
Пронзительно завывает и бушует вьюга в лесах между Мервинском и Брест-Литовском.
Снежные хлопья тают в реках, но остаются победителями на суше. В центре этого царства лесов они густо падают на иглистые верхушки деревьев, которые только и ждут того, чтобы одеться в снег. Еще несколько часов – и вьюга отыщет паруса, на которые она сможет ринуться: верхушки сосен. Крепкие, мощные шестидесятилетние сосны превратятся в стонущие мачты. Они будут сопротивляться, гнуться, скрипеть, но все же удержатся на своих корнях.
После хороших месяцев опять надвигается трудное время… В берлогах звери слушают, как шагает зима. Спокойны хомяки и барсуки – у них есть запасы; смелы и неустрашимы лисы – снег не затруднит им охоты; плохо придется в ближайшие недели зайцам с дрожащими ушами. Бесстрашно встречает ледяные ветры рысь со своими подросшими рысятами. Опять застрянут в лесу молодые длинноногие козули – немало и других случаев поживиться. Сгрудившись в ложбинах, в низких просеках, лежат, тесно прижавшись друг к другу, козули. Олень с глазами, омраченными заботой о наступающей зиме, подымает к небу пышущую паром морду и откидывает назад рога.
Наступает зима. Там, на линии фронта, люди в бесчисленных окопах и блиндажах с отчаянием и яростью убеждаются в том, что начинается новая зимняя кампания; они надевают рукавицы на окоченевшие пальцы, подбрасывают дрова в печи и угрюмо шагают по месиву, облепляющему их ноги.
– К рождеству будем дома, – обманывают они себя.
По равнинам и лесам скачет громадными прыжками призрак метели и, простирая руки, силится спутать ветви деревьев и намести повсюду сугробы, горы, громады снега.
От Брест-Литовска тянутся во все стороны черные нити: гибкие провода, заключенные в резину, пропитанные защитной жидкостью, тщательно обмотанные тканью. Лишь слегка прикрытые, они, как тонкие черные нервы, волочатся по земле, по небольшим рвам, или же протянуты на столбах в воздухе. Вдоль каждой железнодорожной линии они идут вместе с телеграфными проводами, прорезая заранее намеченными линиями леса.
Телефонные провода армии проложены над землей, сквозь леса, в верхушках деревьев. Они нанесены на карты и тщательно закреплены во всех тех пунктах, где в этом есть нужда. Летом они постоянно подвергаются проверке, но, чтобы научиться ограждать их от зимней порчи, нужен опыт, за который приходится дорого платить. Метель простирает над лесом свои снежные руки, мало считаясь с черными прорезиненными проводами.
Внезапно на верхушки и ветви деревьев ложатся всей своей тяжестью массы замерзшей влаги, увлекают за собою провода или же, натягивая, как струны, крепко зажимают их в развилинах верхушек; только что провод еще свободно висел, но вдруг сквозные ветры и холод заставляют его сжаться.
Будь провод хотя бы из меди – крепкий, тягучий! Но уже давно пущены в ход при постройке телефонных линий железные провода (только прямой провод его высочества между Митавой и замком в Берлине сделан из чистейшей меди).
Проволока подчиняется законам физики. Провод вытягивается туго, до предела, затем рвется, прорезает воздух и, извиваясь змеей вокруг какого-нибудь сука, запутывается в верхушках берез. Другой конец провода отскакивает назад, на далекое расстояние, застревает где-нибудь и ложится свободными петлями между кустов. Проходит час-другой, и он уже на полметра покрыт снегом. На опушках лесов в течение дня и вечера вырастают снежные сугробы вышиною в метр.
Ветер работает, как штукатур. Он пришлепывает крепкие хлопья к стволам, кустарнику, верхушкам деревьев. Плотная вихревая масса – воздух – одновременно исполняет роль лопатки и замазки. Справа или слева от железнодорожных путей – сообразно направлению ветра – нагромождаются косые снежные дюны, в которых человек увязает до подбородка. В сумерках ветер воет, смеется, свистит.
В домиках из волнистого железа, в бревенчатых крестьянских хатах, в черных, покрытых кровельным толем бараках – всюду расположились участковые монтеры, телеграфисты войсковых частей, аварийные команды. Они разбросаны по всему району.
Завтра с раннего утра их ждет много работы, они сидят и прислушиваются, как хлопают снаружи снежные руки, шумят, стучат, как быстро забивает снегом щели, через которые продувало раньше, – от этого в помещении становится теплей и уютней.
Завтра работа предстоит трудная. Но это забота завтрашнего дня, а сегодня вечером они, собравшись под лампой, играют в скат или спят на своих койках. Надо только еще раз смазать сапоги, покрыть жиром ступни ног и проверить на свету прочность обмоток.
Снег над Мервинском… Город защищен склонами отлогих холмов, он расположен довольно далеко от центра циклона. За ночь город покрывается снегом.
Так начинается зима. Надо запастись дровами, чтобы по крайней мере не замерзнуть. Извозчики – поляки и евреи – приводят в порядок свои санки, маленькие русские санки для езды по городу.
На пустырях вокруг Мервинска, между железнодорожными путями, солдатскими бараками, товарными складами и самим городом, свистит ледяной ветер, наметает сугробы, но это лишь слабое подражание пляске и вою метели в лесах.
На городских улицах люди чувствуют себя уютно, как дома, они с удовлетворением прислушиваются к забавам чертей в воздухе, к их турнирам. На этот раз снег падает и падает без конца. Он начался вчера и уже на добрых полметра покрыл землю.
Что будет с электрическими проводами, пронизанными током от усердно гудящего мотора и динамомашины? Если они выдержат – хорошо. Если они оборвутся, то в служебных помещениях, тюрьмах, бараках воцарится тьма – до тех пор, пока их не починят.
Когда ранним утром, на следующий день после отъезда фон Лихова, из комендатуры пришел приказ не выпускать сегодня из камеры заключенного Бьюшева, дежурный унтер-офицер свистнул сквозь зубы и только сказал:
– Так скоро?
В этот день мрак не хотел уступить свету. Когда команда высыпала во двор для переклички, снег белой периной покрывал землю. Солдат, словно школьников, тянуло поиграть в снежки, но фельдфебель позаботился всех наделить заданиями (надзор за многочисленными отрядами гражданского населения, очищавшего улицы от снега) и тут же, на ходу, не объясняя причин, проронил несколько слов. Гришу в это утро не трогали, он мог храпеть сколько душе угодно.
Он спал спокойно и безмятежно до самого полудня, ибо погода не прояснялась, а караульные и не думали будить его. Будучи, по сравнению с Лиховым, ничтожной пешкой, он, конечно, не знал о том, что произошло в царстве богов, и о том, что его покровитель уехал в отпуск, оставив, правда, вместо себя молодого заместителя и дав ему твердые полномочия по делу Гриши.
Когда в полдень Гриша наконец проснулся голодный и продрогший, но хорошо отоспавшись, ему все же было как-то не по себе. Чувство времени, всегда бодрствующее в человеке, подсказывало ему, что уже давно начался день. Его удивило, что никто не открыл его камеры, что его не звали ни на перекличку, ни к завтраку. Под койкой у него был тайный склад: папиросы, хлеб, хозяйственные мелочи, мелкие деньги.
«Следовало бы сегодня пожарче натопить, – думает он, – страшный холод».
Водку, которую ему дал трактирщик, он, к сожалению, отдал Бабке. Исполненный глубокой веры в своего генерала, Гриша перебирал в уме всевозможные обстоятельства служебного характера, которые могли бы вызвать нарушение обычного распорядка, и меньше всего думал о своей личной судьбе. Он подвинул скамью к окну: снаружи толстый слой снега украсил узкий выступ окна. Снег повсюду.
Гриша рад. Снег – это родина. Снег – это Вологда и маленькие санки, в которых Гриша несется по полю. Снег – это беспредельность. Это то, с чем можно играть, нечто чистое, аппетитное, мягкое, в чем можно валяться, нечто охлаждающее и согревающее в одно и то же время.
Снегопад над Мервинском. Гриша не столько удивлен, сколько восхищен. Дома, в Вологде, уже с третьей декады октября большие снежные метели кружили по давно замерзшим полям, даруя людям возможность пользоваться санями для более быстрого передвижения.
От этого снега, смеялся про себя Гриша, немцам не поздоровится. Он был голоден и закурил папиросу, с удовольствием затягиваясь. Но холод донимал его. Развернув шинель – в скатанном виде она служила ему подушкой, – Гриша натянул ее на себя. «Вот и пригодилась, – удовлетворенно подумал он. – Ну, теперь можно и выждать: что будет дальше?» И в самом деле, ждать пришлось недолго – не успел он докурить папиросу, как в дверь камеры постучал дневальный.
– Русский, – раздался голос, – ты куришь? Смотри, как бы не попасться. Я-то не вижу ничего, а если кто-нибудь подойдет, я скажу тебе.
Гриша был чрезвычайно удивлен.
– Открой же дверь, парень. Что случилось в Мервинске?
– А кто его знает!
– Снег выпал, – говорит Гриша.
– Да, и снег выпал.
– Разве сегодня нет службы? Праздник, что ли, сегодня?
– Да, и праздник тоже, – ворчливо отвечает ему солдат Артур Поланке из Берлина. – Да, и праздник тоже. День реформации. Но что ты смыслишь в этом? Ведь ты почти язычник.
– Как тихо, – говорит Гриша. – Хорошо бы позавтракать.
– Ясное дело, тихо, раз вся команда на работе. Конечно, получить кофе можно, но лучше бы дождаться обеда, осталось менее часа, дружище. Уже почти половина двенадцатого.
– Команда на работе? – удивился Гриша. – Почему же я спал так долго?
Тот, другой, за перегородкой, молчит. Он, наверно, обдумывает ответ, наконец тихо говорит:
– Так и быть, скажу тебе. Старик вчера уехал в отпуск!
– Какой старик? – наивно переспрашивает Гриша. – Бреттшнейдер?
– Да нет же! Он-то тут, и еще как дает себя чувствовать! Твой старик! Лихов. И сразу же последовало распоряжение не выпускать тебя из камеры. А камера твоя летняя, значит, тебе как бы усилили наказание. А ведь ты всего лишь подследственный и нового не натворил ничего. Вот и догадывайся сам, в чем тут дело!
Гриша силится претворить эти слова в привычный для него круг представлений. Затем коротко смеется.
– Что за мерзавцы! Они хотят выместить на мне злобу, пока генерал в отпуску! А потом скажут – ошибка! Или долг службы!
Дневальный, пользуясь тем, что заключенный не видит его, скорчил гримасу, выражавшую большое сомнение.
– Хорошо, что ты так легко все это принимаешь, – брюзжит он. – Теперь я открою твою камеру, ты уберешь ее, а тем временем туда найдет тепло. После обеда все свободны, печку хорошо натопят, и если дежурный не будет придираться, дверь останется открытой, и ты по крайней мере сможешь поболтать с товарищами, да и тепло будет, ясно!
– Спасибо, парень, – говорит Гриша.
И когда на обед прислали сушеную зелень с мясными консервами, Гриша с удовольствием съел полный котелок – да котелок был полнехонек!
И затем Гриша вышел из камеры, которую в самом деле забыли запереть, и перешел в общее помещение команды, где дежурные солдаты только закурили свои трубки. Дневальный ушел с котелками, чтобы помыть их мочалкой в теплой воде.
При входе Гриши одни бегло взглянули на него из-за карт, другие подняли головы, склоненные над начатым письмом или над книгой. И затем каждый вновь вернулся к своему приятному делу, правда, с чуть-чуть подчеркнутой непринужденностью. А Гриша зачерпнул кружкой горячую воду из большого жестяного котла, стоявшего на печке, и собрался, как он это делал всегда, выйти, чтобы выплеснуть остатки из котелка в общую помойную яму, – этими помоями команда выкармливала трех свиней. И так как в Мервинске жил сам Лихов, а значит, солдаты могли рассчитывать, что от этих свиней им достанутся не одни только кости и ребрышки, как это обычно бывает, – то все строго следили за тем, чтобы кухонные отбросы попадали в желудки этих славных животных.
Но у самой двери к Грише подошел ефрейтор Герман Захт и сказал:
– Ладно, русский, вылей помои в твое ведро.
– А свиньи? – улыбаясь, возразил Гриша.
– Миляга, – очень строго сказал ефрейтор, – мне на них наплевать, а тебя они уже и вовсе не касаются. Тебе не полагается выходить во двор. От двух до трех – прогулка во дворе, как для всех, теперь отправляйся на койку.
По этим словам и по той, казалось, беспричинной мертвой тишине, которая воцарилась в комнате во время этого краткого наставления, Гриша понял все. Он был почти спокоен, лишь слегка побелела кожа около рта и глаз; он смотрел на человека, который почти был его другом.
– Теперь ты знаешь, что происходит, – презрительно закончил ефрейтор. Презрение это относилось не к Грише.
– Да, – подтвердил Гриша и слегка откашлялся. – Теперь я знаю.
Он выпрямился и медленным шагом, под взорами всех присутствующих, прошел через комнату и по темному коридору добрался до своей камеры, расположенной справа, у наружной стены. Герман Захт проводил его взглядом, затем вышел за ним вслед.
– Оставь дверь открытой, русский, человеку нужно тепло. А если хочешь курить, то ведь и мы курим, вряд ли найдется нос, который учует, от кого именно несет табаком.
– Спасибо, дружище, – ответил Гриша.
Приблизительно в это время метель со всей силой обрушилась на Мервинск. В камере стояла глубокая тьма. Гриша вытянулся на нарах, подложив руки под голову и покрывшись обоими одеялами. «Зимою стружки в матраце не очень-то греют», – подумал он.
Сначала ветер тонкой струей, холодной и острой, проникал через оконные рамы, словно ножом прорезая облака табачного дыма. Но через несколько минут тот же ветер заклеил все щели, запорошив их снегом. Постепенно воздух над каменным полом камеры стал согреваться.
«Значит, все кончено, – думал Гриша. – Приходится помирать».
Еще несколько минут тому назад он чувствовал себя здесь в безопасности, в надежных руках; а сейчас он, здоровый и цветущий, стоит пред неминуемым концом, пред неотвратимой смертью – словно он уже тычется в стенку гроба.
«Ладно, – думает он, хотя ощущает во рту какой-то горький вкус, идущий из глотки к нёбу. – Если все пропало, то хоть одно хорошо: пришел конец».
Глубокая усталость, ощущение пустоты вдруг разомкнуло его челюсти и разрешилось зевком; выронив трубку из рук, он погрузился в сон, вызванный обильной едой и рано наступившими сумерками, а быть может, и душевным оцепенением.
И подлежащий расстрелу Гриша, и команда, которой, по-видимому, придется его расстрелять, знали, что им предстоит, еще прежде, чем Шиффенцан где-то далеко в Бресте поднял телефонную трубку, чтобы распорядиться о передаче по проводу известного приказа.
Около двух часов Герман Захт прокрался к открытой камере Гриши и, вернувшись, удивленно сообщил дежурному:
– Русский спит. Как ты думаешь, будить его?
– По мне, можно и не будить, – ответил унтер-офицер. – Но служба есть служба, можешь вывести его на прогулку.
– Да, здоровье его надо беречь, – со злобной иронией прибавил Захт, застегивая пряжку пояса.
Но, может быть, он будет рад еще раз увидеть, как падает снег, услышать, как воркуют голуби на голубятне, как шумят воробьи под навесом, а метель так хлещет, что только под навесом и можно подышать воздухом.
– Как ты думаешь, кто его прикончит?
– Конечно, мы, старина! Дружба дружбой, а служба службой.
– Да, – засмеялся Герман Захт, вешая ружье на плечо. – Мы прикончим его теми же ружьями, которые он чистил для нас, не правда ли?
– По крайней мере он будет уверен в том, что получит чистую пулю, – подтвердил унтер, – а мы на память о русском подберем с земли патронные гильзы. Пока опять не выкинем их…
– Пожалуй, надо бы ему поскорей вырыть себе могилу, прежде чем замерзнет земля. Вдвое меньше будет работы.
– А может быть, еще найдется и гроб среди тех, которые он сколачивал с этим щуплым евреем?
– Вот именно, старина, – подтвердил один из близко сидевших солдат, подымая глаза от шахматной доски. – Там в запасе осталось по крайней мере пять гробов – из них два особенно большого размера. В одном из них он наверное уместится.
– Без двух минут два, – свистнул унтер-офицер, взглянув на часы.
– Разбуди его и – приятной прогулки!..
Ветер нагнал под навес массы мелкого снега, тонких кристаллов, ледяных брызг, забиравшихся под самую крышу почти до задней стены. Как маленькие призраки из снежной пыли, взвивались они, кружились, словно дервиши, и, склонившись, испускали свой слабый дух. В углах теснились, чирикая, воробьи. Они искали зерен или сидели, нахохлившись, на стропилах. С голубятни наверху доносилось приятное теплое воркование укрывшихся от непогоды домашних птиц.
– Да, погода и здесь мало подходит для прогулок, – думал Герман Захт, терпеливо шагая возле Гриши, глубоко засунувшего руки в карманы.
Шерстяная землисто-коричневого цвета шинель и два, разных мерок, сапога защищали Гришу от холода. Он шагал из одного конца в другой, вдоль деревянных колонн, отмеряя девяносто три больших мужских шага и вновь поворачивая обратно.







