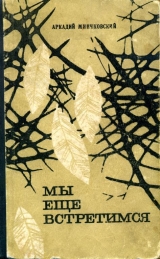
Текст книги "Мы еще встретимся"
Автор книги: Аркадий Минчковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
С пяти лет Лева научился читать. Как-то раз сосед по квартире показал ему несколько букв, и с того дня Лева не давал ему покоя до тех пор, пока не узнал весь алфавит. Он таскал к соседу в комнату газеты и, тыча пальцем в заголовки статей, спрашивал:
– Дядя Миша, а какая это буква?
Через несколько дней, к удивлению матери, он вслух прочел заглавие выкинутого кем-то на кухню журнала:
– «Б-е-г-е-м-о-т»!
И от радости сам засмеялся и захлопал в ладоши.
С тех пор он начал читать. Сперва дядя Миша приносил ему книжки с крупными буквами и яркими рисунками. Лева прочитывал их и моментально запоминал наизусть. Теперь он приставал ко всем, кто только попадался ему в квартире:
– Хочешь, я тебе прочитаю про Мишку?
И, расставив ноги и только для вида заглядывая в книжку, начинал громко декламировать:
Мишка, северный медведь,
Прибыл Питер посмотреть.
На вокзале в первом зале
Гостю завтрак заказали…
Но вскоре к дяде Мише переехала какая-то тетя Лиза. Однажды, когда Лева по-приятельски, как это прежде бывало, не стучась, вбежал в комнату соседа, новая тетя строго посмотрела на него и спросила:
– Что тебе надо, мальчик?
– Дядю Мишу, – сказал Лева.
– Дядя Миша занят. Иди играй! – И выставила его из комнаты.
Лева очутился в коридоре. Дверь за ним закрылась. Лева постоял, поплакал и отправился к себе.
С тех пор дядя Миша больше не приносил ему красивых книжек. Лева сказал об этом матери. Она вздохнула:
– Ничего, вот папа заработает много денег и купит тебе книг еще больше.
Но папа или никак не мог заработать много денег, или забывал покупать Леве новые книги. Когда Лева еще спал, он уходил на работу. Возвращался поздно, гладил Леву по волосам и садился обедать. За обедом он надевал очки и читал газету, которая называлась «вечёрка». Затем он усаживался к окну на низенькую круглую тумбу и прибивал каблуки и подметки к ботинкам, – их приносили чужие люди. Если Лева при этом сильно шумел, мама говорила:
– Тише. Не мешай папе. Он зарабатывает деньги.
Папа часто кашлял. Говорили, что он нездоров. Леве не позволяли вытираться его полотенцем.
Книжки ему все-таки покупали. Но, во-первых, редко, а во-вторых, совсем не такие, как ему хотелось, и он читал все, что попадалось под руку, но не всегда понимал, что там написано.
В школу он пошел с семи лет. В первом классе Леве было почти нечего делать. Он уже умел читать и считать. Учительница хвалила его.
В школе он записался в библиотеку. Никогда он не думал, что на свете может быть столько книг. Во втором и в третьем классе Лева менял их чуть ли не через день. Он читал все свободное время и почти не бывал на улице. Потом у него начала болеть голова. Он рос медленно, был слабым и бледным ребенком. Однажды мать свела его к доктору. Тот долго выстукивал Леву, прикладывал к его груди такое ледяное ухо, что Лева вздрагивал.
– Особенно серьезного ничего нет, – сказал доктор. – Малокровие. Нужно усиленное питание и больше гулять.
С тех пор мама стала кормить его всем, что только могла достать питательного, отбирала у него книги, выпроваживала на улицу. Она прятала от Левы книги в угол нижнего ящика комода. Но Лева знал об этом и помалкивал. Теперь он читал по ночам. Читал в белые ночи, при свете уличного фонаря и даже луны. Так он испортил себе зрение и стал носить очки.
В девять лет он впервые побывал в театре. Повел их туда учитель пения, Анатолий Павлович. Они пришли на Моховую улицу. Анатолий Павлович сказал:
– Это ТЮЗ, Театр юного зрителя. Значит – ваш театр.
Зал в театре был круглый, а скамейки с высокими спинками горой поднимались одна над другой почти до самого потолка. Это было совсем не похоже на кино, куда ходил Лева с отцом. Порядок в зале охраняли мальчики и девочки с синими повязками на рукавах, на которых тоже было написано «ТЮЗ». Когда потух свет и началось представление, выяснилось, что впереди видно все и ничья голова перед тобой не торчит, как это бывало в кино.
Театр удивил и покорил Леву. Шел «Том Сойер». Лева отлично знал эту книгу. Но тут все были живые – и Том, и Гек, и индеец Джо. Они ходили совсем рядом, плыли по реке, дрожали от страха на кладбище. Индеец Джо прыгал из окна судебного зала.
Когда кончился спектакль, не хотелось уходить. Лева бы, наверное, мог сидеть в театре до утра и все смотреть и смотреть…
С того вечера он зачастил на Моховую. Лева с трудом выпрашивал у матери деньги и бежал покупать билет. Он пересмотрел там все спектакли. Иные видел не один раз, и с закрытыми глазами узнавал по голосу полюбившихся актеров. Среди них самым любимым у Левы был Самарин. В «Разбойниках» Шиллера Самарин играл злодея Франца. Ребята ненавидели его, хотели поймать на улице и избить. Но Лева понимал, что Самарин только очень хороший артист и потому такой настоящий Франц. Он играл и другие роли – добрых, хороших людей, и тогда его любили все.
Потом Леву самого избрали делегатом ТЮЗа. Он был счастлив. Теперь он сам, с повязкой на рукаве, стоял внизу, охраняя декорации от стремительно носящихся в антрактах малышей. В дни дежурств Лева приходил пораньше, с интересом вглядывался в лица актеров, которые перед спектаклем иногда пили чай в буфете.
Там он познакомился и подружился с Самариным. Любимый артист однажды сам подозвал Леву к столику, велел сесть и выпить стакан чаю с пирожным. Лева хотел отказаться, но Самарин даже прикрикнул на него, а потом улыбнулся. Не веря такому счастью, Лева сидел и пил чай с самим Самариным.
Позже Лева побывал у него дома. Самарин привел его туда после утренника. Он жил в четвертом этаже, на углу Фонтанки и Невского. Из окон квартиры был виден Невский проспект, Дворец пионеров, сад и даже купол Исаакиевского собора. Не то что из комнаты, где жил Лева, – только скучная облезлая стена да кусок крыши, на которой примостилось множество радиоантенн. Все стены в комнате Самарина были заставлены полками с книгами. Кажется, книг было больше, чем в школьной библиотеке. Они не помещались на полках, лежали на столе, на стульях и даже на полу. Никогда прежде Лева не поверил бы, что у одного человека может быть столько книг. «Неужели же он их все прочитал?» – подумалось Леве.
Самарин усадил Леву на диван с выгнутой деревянной спинкой и спросил, не будет ли Лева протестовать, если он прочтет ему первое действие пьесы, которую пишет для своего театра. Самарин был не только артистом, он еще сочинял пьесы.
Разве мог Лева протестовать?
Артист читал пьесу, а Лева, притихнув, слушал. Самарин читал так, что, закрыв глаза, можно было себе представить, будто пьеса уже идет в театре. А Самарин то и дело отрывался и спрашивал:
– Ну, интересно? Не скучно?
Когда он кончил, стал расспрашивать Леву, что ему понравилось. И Лева только сказал:
– А что же с ними будет дальше?
И Самарин весь засиял, как будто ему было очень важно Левино мнение:
– Значит, интересно. Спасибо.
С тех пор Лева не раз бывал у Самарина. Тот давал ему книги. Лева оборачивал их в бумагу, прочитывал и быстро возвращал. Всякий раз, бывая в кабинете Самарина, он думал о том, сколько же времени нужно человеку, чтобы прочитать все книги, а ведь выходили всё новые и новые.
В седьмом классе Лева Берман написал такое сочинение о Маяковском, что не только прославился на всю школу, но стал известен и в городском отделе народного образования. О сочинении упоминали на учительской конференции. Старая преподавательница литературы Мария Кондратьевна называла его талантом.
А дома жилось нелегко. Отец часто болел, и мать с трудом сводила концы с концами.
После седьмого класса Лева хотел пойти работать, но родители категорически запротестовали.
– Не для того мы бьемся, чтобы ты вырос неучем, – сказал отец.
– Станешь человеком, и мы тогда отдохнем, – заявляла мать.
И Лева торопился учиться. Учился изо всех сил, ненавидя лодырей и нелюбопытных.
С седьмого класса он полюбил стихи и сочинял их во всякое свободное от занятий и чтения книг время. Потом он написал пьесу для ТЮЗа. Она называлась «Но пасаран!», рассказывала о том, как борются с фашистами и умирают герои испанского народа, и казалась Леве прекрасной.
К тому времени он уже реже ходил в ТЮЗ, но с Самариным дружбы не утратил. Волнуясь, Лева отнес пьесу к нему на квартиру и стал ждать ответа.
Он не сомневался в успехе и уже видел себя в полукруглом зале театра смотрящим свою пьесу. Рядом сидели товарищи по школе, а впереди счастливые мама и отец.
Но получилось не так, как ожидал он.
Самарин сказал, что Лева безусловно способный парень, в свое время, наверное, будет писать пьесы, но в пух и прах разругал «Но пасаран!».
Видя, как обескуражило это юного сочинителя, он все же улыбнулся и сказал:
– Спокойствие, милый друг. Драматургия – самая трудная форма. Знаешь ли ты, сколько плохих пьес написал я?
И Лева легко забыл свою неудачу и снова взялся за стихи. К тому времени их уже стали печатать в «Ленинских искрах», и он стал ходить в литературную группу Дворца пионеров, где считался одним из самых даровитых.
В школе Бермана любили. Он обладал мягким, незлобивым характером. С удовольствием помогал другим писать сочинения, а за тех, кому это не давалось совсем, писал сам.
С девятого класса он был членом комсомольского бюро, а также редактировал школьную газету, которую сам назвал «Мы молоды».
Когда в школе появился Ребриков, он сперва не понравился Леве. «Верхогляд и фасон», – подумал про него Лева. Но очень скоро они, к удивлению других, сдружились. Они часто спорили о той или другой книге или кинокартине, но скоро мирились, причем обыкновенно уступал Берман. Ребриков, конечно, не прочел так много книг, как Лева. Это Берман без труда понял. Но быстрая сообразительность Володьки, способность все схватывать на лету восхищали и покоряли Леву, склонного в каждом человеке находить необыкновенное.
Вскоре он уже глядел влюбленными глазами на Ребрикова и не представлял себе жизни без обаятельного и остроумного Володьки.
Началось долгожданное лето, но погода никак не налаживалась. Всю первую половину июня дул холодный балтийский ветер. Ветер смешивался с мелким дождем. Люди ходили в пальто. Женщины не расставались с зонтами.
Приближался выпускной вечер. Он был назначен на субботу.
Юноши явились на него торжественные, немного взволнованные. На всех были галстуки. Даже те, у кого еще ничего не росло, побрили свои подбородки.
Девушки надели нарядные светлые платья и туфли на высоких каблуках.
По коридорам ходили в обнимку. На лестницах десятиклассники впервые открыто курили. Педагоги проходили мимо, ничего не говорили, только укоризненно покачивали головами.
С нескрываемой завистью смотрели на эти вольности те, кому предстояло провести здесь еще один-два года.
В классе рисования, превращенном в буфет, официально продавали пиво. Сюда то и дело затаскивали кого-нибудь из преподавателей, угощали, поднимали граненые стаканы в знак благодарности и с пожеланиями всего хорошего впереди.
Даже самые заядлые, самые «вредные» учителя в этот вечер были просты и доступны.
Забыли прежние обиды, ссоры…
Художница Ольга Леопольдовна, пожилая, в старомодном чеховском пенсне со шнурком и со старомодной прической, та самая, которую называли «Задумано недурно» и на уроках которой больше всего шумели, сказала Володьке:
– Ну, Ребриков, надеюсь лет через пять читать ваше имя на афишах!
Володька покраснел и ответил:
– Спасибо.
Ему вдруг стало не по себе. Ведь он, пожалуй, хуже всех вел себя на занятиях у этой доброй женщины, доводя ее порой чуть не до слез. Ему даже захотелось извиниться сейчас перед ней, попросить прощения, сказать, что это делалось не со зла. Но это было бы глупо, и он промолчал.
После вручения аттестатов был концерт.
Нина играла «Времена года» Чайковского. Она прощалась со школой, в которой прошло ее детство, и, пожалуй, сегодня играла еще лучше, чем когда-либо.
В зале сидели отцы, матери, старшие братья. Они тоже когда-то учились в школе, некоторые в этой же, и Нина хотела своей игрой напомнить им о тех безвозвратно ушедших счастливых днях.
То и дело она украдкой поглядывала в глубину зала на светящуюся полоску дверей. Она ждала того, кого не видела уже год. Сегодня утром, по телефону, он обещал прийти и поздравить ее с окончанием школы.
По просьбе директора на выпускном вечере согласилась выступить и ее мать. С пришедшим вместе с ней актером она играла веселую комедийную сценку. В зале громко смеялись и дружно аплодировали.
Когда выступала Нелли Ивановна, Нина сидела в третьем ряду. Невольно она оборачивалась на дверь и боялась, что сейчас может произойти свидание, о котором не подозревают ни мать, ни отец.
Но встреча не состоялась. Латуниц не пришел.
После концерта были танцы. Стулья отодвинули к стенам. Возле эстрады, раскинув холщовые пюпитры, разместился духовой оркестр подшефной воинской части. Оркестр играл громкие марши, нежные вальсы, лихие мазурки. Трубные звуки и глухое уханье барабана рвались на улицу, и прохожие останавливались, поднимали головы и улыбались.
Ребриков не танцевал. Он вообще считал, что танцы – занятие пустое. Он гулял по коридорам, много курил, – больше для вида, чем по необходимости. Подтрунивал над Чернецовым, который ни на шаг не отходил от Майи Плят, над Рокотовым, который бродил по школьным коридорам, дожевывая бутерброды с ветчиной.
Проходя мимо буфета, Володька видел, что компания девушек обступила свою любимицу Марию Кондратьевну и та, в порыве старушечьей откровенности, шутливо предсказывала им будущее.
Девушки слушали взволнованно, с замиранием сердца.
– Ну а я? – спросила, порозовев, Нина.
– Вы? – ответила Мария Кондратьевна, внимательно на нее посмотрев сквозь очки. – О, у вас большое и интересное будущее, но придете вы к нему не сразу!
Еще более смутившись, Нина не знала, что ей ответить, а Ребриков саркастически улыбнулся, хотел по привычке съязвить, но раздумал и решил не ввязываться.
В перерыве между танцами работала «почта». Неожиданно Володька получил записку: «Ребриков, я желала бы с тобой учиться еще пять лет. X». Володька стал рассматривать почерк, но понять ничего не мог. Написано было печатными буквами. Ребриков решил, что это чья-то шутка. Но все же ему было приятно, и он спрятал записку в боковой карман.
Вскоре Володьку отыскал Лева Берман.
– Пойдем, – сказал Лева, – есть важное дело…
Он повел его наверх, на четвертый этаж. В коридоре уже горел кем-то зажженный свет. Возле кабинета физики стояла группа выпускников.
Когда Ребриков приблизился, Рокотов свистнул, все мгновенно разбежались, и в коридоре стало пусто. Напротив Володьки оказалась лишь одна растерявшаяся Нина Долинина.
В первый момент он подумал, что все это происходит по ее желанию. Он обрадовался и, мгновенно забыв раздоры, шагнул к Нине.
Но она вдруг рванулась вперед, хотела уйти, потом остановилась, повернулась к Володьке и резко, отчетливо сказала:
– Слушай, Ребриков, можно, чтобы я вообще тебя больше не видела?
Тогда Володька понял: она думала, что все это подстроил он сам. И впервые не нашелся, и только, приняв независимый вид, бросил:
– Можно, пожалуйста, это сколько угодно.
Вскоре друзья заметили, что Володька внезапно исчез с вечера.
Затем не стало и Нины. Она пожаловалась на головную боль, но на предложение Бермана проводить ее сказала:
– Не надо. Сама дойду.
Постепенно разошлись все.
На улице было уже совершенно светло. Гремели редкие запоздалые трамваи. Словно вымершие, глядели окнами в бледное небо громады домов. Притихший город спал.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1Володька жил за шкафами.
Огромный резной буфет и два книжных шкафа отгораживали угол, где находилась его койка.
Уже много лет Володька мечтал жить в отдельной комнате. У брата была такая за стеной. Там стояло старое пианино и помятая низкая тахта. На полу валялась изрядно таки потертая медвежья шкура. Там была тишина, покой, возможность предаваться собственным мыслям, а здесь, за шкафами, каждое утро Володька слышал, как отец звенел ложечкой, мешая кофе в стакане, шелестел газетой и с удивительным упорством слушал при этом гимнастику по радио.
Вот и сегодня Володька проснулся от звуков шаркающих по полу шлепанцев Владимира Львовича и громкого сообщения диктора о том, что какая-то радиопостановка отменяется.
Быстро вскочив, Володька стал одеваться. Он вдруг подумал: «А ведь со школой покончено». Это было странно и непривычно. Когда проходил мимо кухни, Елена Андреевна, которая у плиты пекла лепешки, сообщила, что Берман звонил уже два раза.
Вытираясь, Володька услышал, как в столовой громко сказали: «В двенадцать часов слушайте правительственное сообщение…»
Он быстро повесил полотенце, причесался, отправился завтракать.
Когда вошел в столовую, в сборе была уже вся семья. Пришла из кухни Аннушка. Она держала в руках огромный кухонный нож и выжидающе смотрела на приемник.
Часы по радио отбивали последние удары. Владимир Львович снимал и снова надевал свои большие роговые очки. Все напряженно молчали.
«Граждане и гражданки Советского Союза… – послышался взволнованный голос. – Сегодня около пяти часов утра…»
Владимир Львович снял очки.
Володька видел, как побледнел Андрей, а Аннушка вдруг прислонилась спиной к стене, и глаза ее стали стеклянными.
– Опять, значит, война пришла… – сказала она.
Когда отзвучали последние слова правительственного сообщения, никто не двинулся с места. Было слышно, как забурлил в кухне чайник, но никто не пошел снять его с огня. Наконец Владимир Львович надел очки и сказал:
– Ну что же, этого следовало ожидать.
Он отправился к себе в комнату и принес оттуда карту Европы.
Андрей старался казаться очень спокойным. Он даже пытался улыбнуться.
– Настало время отличаться, – сказал он.
Аннушка ушла в кухню. Елена Андреевна всхлипнула и принялась вытирать слезы.
– Ну что ты? – сказал Владимир Львович, пытаясь ее успокоить. – По-моему, для слез еще никаких причин нет.
Он подошел к жене и стал осторожно гладить ее седеющие мягкие волосы.
– Вот и всё, вот и всё… – сказала Елена Андреевна. – Бедные дети.
Потом она успокоилась, вытерла глаза, позвала всех к столу.
Аннушка принесла кофе, но к нему долго никто не прикасался. Бутерброды с колбасой оставались нетронутыми.
После завтрака Владимир Львович куда-то ушел. Видимо, он хотел остаться один, как всегда бывало в минуты серьезных жизненных испытаний.
Володька позвонил Берману. Тот, оказалось, уже снимал трубку, чтобы звонить Ребрикову.
– Жди. Сейчас буду. Всё обдумаем, – сказал Володька.
Как все изменилось вокруг!
Казалось, все было таким же. Так же позванивали на поворотах и визжа тормозили трамваи. Так же взмахивал рукой, направляя, транспорт, регулировщик на перекрестке. Так же, как и всегда, пенистым пивом торговали в киоске за углом. По-прежнему мальчишки прицеплялись сзади к троллейбусу. Но все, все уже было иным. И троллейбус, и затянутые парусиной витрины продовольственных магазинов, и знакомый черноусый старик чистильщик на углу. Словно Ребриков никогда раньше не замечал всего этого, а теперь внезапно увидел, полюбил и понял, что не мог бы и дня прожить без того, что давно сделалось близким и родным.
Никогда он не считал, сколько домов нужно миновать от угла Невского до Левиного дома, а сегодня выяснил. Оказывается, тринадцать. Никогда не обращал внимания на то, что деревья на набережной Фонтанки подстрижены ровным четырехугольником, а сейчас смотрел на них и любовался. И зеленая вода сегодня ему была особенно мила.
Двери Володьке открыл сам Лева.
– Почему так долго?
Против ожидания, Лева был совершенно таким же, как всегда. Ребрикову на миг даже подумалось, что, может быть, он еще ничего не знает. Но товарищ сразу рассеял его сомнения.
– Как интересно, – сказал он. – Ведь только позавчера мы с тобой говорили, и вот…
– Да, – кивнул Ребриков. – Здо́рово мы вчера встречали войну.
Берман провел друга в комнату. Здесь все было как обычно. Покрытый клеенкой стол посредине, и Левины книги на полках, окнах и даже на полу.
Но сидеть дома сегодня было невозможно.
– Идем, найдем наших, – предложил Берман.
Из кухни с кастрюлькой в руках пришла мать Левы.
– Здравствуй, Володя, – сказала она, как-то особенно внимательно глядя на Ребрикова.
– Приветствую, Софья Осиповна. – Володька старался сделать такой вид, будто ничего особенного не случилось.
Но на Левину мать не произвела впечатления его нарочитая бодрость.
– Какой ужас, какой ужас… – вздыхала она. – Как вы думаете, это надолго? Наша соседка говорит, что мы их скоро победим.
– Судя по книге «Первый удар», в сорок восемь часов, – мягко улыбнулся Лева. Но его матери было не до шуток.
– А как вы думаете, Леву возьмут? – продолжала она.
Володька знал, что Лева будет освобожден по здоровью, но говорить при нем об этом было бы бестактно. Однако и Левину мать пугать не следовало, и Ребриков решил отшутиться.
– От него потребуется только стратегическое руководство, – сказал он.
– Пошли, дипломат, – Лева потянул Володьку за рукав.
На углу Фонтанки и Невского, напротив дома, в котором жил Самарин, на них налетел Рокотов. Он был возбужден.
– Ну вот, пришел моментик! Ох и дадим же мы им!.. – И он потряс своим огромным кулачищем.
– Наш Ракушка всегда был образцовым оптимистом, – сказал Лева.
– Пойдем, герой-романтик! – Ребриков стукнул Рокотова по спине.
Все вместе отправились к Чернецову, ко дома его не застали. Им сказали, что Сергей с утра ушел разыскивать друзей. Тогда позвонили Молчанову, потом Майе. Но дома никто не сидел.
– Идемте на Неву, – предложил Лева.
– Почему на Неву?
– Там всегда приходят какие-то мысли.
Спорить не стали. На Неву так на Неву… Несколько часов, всё чего-то ожидая, ребята бродили по городу. Шли на редкость переполненные трамваи. На площадках ехали люди с тюками и корзинами. Наиболее дальновидные дачники уже возвращались домой. Куда-то спешили мужчины с рюкзаками и чемоданчиками. Их провожали женщины, столь потрясенные вдруг свалившимся на них горем, что не могли плакать.
И снова бродили по городу, никак не желая расставаться, снова звонили по телефону и в конце концов отыскали Чернецова.
– Сейчас будет здесь, – сказал Володька. – Ноги длиннее Ракушкиных.
Сергей, действительно, не заставил себя ждать. Через десять минут он уже присоединился к компании:
– Молодцы, что нашли. С ума без вас схожу один.
– Так ли уж один? – улыбнулся Лева.
– Маленькая, но семья, – сказал Ребриков.
Чернецов не обижался. Казалось, сегодня ему было даже приятно это беззлобное подтрунивание приятелей.
– Ребята, давайте потребуем, чтобы все вместе? – предложил Рокотов.
– Так тебя и спросили. Вызовут по повестке и пошлют куда нужно.
– А мы добровольно, сами…
– И верно, попробуем попроситься, – кивнул Чернецов. – А вдруг согласятся?
Берман промолчал. Слишком мало было надежды на то, что его возьмут вместе с товарищами.
Вечером всей компанией пошли в Сад отдыха. Народу было больше обычного. По узким дорожкам, как всегда, одна за другой, бродили пары. Но девушки сегодня будто теснее прижимались к молодым людям, тише смеялись. Словно боялись, что это последний вечер, когда они вместе. Совсем мало в саду попадалось военных. В эту ночь впервые не зажигались фонари на аллеях, но ночь была такой светлой, что о фонарях никто и не вспомнил.
Покидали сад, когда уже окончилось эстрадное представление. Возле служебного входа на сцену толпились освободившиеся актеры. Среди них Ребриков увидел певицу Валентину Валянскую. Он хотел пройти мимо, но она узнала его и устремилась навстречу.
– Здравствуйте, как Андрей Владимирович? Как вы? Что же, ведь, наверное, забирают, милый вы мой?!
Она была так взволнована и так желала услышать что-то значительное, что Ребриков, сам не зная почему, ответил:
– Да, ухожу.
Певица тут же сунула кому-то нарядный чемоданчик, обняла Володьку и поцеловала его:
– Желаю, желаю вам… Все будет хорошо! Верьте, вернетесь героем. Я знаю…
С трудом Володька вырвался из ее объятий. Он был пунцово-красным. Ну и угораздило же его ляпнуть! Однако оказалось, сцена эта никого не удивила, и только стоявшие поодаль друзья не скрывали улыбок.
– На фронт проводила, – смущенно пожав плечами, объяснил Ребриков.
Расставаться не хотелось. Подсчитав все ресурсы, зашли в ресторанчик на Невском. Потягивая пиво сидели там до самого закрытия. Будто не надеялись быть рядом завтра. На эстраде по-обычному играл джаз. Он играл то же, что играл каждый день. Но незамысловатые мотивы сегодня казались удивительно задумчивыми и ласковыми.
– Давайте, мальчики, за тех, кто бьется там! – крикнул кто-то, поднявшись за соседним столом.
Юноши как-то смешались, порозовев, поднялись со своих мест.
– Ничего, – сказал тот же голос. – Нам тоже скоро придется.
Было уже около трех часов, когда всей компанией вышли из ресторана. Ни облачка не было на небе одной из самых коротких ночей северного лета. Вдали на клотике адмиралтейского шпиля уже засветился кораблик. Заря предвещала погожий день. Прекрасный проспект гляделся во всю свою стройную светлую даль. И вдруг, нарушая утреннюю тишину, сразу с нескольких сторон взвыли сирены. Надрывный резкий звук повис над пустыми улицами. Все, кто был в этот час на Невском, побежали в разные стороны. Каждому почему-то непременно хотелось добежать до своего дома.
Не сговариваясь, побежали и бывшие десятиклассники. В общем, они все жили рядом и теперь неслись в одну сторону. Очень скоро вся компания была уже возле ворот дома, где жил Берман.
Здесь передохнули, поглядели в глаза друг другу и рассмеялись: почему, собственно, они так бежали? На небе не было видно вражеских самолетов, и взрывов бомб тоже никто не слышал. Не очень-то они, видно, оказались большими храбрецами. Но ведь и тревога для них была первой!
И, пожав друг другу руки, друзья разошлись по домам.








