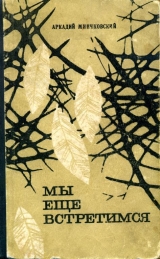
Текст книги "Мы еще встретимся"
Автор книги: Аркадий Минчковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1Только в ноябре, незадолго до праздника, дивизию отвели в тыл.
Изнуряюще жаркое лето, сухая, душная осень сменились внезапно ударившими морозами. В эти дни поредевшие батальоны переправились через студеную Волгу, южнее осажденного города, куда на фланг сражения откатилась дивизия, прошли на север мимо сгоревших железнодорожных станций, мимо продырявленных черных водокачек, мимо валявшихся на боку разбитых составов, которые дугой обходили поезда, мимо поблекших пирамидок солдатских степных могил, мимо землянок, в которых теперь сидели железнодорожники, неся свою тыловую – страшнее всякого фронта – службу.
Перед тем, примерно за месяц, неожиданно резко изменилось положение лейтенанта Ребрикова в дивизии.
Началось это в степях около станции Воропоново, когда Ребриков с двумя десятками бойцов почти трое суток сдерживал батальон ошалевшего от неудач врага. Сдерживал, отбиваясь всем, чем мог, сдерживал, хотя в роте остались Клепалкин да еще несколько ребят. Сдерживал, когда уже начали отходить соседи справа и слева. Сдерживал, осыпанный землей, оглохший от разрывов снарядов, до тех пор, пока вторично не получил приказа отходить. А когда отошел, то в ненадолго наступившей тишине ощупал себя, удивился, что остался невредим, и вдруг обрадовался, и понял, что в эти страшные дни стал настоящим солдатом, для которого нет слова «страх». А немцам, часто отчаянным и порой наглым, никогда не осилить таких, как Клепалкин, которые знают, за что они стоят, как тот бровастый петеэровец, который, умирая, жалел, что не увидит, как немец будет обратно через Дон драпать.
Вот в те самые дни и вызвал Ребрикова к себе комдив. Стоял он, высокий и стройный в своей длинной шинели, возле машины и напоминал собой полководца гражданской войны, каких раньше случалось видеть Ребрикову на картинах. Внимательно и молча, как всегда испытующе, смотрел он на приближавшегося к нему исхудалого лейтенанта. А когда Ребриков, вытянувшись, доложил о прибытии, отдал ему приветствие и, еще раз оглядев, сказал:
– Вот что, лейтенант, сдашь роту и пойдешь ко мне в адъютанты. – И, увидев в глазах Ребрикова недоумение, продолжал: – Только не думай – адъютант у меня – первый помощник, так что… Сам знаешь, раньше у меня его не было.
С тех пор Ребриков не расставался с полковником.
Вместе лазали, высматривая, что делается у немцев. Вместе не спали ночами в сырых землянках и осыпавшихся от сотрясения глинобитных хатках, вместе уходили от вражеских пуль в волжских песках.
Не сразу понял, не сразу распознал комдива Ребриков. А уж когда понял и узнал – полюбил его крепкой мужской любовью.
Удивительным, необычайным, порой ставящим в тупик человеком был комдив.
Когда налетали немецкие бомбардировщики или шел интенсивный обстрел боевых порядков дивизии, когда решался вопрос, выдержат или погибнут части, полковник проявлял поразительное спокойствие. Он так отдавал приказания, словно дело шло о чем-то обычном, само по себе разумеющемся. Нет, он и минуты не рисовался. Это у Латуница получалось совершенно естественно, словно был он хладнокровнейшим человеком на свете. А вот во время затишья, бывало, всякая небрежность, расхлябанность приводили его в бешенство.
Если полковник разносил кого-нибудь из подчиненных, он не стеснялся в выражениях. Был прям и несдержан. Бледные, с выступившим на лбу потом, выскакивали от него командиры. Не оглядываясь, не обращая внимания на приветствия, проносились мимо часового, что охранял комбрига. Вбежав в отдел или подразделение, залпом выпивали кружку воды и облегченно вздыхали: «Ну, гонял!..»
Особенно тяжело Латуниц переносил глупость. Стоило ему только убедиться, что перед ним человек бездарный, лишенный способности по-своему мыслить, полковник сразу же начинал с таким скучать. Был он с глупцами вежлив, никогда не выходил из себя, но не мог с собою совладать и при первом удобном случае старался от них отделаться.
Зато как же он заступался-за любого из «своих» – за бойца или командира, за тех, в кого верил, с кем стоял насмерть и собирался побеждать. Пусть и оступится человек, пусть и оплошает порой, Латуниц не станет его щадить, попадись тот ему на глаза, но, воздав должное, потом при случае увидев, почти ласково спросит: «Ну, как? Понял теперь? Слышал, действуешь правильно».
И не было, пожалуй, в дивизии бойца или командира, который за жаркие дни степных боев не узнал эти удивительные черты характера комбрига, а узнав их, не проникся чувством уверенности в то, что комбриг не подведет и не даст в обиду ни в бою, ни в редкий час отдыха.
Отойдя на переформирование, дивизия раскинулась по степным деревням Заволжья.
Пришла внезапная странная тишина. Даже беспрестанный гул орудий с берегов Волги не доносился сюда.
Дивизия вновь принимала пополнение.
Каждый день прибывали маршевые роты. Сотни бойцов в посеребренных инеем новых топорщившихся шинелях, без винтовок, с опустевшими за дни переходов мешками за плечами приплясывали на пустынных улицах поселка. Новые тупоносые ботинки еще скрипели на их ногах, давили тяжелыми каблуками мерзлую дорогу. Потом, разбившись взводами и группами, бойцы шли в разные стороны и исчезали в степи, разбредясь по частям бригады, которые притаились в редких в этих местах поселках.
По утрам Ребриков с комдивом ездили в полки. Полковник наблюдал, как идет ученье вновь прибывших, необстрелянных рот.
Возвращаясь в сумерках, обедали уже при свете керосиновой лампы.
Жили в домике в двух небольших комнатках. В одной стоял какой-то дедовской формы деревянный диван и подобие канцелярского стола. На столе телефоны, на стене карта. Это и был кабинет комдива. Помещение, столь неприглядное на первый взгляд, казалось им теперь, после сыпучих землянок, отличнейшим из домов на свете.
Потом, до поздней ночи, комдив принимал командиров. То говорил тихо и спокойно, то слышались в его голосе недовольство и гнев.
Поздно ночью штаб засыпал. Только из оперативного отдела доносился приглушенный стук машинки. На фоне ночного неба чуть темнели тени часовых. Спали усталые солдаты и их командиры. Давным-давно спали стесненные жители поселка. Но не спалось комдиву. По-прежнему вышагивал он по комнате, останавливался у карты, о чем-то думал и снова начинал ходить. Потом вызывал из соседней комнаты Ребрикова, говорил:
– Ложись спать, адъютант. – И, если Ребриков пытался что-то возразить, добавлял: – Приказываю. Понятно?
И снова, оставшись один, принимался ходить по комнате.
Еще шли тяжелые бои на правом берегу Волги. Еще, напрягая последние силы, немцы рвались к реке, – сквозь городские руины. Еще героически сопротивляясь, цепляясь за каждый уцелевший угол дома, сдерживали одуревшего от злобы врага измученные защитники города, но уже какое-то новое чувство владело всеми. Люди знали: дальше враг не пройдет! Скорее чувствовали, чем понимали разумом, – скоро начнется жестокий час расплаты. Знали и верили – будет и на нашей улице праздник.
И вот холодной ноябрьской ночью перебралась на баржах и пароходиках через студеную Волгу пополненная, отлично вооруженная дивизия, развернулась в боевом порядке и, прорвав ослабевшую оборону противника на фланге, быстро пошла на северо-запад.
Что это были за незабываемые, счастливые дни для Ребрикова! По придонской заснеженной степи гуляла свирепая метель. Не только что деревень, – отдельных строений не встречалось здесь долгие километры. По пути там и тут, уже занесенные снегом, попадались неизвестно чьи и когда брошенные танки, печально торчали давно всеми покинутые маленькие железнодорожные станции с обгоревшими, развороченными составами, со срезанными снарядами башнями водокачек.
Люди шли и шли вперед, не замечая мороза, не чувствуя метели и благодаря ей, ибо она сделалась союзницей наступающих. Немецкая авиация была скована и бездействовала. Враг не мог вести даже наблюдения над охватывающими его частями. По двадцать пять – тридцать километров в сутки проходили бойцы за танками, не зная усталости, лишь горя одним желаньем: скорей, скорей!.. Вот и еще одна деревушка. Пусть снесенная наполовину, но наша, родная, освобожденная. И когда достигли наконец памятного многим, скованного льдом Дона, только здесь с удивлением услышали, что в холодных степях заключили в кольцо огромную немецкую армию.
И когда узнали, сперва не поверили, а потом заплакали от радости старые бойцы дивизии – те, кто перелесками уходили от врага на восток, кто на плотах и яликах переплывали Дон, те, кто прощались в степях с товарищами, те, кто видели, как пламенем горел над Волгой город, и в бессилии сжимали холодные кожухи автоматов.
Нет, никогда не забыть Ребрикову горького запаха полыни в землянках, прохладного ветерка с быстротекущего Дона, запаха степи – смеси приторного аромата цветов, испарений высыхающей земли – и солдатского пота. Не забыть ему предвечерних закатов, красной пыли дорог отступления и студеных ночей.
Вот и снова он был в местах, где становился солдатом. И снова носился Ребриков с комдивом по частям на маленькой машине, и озорным мальчишеским блеском горели в эти дни черные глаза Латуница. Вот оно и пришло, началось, – дивизия наступала!
Однажды они встретили на дороге толпу в сотни два невесть куда бредущих румынских солдат. Темнолицые, с отросшими черными бородами, в высоких меховых шапках и длиннополых, цвета грязной травы, шинелях, они, сбившись в бесформенную людскую массу, брели на восток. Впереди катился маленький толстый офицер. В руке он держал какую-то бумажку. Еще издали офицер замахал бумажкой. Латуниц велел остановить машину. Офицер подбежал к нему, смешно отдавая честь, и, не то от страха, не то от нетерпенья, заикаясь, забормотал, суя полковнику бумажку:
– Домнуле колонел… домнуле колонел…
Комдив взял бумажку. На ней русскими печатными буквами было написано: «Где есть плен?».
Полковник высунулся из машины и показал рукой вдоль дороги на восток:
– Фюнф километр…
Комдив вернул офицеру бумажку, тот подобострастно раскланялся и побежал к своим солдатам, а Латуниц откинулся на спинку сиденья и расхохотался.
– Подальше будет, – сказал он. – Но я это им для бодрости, чтобы резвей в плен шагали.
А Ребриков подумал, что никогда еще не видел полковника таким веселым.
Шли бои за Цимлянскую, за Котельниково. Дивизия сдерживала с запада гитлеровские части, которые были брошены на выручку окруженной армии. И опять не спал Ребриков вместе с полковником по ночам. А утром с начальником штаба Латуниц склонялся над исчерченными, измятыми картами и задумчиво тер свою бритую голову. А придумав какой-нибудь неожиданный смелый маневр или обход, улыбался и подмигивал адъютанту.
И снова был отброшен враг. Дивизия минула Сальск и вышла к станице Богаевской. Армия готовилась к боям за Ростов и Новочеркасск.
Новый год встречали невдалеке от Котельникова.
Тесно уселись штабные за сдвинутые канцелярские столы в полуразбитом помещении какой-то заготовительной конторы. Уставленные консервными банками и бутылками, тарелками с нарезанным салом и тощими солеными огурцами столы казались праздничными. Соорудили даже небольшую елку. На верхушке ее была приколота звезда из фольги. На ветвях, привязанные за нитки, покачивались карамельки, спичечные коробки́ и большие бумажные снежинки.
Володька вспомнил, как год назад отмечали они этот праздник в плохо натопленном зале военного городка. Был вечер. Курсантский хор пел «Священную войну», и кто-то из ребят смешно изображал бравого Швейка. Они с Ковалевским и Томилевичем тайно распили где-то добытую бутылку портвейна. В те дни ждали выпуска. Как же давно это было! Неужели прошел всего один год?! Казалось, Володька прожил десятилетие. Да, тогда радовались десанту в Керчи, а теперь за спиной была окруженная, обреченная на гибель фашистская армия.
В кармане у Ребрикова лежала листовка. Новогоднее приветствие воинам их фронта. Ребриков вынул листовку и с улыбкой начал просматривать. Интересная была штука. На обложке боец в каске, прорвав календарный листок, устремлялся с автоматом на гитлеровцев.
«Бьет двенадцатый час!» было написано на другой странице, и шли стихи:
Не в залах дворцов возле елок зажженных,
Не в пляске веселой кружась, —
В морозных окопах, в полях заснеженных
Мы встретим двенадцатый час.
«Оглянись, воин, – говорилось дальше в листовке. – Миллионы глаз глядят на тебя с восторгом издалека, миллионы сердец бьются в лад с твоей поступью, воин!
Великое русское спасибо говорит тебе Родина-мать.
Слава тебе!»
Поднялся комдив. В руке он держал наполовину наполненную водкой стопку.
– Предлагаю за знамя дивизии в Ростове! – сказал он.
Тост понравился, и вина не осталось в стаканах.
Но не успел комдив опуститься на место, как вскочил комиссар дивизии, который по-новому назывался уже заместителем командира. Старик широко улыбался, отчего на его тщательно выбритом лице стало в два раза больше морщин.
– Предлагаю поправку к словам командира, – заявил он. – Желаю выпить за водружение дивизионного знамени в Берлине!
Ему захлопали. Далеко было до Берлина от небольшой придонской станицы. Никто не знал, дойдет ли он до немецкой столицы, но думать, мечтать об этом великом дне хотелось каждому. И верилось: будет, будет… Настанет и такой день!
Затем поднимались еще тосты. Начался праздничный шум.
А Ребриков еще вспоминал, как встречали Новый год у Вали Логиновой, как беспечно веселились и как выдумывали друг про друга всякие небылицы. Где же теперь были ребята? Кто оставался в Ленинграде? Именно с того дня и началась их нелепая ссора с Долининой, и он сам был тому виной. Дурак, как он теперь себя ругал за это.
И неожиданно ему захотелось поделиться своими воспоминаниями с соседом по столу капитаном Кретовым. Он повернулся к нему и сказал:
– Знаешь, у меня была девушка в Ленинграде. Если бы ты видел… Ниной зовут. Замечательная!
Кретов как-то задумчиво улыбнулся, кивнул своей лысеющей головой. Потом достал из кармана кожаную книжечку, вынул из нее небольшую фотографию и протянул Ребрикову. С потрескавшейся по углам карточки на Володьку смотрела совсем еще молодая женщина с темными, гладко зачесанными волосами.
– Жена, – сказал капитан. – Снималась перед самой войной. Я тебе не показывал?
Ребриков помотал головой.
– А у тебя фото твоей девушки есть? – осторожно спросил Кретов.
Ребриков поставил стопку.
– Нету, – снова помотал он головой и добавил: – Пропали у меня карточки.
Это была чистейшая выдумка. Не было у него карточки Нины Долининой, и вообще никакой карточки не было. Просто он похвастал, чтобы не казаться хуже других.
Возвращались домой вместе с комдивом. Морозная ночь была тихой и звездной. Вдали всполохами чуть светлел горизонт, затем доносился глухой звук артиллерийского выстрела. В небе беспрестанно натужно урчали невидимые тяжелые транспорты. Это шла запоздалая помощь осажденным немецким полкам.
Комдив задрал вверх голову и мечтательно сказал:
– Испортили мы им рождество, а?..
Дома полковник снял китель. В чистой белоснежной рубашке с расстегнутым воротом, похожий на дуэлянта со старой картинки, несколько раз прошелся по комнате. Вдруг он повернулся к адъютанту и как-то совсем просто, по-домашнему проговорил:
– А ты что́ думаешь? У меня и дочка есть. И еще какая!.. Красавица. Не веришь? Подожди – война кончится – познакомлю. Посмотрим, что скажешь.
Это неожиданное признание удивило Ребрикова. Никогда до тех пор полковник ничего не рассказывал о своей семье. Не было у него, как и у Володьки, семейных фотографий, и писем из тыла он не получал. Догадывался адъютант, что комдив одинок, и вдруг – на тебе, дочка!
Ребриков смотрел на худощавое с прямыми тонкими чертами лицо полковника, и внезапно черные глаза Латуница показались ему странно знакомыми. Словно он уже где-то видел эти глаза. Но где же?!
Полковник ушел к себе. Ребриков быстро разделся, сунул под подушку «ТТ» и, еще раз подумав о том, где он мог видеть такие глаза, сладко зевнул и уснул крепким сном.
2Только на пароходе, уже вдали от берега, начала приходить в себя Нелли Ивановна.
В переполненной женщинами и детьми каюте третьего класса она кое-как привела себя в порядок, переменила платье.
В глазах ее все еще стояла страшная картина дорог, забитых беженцами, безжалостно преследуемых самолетами врага. В ушах еще звучали взрывы бомб, плач детей и стоны раненых. Страшный крик потерявшейся в панике девочки: «Мамочка, где ты, мамочка!»
Все, чем жила столько лет Нелли Ивановна, рухнуло в один день, в один час.
После долгих лет счастливой семейной жизни она была одна. Одна, без друзей, без единственной дочери. Жалкая, беспомощная женщина с большим чемоданом, актриса, куда она сейчас ехала, кому была нужна?
Нелли Ивановна не думала теперь о Долинине. Он кончился для нее как-то внезапно, сразу, словно его никогда не существовало. Она не сомневалась в том, что больше никогда не встретится с ним. Что бы ни случилось, их дороги больше не могут сойтись. И только стыд, стыд за свою беспомощность, за то, что она столько лет жила рядом с человеком, который оказался таким жалким и трусливым, заставлял ее тяжело страдать.
Понадобилась не только война, но и ощущение ее страшного дыхания совсем рядом, чтобы вдребезги разбился стеклянный колпак, которым она была так долго и, казалось, надежно укрыта.
К счастью для нее, никто из тех, кто был с нею в каюте, не знал и, вероятно, никогда не видел на сцене Нелли Ивановну. Неудобств этой сверх меры забитой людьми общей каюты она, привыкшая к комфорту, сейчас словно не замечала.
Ветреный Каспий утихал. Пароход почти перестало качать, хотя находился он в открытом море. Нелли Ивановна поднялась на палубу. У стены палубной надстройки на узлах сидела пожилая женщина в простом черном пальто и теплом шерстяном платке. Женщина, видно, приготовилась к ночлегу.
– Не замерзнете? – участливо спросила она, глядя на легкую одежду Нелли Ивановны.
– Нет, – ответила та. – Там, внизу, душно.
Женщина понятливо кивнула головой и, еще раз внимательно оглядев Нелли Ивановну, продолжала:
– Бачу, военного жинка, налегке едете? На фронте сам-то? – И, не ожидая ответа, сочувственно вздохнула: – Что зробишь, им-то там хиба стильки лиха?!
Только начинавшиеся сумерки скрыли от нее вспыхнувшие щеки актрисы.
Путь из Красноводска в Ташкент был долгим и изнурительным.
В Ташкенте, население которого за последний год, вероятно, увеличилось втрое, нашлось много знакомых. Тут работали эвакуированные из столицы театры, жили видные музыканты и некоторые литераторы. Работала киностудия. Снимались даже фильмы.
Первым впечатлением Нелли Ивановны было, будто она вернулась в Ленинград.
Многие из знакомых, видно, уже обосновались здесь и беспокоились лишь о том, чтобы не пришлось двигаться дальше. На Нелли Ивановну смотрели со страхом и любопытством. Казалось, она прибыла сюда совсем из иного, неведомого мира, об ужасе существования которого тут знали только понаслышке.
Нелли Ивановну останавливали на улице, расспрашивали о случившемся. Одни бестактно выведывали, как же такое могло произойти с Долининым, – слухи о нем уже разнеслись по городу, другие начинали издали, говорили, что очень рады, что она снова здесь, среди своих, что все у нее теперь пойдет хорошо.
Были и такие, что из осторожности не узнавали Нелли Ивановну, при встрече глядели в другую сторону.
И странно, многие из знакомых показались Нелли Ивановне совсем не изменившимися за этот страшный год, словно не было на свете никакой войны и горя. И она со страхом подумала: «Неужели и я была такой же?»
В Ташкенте она сразу нашла работу. Ее приняли в труппу большого столичного театра. С немалым трудом Нелли Ивановна отыскала себе комнату на окраине города в старинном доме с деревянной галереей внутри двора.
Через месяц она уже играла на сцене. Но что-то новое прибавилось с этих пор в характере Нелли Ивановны, ее уже не радовали букеты цветов, преподносимые публикой, она оставалась равнодушной к поздравлениям друзей.
Другого, совсем другого хотелось ей сейчас. Нелли Ивановна еще не знала, чего она ищет, но отлично понимала, что признание публики, которого она добивалась столько лет, теперь сделалось для нее пустячным и до смешного мелкотщеславным.
Из Ташкента она поехала в Самарканд. Оттуда – в Алма-Ату.
В городах было много военных, сюда были вывезены академии, училища. Вечерами в открытые окна доносились лихие песни и четкие шаги курсантов.
Осенью и зимой произошли большие события. Немцев окружили в районе Волги. Красная Армия дошла до Таганрога, Донбасса.
И сразу веселее стали лица у прохожих на улицах.








