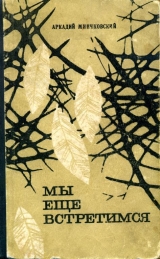
Текст книги "Мы еще встретимся"
Автор книги: Аркадий Минчковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
И вот Ребриков попал на передовую, – на передовую, о которой так много говорили в училище и которую с прудом представляли себе курсанты. В конце января он уже оказался в действующем полку. Как здесь все было не похоже на строгий график училищной жизни.
Тыл полка приютился в нескольких чудом уцелевших избах большого села. Ребриков увидел своими глазами то, что до сих пор видел только на бледно отпечатанных газетных фотографиях. Страшное зрелище представляли ряды почерневших русских печей среди пирамид пепла, смешанного со снегом, там, где еще недавно была сельская улица. Печально и бессмысленно высились голые трубы на фоне посерелого зимнего неба. От сожженных изб исходил горький запах. И не верилось, что еще недавно в очагах здесь теплился огонь, жили люди.
Тихо, совсем не так, как это представлялось Ребрикову, было в расположении штабных землянок. Лишь издали доносилась нечастая пулеметная дробь, да порой слышалось, как где-то, ахая, рвались невидимые мины.
Если мина шлепалась где-нибудь поближе, дневальный в первом отделе, молодой круглолицый парнишка в не по росту просторной шинели, спокойно отмечал:
– По дороге бьет. Пристрелялся, сволочь.
Все это пока было не таким уж страшным. Во всяком случае, Ребриков ожидал худшего и не очень-то еще верил, что это и есть передовая. «Нет, – думалось ему, – передовая будет там… В батальонах, в ротах. Вот где достанется».
На третий день его вызвали к командиру полка.
По курсантской привычке, Ребриков еще раз протер суконкой до последней возможности начищенные головки грубых сапог, пальцами оправил шинель под ремнем и заспешил в штаб.
Возле дверей командирской комнаты он остановился, чтобы перевести дух, проверил, посередине ли находится звездочка на ушанке, и взялся за скобу:
– Разрешите, товарищ подполковник?
– Входите.
Командир полка был немолод. Проседь серебрилась в его зачесанных назад волосах и ежиком подстриженных усиках. Сидя за столом, он спокойно и, как показалось Ребрикову, немного устало посмотрел на прибывшего командира.
– Здравствуйте, товарищ лейтенант Ребриков, – сказал он, поднимаясь и протягивая руку. Затем немного помолчал, снова опустился на стул и неожиданно спросил: – Ну, чему же вас там научили?
Как было ответить на такой вопрос? Не ляпнуть же в самом деле: «Всему». Легкая краска выступила на лице Ребрикова. Но помог сам командир.
– Тактику знаете? – спросил он.
– Знаю, – твердо сказал Ребриков.
– Карту хорошо читаете? С оружием знакомы?
– Знаком.
– Ну, так вот. – Командир полка разглядывал Ребрикова так, будто прикидывал, на что он может быть годен. – Ну, так вот… – продолжал он. – Пойдете командовать ротой. В третий батальон. Командир – капитан Сытник. Хороший командир, боевой.
– Ротой?! – Ребриков не сразу понял приказ. Такого он никак не ожидал. Он был убежден, что ему дадут взвод… И вдруг – рота…
– Да, ротой, – кивнул подполковник. – А что вы удивляетесь, ведь вы лейтенант и учились более полугода, а у нас взводами сержанты командуют. Вот и на вашем месте сейчас старшина. Ступайте в подразделение и принимайте роту. Приказ будет. Ну… – и он крепко пожал Ребрикову руку: – Желаю успеха. Думаю, училища своего не подведете. А училище у вас хорошее. Выдающиеся командиры его кончали.
Никогда Володька не представлял себе, что в земле можно так, почти по-домашнему, устроиться. Здесь жарко топились печурки, уютно, как керосиновые лампы, светили коптилки, ловко смастеренные из артиллерийских гильз. И топчаны у командиров стояли аккуратно прикрытые байковыми одеялами. Конечно, удобства были относительные. Но ведь Володька представлял, что ночевать придется на снегу и жить в открытых окопах.
Первые ночи он спал плохо. Чутко прислушивался к тому, как взрывались где-то вблизи снаряды. Иногда приподнимался на локте и поглядывал на своего связного Сергеенко: не замечает ли тот, что командиру не по себе. Но Сергеенко ничего не замечал или делал вид, что не замечает. Во всяком случае, он так преспокойно посапывал носом, что можно было подумать, спит не в километре от передовой линии немцев, а у себя дома на Полтавщине. И, глядя на спокойного связного, Ребриков пытался убедить себя, что война не так уж страшна: пули, конечно, посвистывают, но если понапрасну не высовываться где не надо – не заденут, да и мины и снаряды в траншеи попадают редко.
Еще в училище приготовился Ребриков принять на фронте взвод самоотверженных героев – молодых широкогрудых ребят, в полной выкладке, в касках и с противогазами на боку. А в окопах сидели уже немолодые дядьки, с усами и щетинистыми щеками, в потасканных шинелях, в почернелых полушубках, курили самокрутки и вели разговоры об оставленных дома делах. И, глядя на этих уже обжившихся на войне людей, понял Ребриков, до чего же были смешны там, в училище, он и его товарищи со всеми своими портупеями и медными пряжками.
И все же порой отсутствие пуговиц на гимнастерках раздражало его.
Однажды, когда он крепко «продраил» бойцов за давно не мытые котелки, он, уходя, услышал сдержанное, но все же донесшееся до его ушей: «Понятно, из инкубатора…»
Ребриков сделал вид, что не расслышал злой реплики, но она задела его за живое. Значит, его считают цыпленком, посмеиваются и собираются посмотреть, каким он окажется, когда дойдет до настоящего дела. Ну, приведись такой случай, он им докажет.
И случай не заставил себя ждать.
Не прошло и трех суток – пришел приказ разведать новые огневые точки противника по фронту роты и проверить надежность ночной обороны врага. Двух разведчиков прислали из штаба полка, командира Ребриков должен был выделить сам.
Как ни протестовал политрук, но Ребриков убедил его, что для пользы дела с разведчиками пойдет он сам.
Долго, очень долго помнил он потом, чего натерпелся в ту ночь. Они пробирались к немецким позициям по метру, до полуночи. Он не отставал от других. Страшила мысль, что каждую минуту их могут обнаружить и смерть тогда – лучшее из того, что можно будет выбрать. Но еще больше боялся Ребриков отстать от товарищей: тогда он уже не сумеет посмотреть в глаза бойцам. И он полз и полз за разведчиками, – сердце предательски громко стучало под овчиной, – пока не стала ясно слышна немецкая речь и боец справа шепнул:
– Дальше нельзя. Теперь запоминайте…
В свои траншеи возвратились к утру. Недавно полученный белый полушубок был разодран. Мечта Ребрикова превысить задание и вернуться с «языком» не осуществилась, но с тем, что от них требовалось, они справились. А главное… главное, он теперь знал: страх можно подавить, если стиснешь зубы и скажешь себе: «Не трусь!»
Донесение было отправлено вовремя, а потом немалого труда стоило связному Сергеенко уложить на топчан своего молодого командира, который сразу же мертвецки уснул, рухнув телом на дощатый шаткий столик.
Он не знал, сколько времени проспал. Очень взволнованный, Сергеенко тряс его за плечи:
– Товарищ лейтенант, командир полка требует.
– А-а?! – Он не сразу сообразил, чего от него хотят. – Что, командир, где? – Потом поняв, схватил трубку с такой поспешностью, что чуть не опрокинул телефонный ящик. – Семнадцатый слушает!
– Это вы, – послышался в мембране сухой голос. – Кто вам разрешил самовольничать?
Ребриков молчал.
– Я вас спрашиваю, семнадцатый. Кто вам приказал?
– Я сам, – глухо произнес Ребриков.
– Ах, сам… скажите, какой герой отыскался. Мне такой героизм не нужен.
– Слушаю.
– На первый раз выговор, а вторично – отдам под суд. Людей бросать, мальчишка!
В трубке щелкнуло и стихло. Ребриков на всякий случай подержал ее еще некоторое время возле уха, а затем осторожно положил на аппарат. Он взглянул в сторону застывшего в напряжении связного и вдруг весело подмигнул ему и высунул язык:
– Видал?! Попало…
Но его вовсе не расстроил разговор с командиром полка. Не испугало бы его и куда более строгое наказание. Он знал, что сделал главное – проверил себя. Он, пожалуй, и впредь не струсит, когда будет нужно.
С той памятной ночи и в самом деле иначе стали поглядывать бойцы на своего нового командира. Как только показывался лейтенант в каком-либо блиндаже, там сразу поднимались, старались поскорей ликвидировать непорядок, убрать с глаз командира лишнее.
Немного прошло времени, – недаром говорят, день на войне за неделю идет, – а Ребриков уже представить себя не мог без своей роты. Особенно привязался он к связному Сергеенко. И не только привязался, но и кое-чему у него научился.
Когда впервые явился к нему немолодой, со следами оспы на лице красноармеец, Ребриков с удивлением подумал: «Какой же это связной?» Он ждал ловкого и быстрого парня, этакого Петьку, какой был в кино у Чапаева, а тут вдруг дядька за сорок, с ремнем ниже живота. Позже стало ясно: нескладный на вид Сергеенко оказался незаменимым для командира роты. Никак не ожидал Ребриков, что почувствует со стороны старого бойца такую заботу. Чай в кружке командира появлялся, неизвестно откуда, всегда горячим. Когда Ребриков, продрогший, приходил с обхода взводов, у Сергеенко обычно находился для него глоток водки. Связной уверял, что сберег ее с прошлого раза, но Ребриков отлично знал – свою порцию он давно выпил.
Не первую войну жил в окопах Сергеенко. Молодым парнем уже сражался он с немцами в империалистическую. «Може, вин тот же старый Фриц, що тогда був, и сыдыть против мене», – порой философствовал Сергеенко.
Было у Сергеенко в запасе столько историй, что хватило бы, наверное, не на один год. В часы затишья рассказывал связной командиру про то, как участвовал он в Брусиловском прорыве, про Зайончковского, «солдатского генерала», как звали того в окопах, про то, как конники лошадиным потом выводили заедавших их до тоски вшей. «Як с ходу рубаху с тела и за́раз пид брюхо ей – уси пипроподуть», – говорил Сергеенко. Удивляло еще Ребрикова, что связной на память знал по фамилиям всех своих бывших полковых, ротных, батальонных и взводных, как он их называл. И заметил Ребриков, что, слушая Сергеенко, всегда можно узнать и намотать себе на ус то, что может пригодиться во фронтовой жизни, и не раз задумывался над тем, уж не нарочно ли учит уму-разуму своего молодого командира хитрый связной.
Как-то раз Ребрикова срочно вызвали из землянки. Перед ним стоял командир полка. Ответив на приветствие лейтенанта, велел вести показывать ротное хозяйство. Молча подполковник и Ребриков обошли блиндажи и ячейки, побывали на кухне. Командир полка ничем не восхищался и ничего не ругал, а когда кончил обход и они остались одни с Ребриковым, сказал:
– Кажется, по-человечески рота живет. – И, оглядев Ребрикова, спросил его: – Ну как, привыкли немножко?
И Ребриков весело ответил:
– Привыкаю будто, товарищ подполковник!
Командир полка вздохнул, поглядел на обжитые землянки, на дым, что стелется над подтаивающим снегом, и задумчиво проговорил:
– Засиделись мы тут. Будто и торопиться некуда.
И действительно, тишина вокруг была такая, что, казалось, люди залезли в землю просто из озорства.
Спустились в землянку. Подполковник разделся и поел вместе с Ребриковым супа и каши, которые принес Сергеенко. И как-то сразу превратился командир полка в доброго гостя, простого и доступного. Он расспрашивал связного, где тот служил, и неожиданно выяснилось, что бывали они с Сергеенко где-то почти рядом и воевали под началом одних и тех же командующих. Когда довольный этаким поворотом дел связной понес на кухню посуду, командир полка, закурив, сказал ему вслед:
– Настоящий солдат.
Не приходило раньше в голову Ребрикову, а тут подумалось, что и в самом деле слово это, такое старое и точное, – солдат – удивительно шло к Сергеенко.
Вскоре к Ребрикову начало прибывать пополнение. К удовольствию командиров взводов, да и самого Ребрикова, новички оказались народом обстрелянным, и потому беспокоиться, как поведут они себя в бою, не приходилось.
Именно Сергеенко навел его в те дни на мысль, что, наверное, скоро придется им наступать.
И в самом деле, как и все солдаты на войне узнают новости раньше начальства, не ошибался старый связной. Вскоре вызвал Ребрикова к себе комбат, немногословный, добродушный капитан Сытник.
– Получай боевое крещенье, лейтенант Ребриков, – сказал он.
Намечался прорыв на участке батальона. Дальней задачей ставилось занять железнодорожную станцию и перерезать дорогу. Ближайшей – внезапным ударом овладеть деревней Тупичи, где засиделись немцы.
Роте Ребрикова следовало выступать первой, другим его поддерживать.
– Гляди, – капитан пристально изучал командира роты. – Людей зря не губи. Хитростью надо… У них там под каждой крышей пулемет. Сам ведь видел, разведчик-доброволец. – И он безобидно рассмеялся.
Операция была назначена на следующее утро. Имелось еще время на обдумывание. Вот когда припомнились слова преподавателя тактики: «Ваше решение…» Через полчаса Ребриков уже сидел у себя в блиндаже, разглядывая слабо прочерченные горизонтали на копии с куска карты – «сотки», и, как некогда над школьной задачей, грыз кончик карандаша, чертил, прикидывал. Когда план был готов, Ребриков запомнил его наизусть и уничтожил бумагу.
Тишина в эти дни стояла над позициями необыкновенная. Притихли и немцы, словно почуяли недоброе.
Теперь в роте было еще двое командиров взводов с курсов младших лейтенантов. Оба старше Ребрикова и уже успели повоевать. Ставя задачу перед взводами, командир роты старался говорить с ними баском, но не сомневался в том, что ребята отлично догадывались, что он за птица. И опять он припомнил добрые советы училищных командиров и повторил памятные слова полковника Петрова так, будто это был его собственный опыт:
– Людей дергать не надо. Пусть поедят, выспятся…
Однако, как он сам ни хотел поспать перед наступлением, сделать этого не удалось. Ребриков вертелся на топчане и поминутно зажигал спички, поглядывал, сколько времени на старых карманных часах Сергеенко, – своих у него не было. Мысли, сменявшие одна другую, не давали сомкнуть глаз. Что принесет ему утро? Счастливый прорыв, победу?.. Может быть, награду, портрет в дивизионной газете? А что если его рота начнет новое крупное наступление? Зазвучат по радио названия освобожденных городов… А может, найдет он завтра смерть среди этого пустынного снежного поля, и никто не будет знать, что это он, лейтенант Ребриков, со своими бойцами были первыми, кто бесстрашным ударом прорвал оборону немцев. Было удивительно сладко думать о себе, смелом и безвестном, отдавшем жизнь за других. Закрывая глаза, он старался припомнить дом, лицо матери, свой всегда плохо прибранный стол… Потом вспомнились друзья: Лева, славный дылда Чернецов… Последний вечер в школе, ссора с Долининой…
В четыре часа Ребриков пошел по блиндажам. Предварительно он побрился, хотя брить, собственно, было нечего, и надел свежий подворотничок. Перед боевым делом люди должны видеть командира таким, словно он готовился к параду.
Ровно в пять разбуженная по тревоге рота начала подъем из траншей. Тяжело дыша, бойцы переваливали через бруствер и оказывались теперь на открытой позиции. Чуть синел рассвет. Впереди были проволочные заграждения, заранее перерезанные полковыми саперами. Надо было достигнуть балки – границы переднего края и там сосредоточиться для удара.
Рота медленно приближалась к спасительной балке. Ползти было трудно. Холодные комки снега забирались в рукава, в валенки, автомат оттягивал руку. Впереди и позади себя Ребриков слышал сдержанное дыхание десятков людей.
Два отделения во главе со старшиной Фетисовым должны были по сигналу отвлечь внимание противника, сам Ребриков с основными силами роты – осуществить внезапное нападение. Во втором эшелоне двигался со взводом младший лейтенант.
Как только откроют демонстративный огонь бойцы слева и немцы начнут отвечать, Ребриков со своими ребятами бросится с фланга и создаст панику. Те, кто будет следовать за ними, станут закреплять успех.
Таково было его решение.
Лощины достигли благополучно. Ребриков крепко сжимал в руке часы, доверенные ему Сергеенко. До боли напрягал зрение, чтобы без спички увидеть, когда большая стрелка достигнет условленного часа. Стало жарко. Он расстегнул полушубок. Сорок пять минут… Пятьдесят… Пятьдесят пять… Пятьдесят девять… Что же молчит Фетисов?!
И вдруг послышались одинокие, тонущие в серой мгле выстрелы. Затем забил пулемет. И тотчас же ответили немцы… Так, так… Еще немного. Часы, казалось, треснут в руке Ребрикова. Он поспешно засунул их в карман гимнастерки, но тут же заставил себя спокойно застегнуть пуговку, и взвел собачку автомата.
– Начинаем, Сергеенко.
– Пишлы, товарищ командир, – деловито кивнул тот.
– За мной, за Родину!.. – крикнул Ребриков. Но крика не получилось, голос сорвался. Да его бы все равно не было слышно в треске выстрелов, которые все усиливались.
– Вперед!
Рота двигалась по днищу оврага. Сейчас он кончится, будет дорога. Ребриков торопился, не видя ничего, кроме синеющего холма впереди.
Ноги увязали в снегу. Его уже перегнали. Он видел, как двое бойцов сбросили на ходу полушубки. Вот людей впереди все больше и больше. Сколько их там? Они взбираются вверх. Ну, родные, дорогие! И вдруг, – он сперва даже не понял, что случилось, – где-то свистнуло раз, другой. Поднялись наверху маленькие буруны снега. Послышался стон. Несколько бойцов кубарем скатилось в овраг.
– Куда же вы?! – Ребриков, кажется, впервые грубо выругался. Он рванулся вперед и лишь взобрался, чтобы взглянуть, чего испугались ребята, как что-то, словно хлыстом, ударило его по левой руке. Он увидел вырванный клочок меха на рукаве и инстинктивно повалился в снег. Теперь он уже ясно слышал, как впереди били немецкие пулеметы. Их было не меньше двух или трех.
– Не ранены, товарищ лейтенант? – Сергеенко тащил его вниз за полу полушубка.
– Нет, будто нет.
– Скидывайте овчину.
Рука была задета выше локтя. Но это был пустяк, почти царапина. Только сочилась кровь.
– Заживет, – сказал Сергеенко. Он сильно перетянул руку командира и туго многократно перебинтовал ее.
Ребриков смотрел на людей. Они были подавлены не меньше своего лейтенанта. «Как же так, как же так? – недоумевал он. – Откуда могли немцы узнать, что он пойдет отсюда?» И вдруг мелькнула мысль: «А что, если сейчас ударить со стороны Фетисова? Ведь если немцы раскрыли его план, нужно перехитрить их. Сделать вид, что мы продолжаем попытку пробиться здесь, а там…»
– Сколько раненых? – спросил он.
– Трое.
– В тыл, – скомандовал Ребриков. – Сержант Тимков с отделением и пулеметом остается здесь. Из лощины не выходить. Стреляйте из всего, что есть. Патронов не жалейте, и ни с места! Остальные за мной!
Боль была терпимой. Он мог двигаться, ходить, бегать… Ребриков быстро пошел назад вдоль лощины. Он шел наугад. Он знал эти места только по карте. Но ведь знал же, знал… И должен был провести за собой людей.
Через десять минут он был возле Фетисова.
– Все провалилось, – сказал тот мрачно. – Они ждали оттуда. Здесь только один пулемет. Они знают, что кулак там.
– И очень хорошо! – обрадовался Ребриков. Он оглянулся на разгоряченных бойцов и сбросил полушубок.
– Э-э, не дило, – покачал головой Сергеенко. Он опять был рядом и поднял полушубок.
– После, после, – отмахнулся Ребриков. – Товарищи, пойдем отсюда. Тут слабое место. За мной, ура!
И снова он бежал по снегу, и снова слышал, как сзади и рядом, тяжело дыша, падая и подымаясь, бежали люди. Его уже опять перегоняли многие, а впереди то замолкал, то снова бил пулемет. И вдруг будто кто-то подставил ему подножку. Он повалился в снег головой, вовсе не чувствуя ни боли, ни удара, и, падая, услышал, как все вокруг стихло.
Потом стало вдруг темно. Он увидел глаза матери. Она совсем низко склонилась над ним и сказала: «Вот он».
3Тихо стало в еще недавно столь шумных комнатах квартиры Ребриковых.
С тех пор как старая Аннушка в последний раз закрыла дверь за ушедшим с повесткой в руках Володькой, словно заглохла здесь жизнь. Владимиру Львовичу уже не приходилось ворчать по поводу того, что вечно занят телефон. Аппарат молчал. Не слышно было частых звонков в квартиру и громкого хлопанья дверьми. Не звучали больше ни смех, ни громкие голоса молодых людей.
Война вошла и в эту мирную квартиру. Даже над кроватью Аннушки висела сумка с противогазом, хотя заставить ее надеть на себя маску так и не удалось.
Елена Андреевна, как и другие домохозяйки, ходила дежурить на улицу. Она сидела у ворот в ожидании воздушной тревоги, чтобы затем уговаривать прохожих укрыться под каменными сводами проезда во дворе.
По-прежнему в шесть часов утра Владимир Львович слушал сводку Совинформбюро, каждый раз надеясь узнать что-нибудь утешительное. Но утешительного не было. Немцы неудержимо рвались на восток. Фронт приближался к городу. Он был где-то уже совсем неподалеку.
Так же, как и в мирное время, гладко выбритый и подчеркнуто аккуратный, Владимир Львович уходил на работу. Теперь он покидал дом раньше обычного. Машина лаборатории была мобилизована. Он добирался до службы трамваем.
Вскоре город начали бомбить.
Сперва это показалось не таким страшным. Где-то вдали ахало, в квартире дрожали стекла, потом снова все стихало.
В эти дни Владимир Львович приходил домой поздно, мрачный, усталый. Он все ожидал, что на фронте вот-вот что-то резко изменится, войдут в действие какие-то новые мощные силы и немцы под Ленинградом будут разбиты, и все больше убеждался в тщетности своих ожиданий.
А затем начался обстрел города. Дальнобойная артиллерия врага уже достигла его окраин.
Однажды Владимир Львович пришел совершенно подавленным. Долго и тщательно мыл руки. Так долго, словно забыл, что делает, потом сказал:
– М-да… Говорят, немцы в Пушкине, в Петергофе… Кто бы мог такого ожидать…
Как-то в квартире появился Андрей.
Это было настолько неожиданно, что счастливые старики, кажется, забыли обо всех невзгодах. Словно с появлением живого и невредимого Андрея приходила победа.
Андрей сильно похудел за эти месяцы и весь будто как-то подсох. Он был таким бронзово-коричневым, каким никогда не приезжал с юга. Военная форма уже облеглась на нем и сделалась привычной. Сапоги на младшем лейтенанте Ребрикове были кирзовые, такие широкие в голенищах, что неизвестно, на какие ноги шились. Наган болтался в брезентовой кобуре, висевшей на таком же брезентовом ремне.
А глаза у Андрея были живыми, с огоньком, какими редко бывали прежде.
Все трое стариков собрались в столовой и глядели на него с восторгом, надеждой и печальным предчувствием неизбежного расставания.
– Остановили! Дальше не пройдут, – сказал Андрей.
Он пил чай, принесенный из кухни Аннушкой, и все почему-то оглядывал стены квартиры. Оглядывал так, будто хотел все получше запомнить.
– От Володи давно ничего нет, – вздохнула Елена Андреевна.
– Не беда, напишет, – успокаивал мать Андрей.
Владимир Львович все пытался подробней расспросить сына о том, что происходит на фронте, интересовался, достаточно ли есть оружия и так ли уж действительно страшны немцы.
Андрей скорей отшучивался, чем отвечал на вопросы отца, потом задумчиво сказал:
– Не вышло все-таки так, как ему хотелось, сорвалось!
Он ушел так же внезапно, как появился, и просил не беспокоиться, если придет не скоро. С собой он для чего-то захватил старый Володькин школьный транспортир.
Блокада!
Это слово вошло однажды и скоро стало таким же привычным, как «зима», «холод», «война»…
Давно уже Владимир Львович не ходил на работу. Лабораторию закрыли. Не было материалов, почти некому было работать. Сперва Владимир Львович очень скучал, не находил себе места. Куда-то ходил, где-то требовал, чтобы ему дали работу. Но людей в городе оставалось больше, чем их можно было занять, и полезного дела ему не находилось.
Поздней осенью потух свет и встали трамваи.
Они так и остались стоять на том же месте, где их застала минута, когда по проводам перестал течь ток. И каждый, кто проходил по улицам, мог вспомнить: «Вот в этом вагоне я ехал в последний раз. Вот тут я вышел и пошел дальше пешком, а трамвай так и застрял здесь навсегда».
Когда начались снегопады, снег некому было убирать. На крышах окаменевших троллейбусов и трамваев лежали огромные белые подушки.
Однажды как-то печально, словно предсмертно, прохрипело в трубах, и перестали падать последние капли. Водопровод отказал. Теперь воду Аннушка носила издалека. Несмотря на то что ей было под шестьдесят, она оказалась выносливее других.
Не стало дров. Владимир Львович вспомнил годы гражданской войны и сам соорудил маленькую печурку-«буржуйку». Делал он это обстоятельно, как привык делать все в жизни. Он даже что-то чертил, придумывая наиболее экономичный способ нагрева.
К блокаде он сперва отнесся как к явлению кратковременному и утверждал, что дело победы не за горами. Порой он бывал до наивности оптимистичен, считая, что трудности не так уж сложно пережить. Сперва он изобретал новые блюда. Вычитывал в книгах, чем может себя поддерживать человек, когда лишается нормальных питательных продуктов. Что-то варил на печурке и составлял специи, повышающие жизненные силы.
Но паек становился настолько мал, что изобретательству Владимира Львовича пришел конец. Наступило то, о чем многим раньше только приходилось слышать. Неотвратимо надвигался голод.
В переулке легли сугробы снега с человеческий рост.
Старики жили теперь втроем в одной комнате. Аннушка спала на старом диване возле окна. В окнах, в которых целыми осталось всего два стекла – остальные вылетели от сотрясенья во время обстрелов и их забили фанерой, – были видны те, кто еще ходил по улицам. Но пешеходов с каждым днем становилось все меньше и меньше. Зато печальные похороны с впряженной в салазки женщиной и укутанным в тряпье трупом сделались привычным зрелищем.
Владимир Львович не любил смотреть в эти дни в окно. Лишенный возможности умыться горячей водой, плохо выбритый, он либо бесшумно бродил по выстывшей квартире, либо сидел, прислушиваясь к медленному и равнодушному постукиванию метронома в репродукторе. Как-то он сказал жене:
– Он стучит, чтобы напомнить нам, что мы живем.
Вскоре Владимир Львович слег.
Это было в то время, когда уже начали увеличивать паек. В город через Ладожское озеро стали поступать продукты. Елена Андреевна и Аннушка еще были на ногах. Обе они, отказывая себе во всем, боролись за жизнь Владимира Львовича, и старания их не прошли даром. К весне Владимир Львович поднялся на ноги.
Город медленно приходил в себя. Стаял снег на улицах, а вместе с ним исчезли и зимние печальные картины.
И вот весной, когда для всех уже зримо затеплилась надежда к жизни, силы внезапно оставили Елену Андреевну. Больное сердце не выдержало. Наступила реакция.
Теперь уже Владимир Львович делал все, чтобы спасти жену. Несмотря на жесткость законов военного времени и блокады, в городе нашлись люди, которые предлагали продукты в обмен на вещи. Даже дорогие вещи шли за бесценок. Ковер меняли на две банки сгущенного молока, чайный сервиз на полкилограмма чеснока. Владимир Львович не торговался, ни с кем не спорил. Он был одержим идеей спасения жены и удовлетворялся лишь тем, что не подавал руки людям, с которыми вынужден был производить постыдный обмен.
Но добываемые с таким трудом продукты не шли впрок больной. Несмотря на пережитый голод, аппетит у нее был ничтожный.
Полулежа на подушках, Анна Андреевна, превозмогая боль, часто вспоминала о сыновьях.
– От Володи ничего нет, и от Андрюши тоже давно ничего… – говорила она и тут же успокаивала не то себя, не то других: – Да и откуда же взяться письмам, ведь почты еще нет.
Потом она ненадолго умолкала и говорила:
– Но я знаю, они оба живы.
Это случилось в конце марта. Утром в наружные двери квартиры громко постучали. Аннушка поплелась отворять. Затем вернулась и сказала Владимиру Львовичу, что его спрашивают со службы. Бледная, насмерть перепуганная, она не вошла в комнату, а оставалась в коридоре.
Владимир Львович поднялся и, удивившись, кто бы мог к нему явиться, пошел к выходу.
В коридоре его ожидал рослый сутуловатый военный с тремя кубиками на петлицах. Сразу, как только увидел приближавшегося к нему Владимира Львовича, военный, будто виновато, произнес:
– Только не беспокойтесь. Ничего плохого я вам не принес.
Сутуловатый старший лейтенант сообщил, что Андрей Ребриков был ранен на Невской Дубровке и теперь лежит в госпитале на Петроградской стороне.
– Все проходит нормально, он уже ходит, – поспешил успокоить стариков военный. Из кармана шинели он вытащил обернутый в армейскую газету пакетик: несколько кусков пиленого сахара.
– Вот, Андрей просил передать.
Владимир Львович стал отказываться. Говорил, что сахар сейчас больше нужен сыну, но пришедший продолжал виновато улыбаться и повторял:
– Нет уж, возьмите! Он обидится…
Обрадованная благополучным поворотом событий, Аннушка стала звать старшего лейтенанта остаться, выпить чаю. Но он отказался. Сказал, что у него в городе еще много разных дел.
Владимир Львович и Аннушка провожали его как близкого и дорогого друга. Елене Андреевне они рассказали все, как было. Только, уже от себя, Владимир Львович добавил, что Андрей ранен совсем легко и теперь чувствует себя хорошо.
Через несколько дней Владимир Львович решил пойти на свидание к сыну. Путь на Петроградскую сторону надо было проделать пешком, но Владимир Львович, несмотря на протесты, утверждал, что на это вполне способен.
С утра он оделся потеплее и, взяв палку, вышел из дому. Впервые за долгие дни он шел по знакомым улицам и удивлялся тому, до чего они мало изменились, хотя все сделалось другим.
Владимир Львович поглядывал на исхудалых, неторопливо шагавших прохожих. Он шел не спеша, пытаясь рассчитать свои силы, но сил его оказалось слишком мало. Внезапно он почувствовал, что ноги отказываются идти. Едва достигнув Невского, Владимир Львович закачался и, с трудом добредя до ближайшей тумбы у ворот, беспомощно на нее опустился и тяжело задышал.
Попытку навестить сына в госпитале он отложил до первой оказии с каким-нибудь транспортом.
Елена Андреевна надеялась, что Андрей вскоре придет сам.
Но ее надеждам увидеть сына не суждено было сбыться.
В апреле, когда яркое солнце уже заглядывало в оставшиеся целыми окна закоптелой комнаты, Елена Андреевна умерла. Она умерла спокойно, даже как-то незаметно для других, как жила всю свою скромную жизнь.
Владимир Львович принял ее смерть молча, но снести удар для него оказалось слишком тяжело. Он снова слег.
Елену Андреевну захоронили в братской могиле на Серафимовском кладбище, как тысячи других в то страшное время.
Проводила ее на кладбище одна Аннушка.








