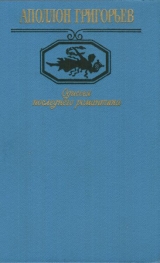
Текст книги "Одиссея последнего романтика"
Автор книги: Аполлон Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли {334}
(Из записок ненужного человека)
По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово раб.
Грибоедов
Есть люди, которые не только по духу времени, но и по личному вкусу ненавидят, как покойный Грибоедов, слово – раб; но вместе с тем ненавидят столько же и знаменитую формулу всех теоретиков, от великого теоретика Калигулы до другого великого теоретика Робеспьера… Куда этим людям деваться во времена особенного свойства?.. во времена, когда повсюду поставляется неумолимая логическая дилемма.
Но не пугайся, о доблестная редакция! Поставивши вопрос так трагически-грандиозно, я хотел только немножко «форсу задать»… Я, как Антип Антипыч, – «шутки шучу».
С трагических ходуль сведем наш вопрос в простые житейские и литературные области.
Я, например, твой покорнейший слуга, ненужный человек, – представляю для самого себя любопытный психический феномен… В то время как всякий стоит под каким-нибудь знаменем, я решительно ни под одно стать не могу. Я сочувствую всем вообще, но ни одному исключительно, а решительно всем, без исключения всем. Заметь это, благородная редакция!.. Но позволь лучше изложить тебе по пунктам мои сочувствия.
Во-первых, я тебе сочувствую. За что? – спросишь ты с лукавою, но перворожденности твоей приличною скромностью. Знаешь ли что? Ведь, собственно, за то, что ты еще молода. О, не дай бог, чтобы к тебе шли слова пушкинского Карлоса к Лауре:
Ты молода и будешь молода
Еще лет пять иль шесть… {335}
Нет – будь вечно молода или сумей умереть в пору!
Ромео умер – с ним Джульетта:
Шекспир знал жизнь, как бог…
Сохрани лучше, даже с недостатками, свою молодость с неопределенностью, неясностью твоих честных стремлений!.. Право, ведь не все то хорошо, что ясно. Посмотри: до чего ясен стал «Русский вестник» {336} …
А вот кстати – я и ему, и «Русскому вестнику», сочувствовал когда-то, да еще как! Самым сильным образом сочувствовал, – но только не в том, в чем он стал теперь так ясен. Англию я очень люблю; но англоманию, как всякую манию, терпеть не могу, потому что всякая мания есть рабство. На литературу я тоже не могу смотреть глазами «Русского вестника», т. е. на русскую литературу. Я ее уважаю, а он ее игнорирует(учтивый ученый термин для выражения глубокого презрения). Но в том, в чем он еще доселе неясен, – в его вражде к централизации, в его отношении к народности – весьма я ему сочувствую.
Но это еще не беда: по крайней мере, не большая беда, что я сочувствовал много и во многом «Русскому вестнику». Я и господину Аскоченскому {337} во многом сочувствовал. Не ужасайся, почтенная, хотя недавно рожденная редакция! Или прежде, чем ужасаться, разбери ты в чем дело. Я человек, по натуре и по развитию, – религиозный, даже не философски, а просто православно-религиозный. Начала, из которых выходит г. Аскоченский, для меня, как и для множества русских людей, святы и несомненны. В приложениях начал он – чистый «рèrе Duschêne» [112] 112
«папаша Дюшен» (фр.).
[Закрыть] {338} мракобесия, постоянно находящийся bougrement en colère [113] 113
в неистовой злобе (фр.).
[Закрыть]циник, не останавливающийся ни перед чем. Когда эти для нас, для многих, возвышенные начала сводит он в непроходимую грязь, он служит уже не этим началам, а грязи и мраку; но пока он держится на высоте своих начал, он, на мои глаза, стоит и уважения и сочувствия. Теоретик, как все теоретики, он виноват в моих глазах только тем, что его теории не модные. Его же, г. Аскоченского, я взял нарочно в представители положительно-религиозного взгляда именно потому, что в сочувствии ему не всякий признается, а мне непременно хочется диалектическую дерзость выкинуть, «коленце» сделать. Я не только его началам сочувствую, я иногда манере его сочувствую, его дюшеневски-циническому остроумию. Он выдумал же, например, отличное слово: «человечина»,разоблачающее отвлеченное «человечество». Этим словом он резко, а главное, верно отметил окончательный результат прогресса, как его понимают теоретики другого сорта. Это слово не умрет. В нем схвачена целая система. Другой вопрос, что собственная система Виктора Ипатьевича для меня «мерзость запустения, стояща на месте святе».
Прежде чем ругать меня подлецом, подумай ты хорошенько о том, что я говорю, моя честная редакция, а главное, будь последовательна и не виляй хвостом.
Ведь ты сама знаешь очень хорошо, что в мире, в котором луна соединится с землею {339} , места духу и духовным потребностям быть не может. Уж я не говорю о высших духовных потребностях, нет, – о тех только, которые одухотворяют земную жизнь, об искусстве, о философии как искании абсолютного. Нечего петь будет и нечего искать будет.
Ты это не только хорошо знаешь, но ты явно этому миру не сочувствуешь. Сочувствуй ты ему, идеалу теоретиков, ты бы не существовала как отдельная особая редакция, ты бы примкнула к теоретикам. Ты ведь, надеюсь и верю, обособилась потому, что хочешь сказать нечто свое, особое… Вот ты сразу Пушкина защищаешь, поэзию защищаешь; вон ты, наконец, даже (о, ужас!) над божками посмеиваешься. Это не значит, чтобы ты г. Аскоченскому сочувствовала, даже настолько, насколько я сочувствую; но будь настолько смела, чтобы, где г. Аскоченский по-своему прав, сказать, что г. Аскоченский по-своему прав, где он в борьбе с материалистами остроумен, что г. Аскоченский остроумен. Что? ведь не будешь так смела? А?
Да вот тебе, между прочим, проба, о моя честная редакция. В «Сыне отечества» было в позапрошлом году перепечатано письмо к «Страннику», подписанное буквами А. Ф. {340} Это уж не г. Аскоченский, кажется, а ведь в письме-то, между прочим, брались под защиту и юродство, и даже Иван Яковлевич {341} . Сила в том: каки с каких точекбрались под защиту… Ну-ка, покажи свою правду. А посмела ли бы ты не то что сочувствовать письму, подписанному буквами А. Ф., сочувствия никто с тебя не спрашивает, а в свое время не поглумиться при случае над этим письмом?.. Посмела ли бы ты, если б уже существовала в то время, – даже смолчатьо нем; а если и посмела бы, то почему бы ты смолчала?.. Допросись самое себя, доищись источника. Ведь источник-то будет куда как мутный. Есть, например, юродство модное, американское, спиритизм; о нем и говорить можно, даже, пожалуй, – коли и всурьез говорить станешь, то тебе кое-как спустят, не заподозревая в тебе гуманности, современности и прочих «обязательных» добродетелей, ставших в наше время казенными. А Иван Яковлевич – юродство старое, исконное, – письмо в защиту значения этого факта сочинено не какой-нибудь английской барыней, а уединенным мыслителем, аскетом и пущено в свет не Теккереем, а «Странником» и г. Старчевским. Никто на тебя не навязывает сочувствия не только к юродству, но даже и к этому письму, но всякий вправе ждать от тебя последовательности. Согласись, что, с точки зрения голого рационализма, спиритуализм– выйдет даже погрубее юродства. Ты скажешь, что сотни тысяч народа занимаются спиритуализмом? Сотни тысяч народа перебывали в больнице умалишенных, где жил покойный Иван Яковлевич, сотни тысяч народа шли за гробом. То, дескать, народ образованный, американцы и англичане, а это не люди, а звери. Ага! так вот ты какова, моя почтенная редакция? От своей любви и уважения к народу ты уж на попятный двор!.. Для тебя уж есть звери и люди в человечестве, для тебя уж человечество«есть»?
А все-таки ты постой, мать моя! Я тебя и с другой стороны доеду. Ты ведь, кажется, в искусство веришь? Ведь веришь: не правда ли? Ну, как же ты в него веришь? Конечно, не так, как г. Дружинин {342} и поборники эстетического взгляда, т. е. не как в гастрономическое наслаждение. Ты веришь в его значение жизненное, в его серьезность, не так ли? Т. е. что это значит? Ты веришь, что искусство, сводя в фокус разнородные явления жизни, осмысливает их, что, с другой стороны, типы, создаваемые искусством, суть жизненные типы, – что тип поэтический, величавыйили трогательныйв создании художника имеет и в самой жизни, в самых явлениях свои поэтические, величавыеили трогательныестороны. Ведь это так?..
Ну, прекрасно!.. Я уверен, что в отроческие годы свои ты плакивала над фальшиво-сентиментальным изображением юродивого Мити в «Юрии Милославском» {343} . Положим, что теперь ты не заплачешь, да и я уж не заплачу. Но главу об юродивом в «Детстве» Толстого ведь ты не обвинишь в фальшивости, ведь ты и теперь придешь в восторг от ее поэтической правды?.. А что ты, например, тоже насчет юродивого Островского в «Минине», каких мыслей?.. А ведь поэзия – либо ложь, либо самая дорогая жизненная правда. Если она ложь, так бросим же ее вместе с теоретиками, если она самая дорогая правда, так будем же серьезно доискиваться значения тех фактов жизни, которые выводит она перед нами в своих типах.
Будем… хорошо сказать: будем!.. А что скажут гг. Лука Вариантов {344} и tutti quanti? [114] 114
все прочие (ит.)
[Закрыть]Будем! А кто будет на нашей стороне?.. Славянофильство, опозоренное «Искрой», да разве новые «Отечественные записки» {345} , из чтения «Духовных стихов» г. Варенцова и песен, набранных у разных собирателей г. Якушкиным, извлекшие новое учение о народности… Плохая опора! А я тебе скажу, кто будет на твоей стороне, когда ты изъявишь честно и не виляя хвостом презрение к тону гг. Луки Вариантова и Прыжова {346} и начнешь о серьезном факте говорить серьезным образом. Народ будет, вот кто! Опять-таки ведь не в то, чтобы верить в Ивана Яковлевича, я тебя тяну, а в то, чтобы в жизнь и ее откровения верить и разъяснять их серьезно. Ты вон посмотри-ка: даже Н. Ф. Павлову, борцу старого западничества, и тому противен тон гг. Луки Вариантова и Прыжова {347} , противен потому, что он человек серьезный и мало кого боится: сам зубаст.
Хоть бы еще славянофильство. Ты подозреваешь и даже больше чем подозреваешь, ты знаешь положительно мою любовь и уважение к этому серьезному и честному направлению, но знаешь также, что славянофильство в моих глазах такая же теория, как и учение о соединении луны с землею. А все-таки ведь я за мое сочувствие к славянофильству подлец выхожу в глазах хоть, например, «Русского слова», заявившего при первом появлении «Дня» желание, чтобы на Руси было поменьше такихлитераторов, как г. И. Аксаков, или «Искры», сразу поставившей направление славянофильства на одной доске с направлением г. Аскоченского. Конечно, мне от этого ни тепло, ни холодно, тем больше что «Русское слово» мало кто читает, а «Искру» хоть и многие читают, но смотрят на нее, как на мешок, «что положишь, то и несет», да дело-то в том, что ты, моя серьезная редакция, мало будешь возмущаться тоном этих изданий, как-то потому слабо восстанешь на этот тон! Вот оно что…
А между тем еще раз прошу тебя не костить меня подлецом и вникать в дело.
Вот на слабые стороны славянофильства вы все накидываетесь, а великих-то его сторон как будто нарочно не видите. Читала ли ты, моя милая редакция, начало писем Ю. Ф. Самарина о материализме? {348} Если не читала, то мало делает тебе чести. Ведь эти письма равно бьют по морде и материализм, и обскурантизм с его кострами, инквизициями и другими менее грандиозными, но столь же действительными орудиями, положением, что всякой человеческой мысли должно быть предоставлено право самоубийства… Больше еще, они, как великий и серьезный мыслитель наших дней А. Ф., видят диалектическую необходимость путей материализма и также верят, что на самом деле разум человеческий вовсе не то, что для «Домашней беседы». Так чье же понимание свободы мысли шире? Славянофильское, представляющее всякой мысли право самоубийства, или понимание теории о соединении луны с землею, преследующей всякое понимание не по шерстке, доходящей временами до желаний халифа Омара?
Твое собственное, например, мнение насчет свободы мысли, я уверен, сходится совершенно с мнением славянофильства, по крайней мере, гораздо более, чем с мнениями последователей учения о соединении луны с землею. Почему я, спросишь ты, так смело уверен в том, в чем ты сама еще, может быть, не уверена? Да все потому же, что ты высказала уже веру в поэзию, философию, историю. С этой верой решительно несовместен деспотизм мысли, и ни с каким деспотизмом, хотя бы он развивал «человечину» до высшего благополучия, до полного блаженства стать на четвереньки, она не помирится. «Попала на эту точку, вертись на этой линии» или поскорей примкни к хору гг. Чернышевского, Антоновича и изринь из недра своего вольнодумные мысли гг. Григорьева, Страхова, Н. Косицы и Ненужного Человека {349} , отрекись и отплюнься от них. Нехорошие это мысли в их крайнем логическом развитии! Поверь ты мне: я ведь в опасностях диалектики человек опытный, я ведь Гамлет Щигровского уезда {350} .
Ну, будь ты последовательна в деле о славянофильстве, ведь ты бы сразу же, при первом своем появлении на свет божий, обругалась еще неприличнее «Русского слова», или поострилась бы площадыжнее«Искры», или сразу же подала бы руку возвышенному и честному направлению, споря с ним серьезно и, пожалуй, хоть до ножей во всех тех пунктах, где оно гнетет народ и жизнь под свою теорию, кастрирует народ и жизнь во имя узкого идеальчика.
Я глубоко сочувствую славянофильству в его любви к быту народа и к высшему благу народа – религии, но и глубоко же ненавижу это старо-боярское направление за его гордость, – так же точно, как глубоко люблю Москву как полный тип русской жизни и не сочувствую некоторым ее историческим несправедливостям… Ведь если, впрочем, ты, молодая и притом петербургская редакция, протянешь руку славянофильству, оно, ослепленное своей татарской гордостью, пожалуй, и не примет твоей руки. Оно только в себя верит, – и, в сущности, оно не народное, а старо-боярское направление. Народ для него – только степной, а не городовой народ: вся жизнь наша, сложившаяся в новой истории, для него– ложь; вся наша литература – кроме Аксакова и Гоголя – вздор. К Пушкину оно равнодушно, Островского не видит, и понятно, почему не видит: он ему хуже рожна на его дороге. Ведь выше князя Луповицкого {351} славянофильское художество не поднималось, потому что, собственно, и «Семейную хронику» и лучшие вещи Гоголя оттягает у славянофильства русская литература. А без художества – теория пропащее дело. Пусть в это ни славянофильство, ни «Русский вестник», ни «Современник» не верят – да мы-то с тобою, моя милейшая редакция, крепко верим!
Положим, что у славянофильства явен старо-боярский идеальчик; но, во-первых, с этим идеальчиком надобно было бы бороться только тогда, когда бы он имел какую-нибудь силу, – а во-вторых, кто же более славянофильства сочувствовал великому вопросу – даже в те времена, когда сочувствие было по множеству причин рановременно.А наконец, что же это мы за недоростки такие вечные, что не можем спокойно отнестись к мнениям, не согласным с нашими? Отчего это на Западе– никто не обвинит в подлости даже ультрамонтана Монталамбера {352} , а мы ершимся за малейшее противоречие?
Противоречие чему?.. Сами-то мы с тобой, моя почтенная редакция, знаем ли еще определенно, чего именно мы хотим, т. е. и объем и содержание нашего идеала? И знаешь ли что? Может быть, твоя сила, твое будущее – в том, что ты еще не отмежевала себе владений, что твой идеал еще расплывается в беспредельности, что он только вера, вера в жизнь и в народ. Вон идеал последователей учения о соединении луны с землею – очень определен и ясен для всякого разумеющего смысл писаний, – да черт ли в нем? Ведь при осуществлении его нам с тобой осталось бы только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых займутся фаланги усовершенствованной человечины. Вон тот идеальчик «Русского вестника» куда как ясен, – да ведь мы… не Англия. Или опять, идеал славянофильства тоже очень определенный; да ведь к старому не возвращаются…
Но ведь вот что: двух первых идеалов народ не поймет совсем, а последний своими формами может быть для него временно обольстителен. Ты этого не забывай… Поройся в глубине собственной души, – и если душа твоя той же складки, как душа, например, Пушкина, Тургенева, Островского, Толстого, – ты в ней обретешь много кровного сочувствия к этим формам.
Поставь ты себе вопрос беспощадно прямо. Ведь действительно: только корению основание крепко и проч…. Нас, – не народ, но нас, – от кореныоторвала реформа, и положение наше, во всяком случае, не нормальное, а болезненное… Но ведь в нас самих две натуры – одна сделанная, и она наружу, и другая, богом данная, и она в нас самих лежит под спудом, целостная и нетронутая, как жизнь народа с XII столетия. Даже в тех из наших деятелей, которых наиболее коснулось веяние чужой жизни, как в Пушкине и Тургеневе, – эта натура все-таки прорезывается, да еще как. «Капитанской дочкой», «Дворянским гнездом»! Почему же в нас-то ей тоже не прорваться из-под спуда. Стоит только освободиться от того, что в нас неискреннее, напущенное;стоит только отбросить ложный стыд, дать в себе волю кровным сочувствиям… Смирения только побольше, да не бараньего, а человеческого…
Пока мы будем буйствовать и коснеть в том, что в нас напущенное, славянофилы пожалуй что и правы в отношении к нам своей гордостью.
Как же скоро мы отбросим от себя «гнилую часть», – славянофильства нет более. Оно – прошедшее, тяготеющее над настоящим только потому, что настоящее насильственно давит в себе соки прошедшего, чуждается своей почвы… И покамест оно все-таки еще величавое, почтенное прошедшее. Лаяться на него постыдно.
Вот тоже сочувствую я очень многому в новом направлении «Отечественных записок»; не во гнев будь сказано, моя достойнейшая редакция, потому что ты, может быть, будешь с ними в постоянной контре. Открою тебе, между прочим, по секрету, что все ваши журнальные контрыпорядочно набили оскомину читателю и что г. Воскобойников {353} не совсем так смешон, как это показалось «Искре», с своим appel à la pudeur [115] 115
призывом к стыду (фр.).
[Закрыть] т. е. с своей статейкой: «Перестаньте драться, литераторы». Он выразил мнение известного круга читателей. Заметь, что я говорю: читателей, а не вообще публики.
Было бы тебе известно, «мать ты моя добродетельная», что я, многогрешный, насчет публики весьма легковерного мнения. Я был в восторге от статейки покойницы славянофильской «Молвы», разделившей два понятия {354} : публику и народ. Разграничение показалось многим очень обидно, потому что славянофильство не скрыло своего глубокого презрения к так называемой публике. Что оно не скрыло, – в этом оно, разумеется, поступило бестактно. Вообще, к славянофильству частенько можно обратиться с известным присловьем, относящимся, к сожалению, к «дурню-бабню», т. е.
То же бы ты слово,
Да не так бы молвил.
Да не в том дело. Всякое направление, если оно мало-мальски серьезно, внутренно презирает так называемую публику, – да не всякое это выскажет. Что Белинский презирал публику, т. е. то, что «почитывало» Булгарина и Греча и ходило в Александрийский театр хлопать в представлениях.
Драм злодейских,
Патриото-фарисейских,
Водевилей полицейских
И куплетов из лакейских,
что в наши дни покойный Добролюбов презирал, а г. Чернышевский поныне благополучно презирает публику, что «Русский вестник» ее презирает и презирал, что ты сама ее презираешь точно так же потому, что она в наше время такова же, как во времена Белинского, в этом нет ни малейшего сомнения. И в наши дни равно «почитывает» и… что бы?.. ну хоть вещи Толстого, когда они появляются, Писемского, Ф. Достоевского и ерундищу, которую напорол г. Ахшарумов в нескольких книжках «Русского вестника» (несомненно, даже с большим интересом и удовольствием); равно смотрит в театре и драмы Островского, и водевиль с переодеванием!!.. Публика, публика! Знаю я эту публику… Не скверни святого и великого слова «народ» отожествлением его с публикою. Публика – это нравственное мещанство… Я помню, как в одну и ту же зиму шли: «Не в свои сани не садись» и «Купец-лабазник» г. Владыкина, штука вроде штук г. Потехина-junior [116] 116
младшего (англ.).
[Закрыть] {355} (тоже ведь удовлетворяющихпублику), и как то, что называется публикой, находило больше смаку в жалкой, но полной перцу карикатуре г. Владыкина, чем в «Санях», и как народ,напротив, глубоко понимал своего великого поэта. Я помню также, как давали (раз только) нелепую в художественном отношении, но впервые правдивую, как изображение эпохи, драму Аксакова «Освобождение Москвы», как народ, понимая сердцем правду изображения, сочувствовал этой правде и выражал свое сочувствие и как публика шикала с парикмахерами Кузнецкого моста и блюстителями градского порядка. Все понял тут народ: и величавый лик Прокопия Ляпунова, и земский выбор Пожарского, и религиозный конец драмы, под оклик старых городовых. Ничего не поняла тут публика… Публика! Она едва прочла, я думаю, «Семейное счастье» Толстого и с заскоком читала «Подводный камень» г. Авдеева; она венчала лаврами г. Боборыкина и была холодна к одной из высших драм Островского «Бедной невесте»… Пойми ты или, лучше, сознайся ты, моя честная редакция, что всякое честное литературное дело начинается с презрения к так называемой публике; сознайся в кабинете, конечно, но отнюдь этого не высказывай… Даже советую тебе, ругни меня хорошенько за это в подстрочном примечании… а то ведь на тебя накинутся сотни разных имен, псевдонимов и букв, подписывающих газетные фельетончики и руководящих мнениями публики, говорящих равно как о деле и о драмах Островского, и о фабрикациях г. Чернышева, Потехина и иных, и о Толстом, и о г. Ахшарумове. Все эти гг. обличительные поэты, петербургские Дон-Кихоты и проч…и tutti quanti, им же имя легион. Ведь вот кто, в сущности, уважают публику, уважают потому, что сами плохо различают Островского от г. Чернышева, Мартынова от Бурдина или в другой области, например, Белинского от Добролюбова, даже Добролюбова от г. Антоновича. Они – сами публика, стоят с ней в уровень, а иногда и ниже ее, ma tanto meglio… [117] 117
и тем лучше (иг.).
[Закрыть]Тем они страшнее. Ведь у нас «кто раньше встал да палку взял, тот и капрал»!..
Да ты не думай, пожалуйста, чтобы я им, этим капралам-то, не сочувствовал. Нет! я им сочувствую, только в известной мере и степени. «Благодетельную гласность» хоть и очень в последнее трехлетие опозорить успели, а все-таки она «благодетельная гласность». Всякий голос важен в настоящую минуту, и всякий должен быть принят к сведению. Почем ты знаешь, может быть, и г. Г-ов {356} посреди своей ерунды обмолвится когда-нибудь путным словом…
А уж «Искре» как я сочувствую, – так этого ты и вообразить себе не можешь. Да и как не сочувствовать – сама ты посуди. В трущобе, где я жил, только и боятся в настоящее время, что «Искры». Завелся у нас обличитель, специальный обличитель нашего града Поганска {357} . Посмотрела бы ты, моя столичная редакция, какую он силу забрал… И ведь хорошо, что он силу забрал… хоть для виду-то многие стали по разным частям деятельности образ человеческий показывать… Так «Искре» как же не сочувствовать?..
Да только опять-таки сочувствую я ей в известной мере и степени. В этом-то моя и беда. Не сочувствуя вполне, я ведь все-таки перед ней подлец выхожу.
Ну а как я стану вполне сочувствовать? Читаю я это, примерно, опять-таки то, что пишет славянофильство, вижу и дикую статью покойного К. С. Аксакова {358} о русской литературе, статью, сказать прямо приходится, при всем уважении к памяти благородного деятеля, исполненную одного только тупого самодовольства и всякого посмеяния достойную; читаю я повесть г-жи Кохановской {359} и с сокрушением сердца готов оплакивать подчинение этого блестящего таланта славянофильские теориям; чувствую неодолимое отвращение к этому палачу самого себя и своей жертвы, Кирилле Петрову, к этому славянофильскому идеальчику русской глубокой натуры, которым г-жа Кохановская, увлеченная теориями своих наставников, думала, вероятно, отмстить за народ, оклеветанный якобы Писемским в лице Ананья {360} , и которым только доказала всю могучесть и простоту удивительного типа плохой (между нами сказать) драмы. Читаю я все это, но ведь вместе читаю и упомянутое мною письмо г. Ю. Самарина о материализме, отрывки из статей о воспитании Хомякова; читаю множество статей, в которых веет такой дух свободы, явно присутствует такое широкое понимание всякого дела, что ведь «Искре»-то, с ее мещански-ограниченным взглядом, позволительно было бы говорить о «Дне» разве только по дванадесятым праздникам. Ведь это не несчастные поэтики, которых она преследовала по jalousie du métier [118] 118
цеховой зависти (фр.).
[Закрыть], не сидельцы долговых отделений, на защиту человеческих прав которых она вооружалась всем своим остроумием, удостоившись, вероятно, всяческой признательности со стороны сажателей. Ведь это люди, о которых мыслители посерьезнее «Искры» выражаются так, например, как при известии о смерти А. С. Хомякова выразился один из писателей, на которых едва ли посягнет даже и «Искра», а именно: «Плохо вынашивает наш Север своих лучших людей» {361} . Читаешь и глазам своим не веришь! Газета, издаваемая Иваном Аксаковым, газета с именами Хомякова, С. Аксакова, К. Аксакова, Ю. Самарина сведена на одну доску с «Домашнею беседою»… Или это нечестно, или в «Искре» есть alienatio mentis [119] 119
помрачение ума (лат.).
[Закрыть], убеждение, что, кроме трактирных читателей, на Руси нет иных?.. что никому не известны эти имена, столь же благородные и дорогие для честных людей, как имена Чаадаева, Белинского, Грановского; что с этими именами связываются невольно в памяти и возвышенные убеждения, и смелая борьба за убеждения, борьба в те времена, когда «Искра», если бы она родилась, может быть, задумалась бы крепко: к кому ей выгоднеепримкнуть, к Белинскому или к Ф. Булгарину.
Убеждения!.. Да разве, в самом деле, могут быть дороги убеждения для тех, у кого нет убеждений! Разве…
Но лучше остановлюсь. Я человек отсталый, я ненужный человек, я принадлежу к поколению Рудиных, – на личной жизни которых лежит, может быть, много пятен, но которым слово – было святыня, которым убеждение было нечто большее их самих…
Я помню, как раз один из моих собратий рудиных на моих глазах напивался с одним из юных поборников «благодетельной гласности»… Рудин мой был один из самых ярких экземпляров рудиных. На нем тяготело много личных грехов, пожалуй, даже хуже, чем грехов, – неблаговидных по форме поступков: пил он не так, как добрые люди пьют, т. е. не с дилетантизмом, а пил «мертвую», хоть и не запоем, и чем больше пьянел он, тем становился безалабернее: страстные инстинкты его принимали колоссальные размеры, – ходульность доходила до комического; но он явным образом отвлекался от своей личности; он все сильнее и сильнее проникался фанатическою верою в убеждение. Юный поборник гласности, тогда еще рисковавший подчас попасть в долговое отделение, пил так, как пьют весьма многие «поборники гласности», т. е. дилетантски много и дилетантски легко; пил откупную и вчера и сегодня и, можно сказать наверное, пил бы завтра, в ожидании, что послезавтра он, усердно и верно служа «благодетельной гласности», будет в состоянии пить так же легко дорогие иностранные вина. Пьяны они были оба равно, и хоть я вполовину верю известной поговорке: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», ибо движения душевные поднимаются в этом состоянии до крайней точки своего логического развития, но все-таки основы этих движений действительно в душе существуют. Стало быть, я принял к сведению то, что поразило меня в их беседе. «Юбезный, юбезный, – говорил несколько шепелявивший поборник юной гласности, – посьюшай: неужли ты в твои года сурьезно веришь в убеждение?» Так меня, я тебе скажу, – громом и зашибло. Что ж? Ведь на моих глазах преуспел «служитель благодетельной гласности», – капиталистом стал, силой стал… Вот я так только к примеру припомнил, милейшая моя редакция, одного из юных поборников юной гласности. Он на моих глазах процвел «яко жезл Ааронов», – и доселе он, вероятно, благополучнейше процветает, когда последний из рудиных, я думаю, давно уж кончил свою земную Одиссею в далеком краю, куда занесла его служба государская – «да хмелинушка кабацкая»… Вспомнил я о том и о другом потому, что к слову пришлось. А между тем судьба того и другого… весьма поучительная, и в особенности судьба юного поборника юной гласности.
Я помню его еще юным, еще весьма юным. То было в те времена, когда о «благодетельной гласности» еще и в помине не было, и малейшее упущение по части петлиц и погончиков стояло в уровень с самыми криминальными деяниями, – незаконное же произрастание волос на непоказанных местах, как-то пониже уст и над устами, преследовалось наистрожайше потому, что «волос ведь глуп: он где и не следует растет». Юный тогда еще поборник гласности – хоть и готов был писать стихи, даже на именины своих непосредственных начальников, и мог бы при малом поощрении осуществить в действительности певца мандаринов, этот роскошный сон нового поэта, но по части погончиков и петличек весьма либеральничал, думая по младости лет и по неопытности, что это ничего, не повлечет никаких серьезных последствий… Последствия были, однако, очень серьезны: его исключили из службы. Увы! виновники исключения не знали, какой столб отечества могли они приобрести, снисходя несколько к невинным поползновениям юношеского вольномыслия…
Великий нравственный переворот совершился тогда в натуре моего героя. Мысли его, до того колебавшиеся, приняли решительное направление. Певец мандаринов, который мог бы развиться в нем при малейшем поощрении, – погиб в нем, увы! навсегда, тем более что вскоре после этого и воздух переменился.
Он был один из первых, справивших день рождения благодетельной гласности. Он яростно славил ее – славил даже более, чем В. А. Кокорев {362} . Après tout [120] 120
В конце концов ( фр.).
[Закрыть], едва ли мандарины в нем что-либо и потеряли. Он изменил бы им, забыл бы даже все поощрения, надул бы их в это время, как натура, весьма чувствительная к перемене воздуха…
О, как он начал петь тогда! Соловей в пору своей любви – сравнение слишком обветшалое, да и не выражающее значения песен моего юного друга… Он каркал вороною, ржал жеребчиком и истым вороном накидывался на всякую падаль. Он готов был пародировать, пожалуй, хоть «для берегов отчизны дальней» {363} , опоганить самый горький из горьких стонов Лермонтова, опошлить самое религиозное из стихотворений Тютчева. К этой-то лирической эпохе относилась рассказанная мною пьяная беседа с последним из рудиных.
Как теперь помню я его, «юного поборника юной гласности», – светозарного, торжествующего, считающего умственно барыши от всякого обнаруженного им скандала, от всякой, публично им данной или – что относительно барышей совершенно все равно – публично полученной им печатной оплеухи. В восторге самозабвения и в «жабвении чувств» Устиньки («Праздничный сон до обеда») – он пугал гласностию трактирщиков за мало-мальски преувеличенный счет, а тем паче за плохие вина. Соединя «приятное с полезным», он умом и чувством понимал, что выгоднов настоящую минуту «постоять за народ», и принял под свое покровительство, под покровительство «благодетельной гласности» – нахальство лихачей-извозчиков Невского проспекта… С азартом накидывался он на все, на что было возможно выгодно накинуться… Редко изменял ему в этом случае такт и совершенно уже перестал ему изменять с тех пор, как, неловко набросившись на покойного Добролюбова, – он съел зубы. Это был его единственный неосторожный поступок. Затем он сделался «пай-дитя» гласности. Он облаивал, как все, Сорокина, он даже пожертвовал своею прежнею симпатиею к Штукареву {364} и хватил его раза два вскользь в своих статейках… чем и умыл, как Пилат, руки перед публикой… Какою возвышенною ненавистью преисполнился он к обскурантизму, – как подымал он из-под спуда разные сведения о частной жизни и поведении г. Аскоченского, как ярился он по поводу похорон Ивана Яковлевича… Да, он был ревностный, рьяный поборник прогресса, замечательный орган гласности. Я находил всегда нечто трогательное в его самоотвержении, ибо я действительно видел в нем самоотвержение баядеры. Он и был баядера, только петербургская, а не индийская. В сущности, он не порешил для себя вопроса о том, где свет и где тьма, где просвещение и где обскурантизм, не поручусь даже и за то, что, ярясь против «Домашней беседы» и памяти Ивана Яковлевича, он временами не открещивался от бесов под одеялом. Он фанатически служил неведомому божеству, но только выбрал это божество вовсе не фанатически. Во времена процветания «субботних фельетонов» Ф. Б. {365} – он, может быть, с равным усердием служил бы в духе, этих фельетонов.






