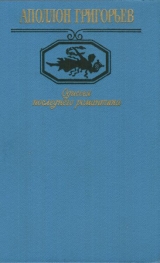
Текст книги "Одиссея последнего романтика"
Автор книги: Аполлон Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Умолкни, муза мести и печали…
Я сон чужой тревожить не хочу.
Довольно мы с тобою проклинали,
Один я умираю и молчу. {292}
Он же без волнения не может прочесть:
Еду ли ночью по улице темной. {293}
Хотя вместе с тем говорит не обинуясь, что исход этого стихотворения есть клевета на русскую жизнь и клевета на человеческую душу, что этот исход не общерусский, типический, а результат желчи и морального раздражения поэта… Напрасно многие весьма образованные госпожи читали ему эти стихи, закатывая глаза под лоб, с пафосом, с заскоком,употребляя его технический термин! Иван Иванович оставался и остается до сих пор при своем. Он раз пришел в истинный ужас, когда одна очень современная и развитая барыня, желая показать «в лучшем виде» – как говорят сидельцы про товар – необычайные способности своего восьмилетнего Петруши, или Пьерчика, заставила его прочесть перед Иваном Ивановичем с толком и чувством:
У бурмистра Власа бабушка Ненила. {294}
А когда я упрекнул его по этому поводу в моральном мещанстве – он расхохотался и объяснил мне, что он смотрит на дело не с нравственной точки зрения, а с эстетической, что самое стихотворение в нравственном смысле и обще-правильно и обще-чисто, но что Пушкин, а не Некрасов должен провожать русского человека в жизнь от колыбели до могилы, – на этом мы тогда и помирились: он ловко тронул мою чувствительную струну, мое религиозное поклонение величайшему представителю русской физиономии…
Ясно, что в Иване Ивановиче – столь своеобычливом в оценке современного лиризма – чрезмерное увлечение стихами, хотя и прекрасными, хотя и действительно вполне поэтическими, но, во всяком случае, только что появившимися в «Современнике» с подписью имени совершенно неизвестного, – меня изумило, а открытое им сходство молодого поэта с Лермонтовым – ошеломило окончательно.
– Как на Лермонтова! – заметил я почти что с ужасом на его речь.
– Да, на Лермонтова, – отвечал, нимало не смущаясь, мой последний романтик. – На Лермонтова, – повторил он, – да только по силе, по сталимысли, образов и стиха, но это и не Лермонтов, а это, говоря словами Лермонтова,—
Другой,
Еще не ведомый избранник. {295}
Да-с! Говорю вам это прямо. Тут размах силы таков, что из его, вследствие случайных обстоятельств, или ровно ничего не будет, или уж если будет, то что-нибудь большое будет. Да-с! Это не просто высокодаровитый лирик, как Фет, Полонский, Майков, Мей, это даже не великий, но замкнутый в своем одиноком религиозном миросозерцании поэт, как Тютчев… Это сила, сударь мой, это сила идет, новая, молодая сила. Она может разлететься прахом или создать новый мир, прекрасный мир, самобытный мир, что-нибудь из двух – среднего быть не может…
Я смотрел во все глаза на Ивана Ивановича. Он был совершенно в здравом уме и твердой памяти, – но нервы на его висках напряглись, глаза сверкали, движения были судорожны. Таков он был после третьего акта «Отелло», когда мы с ним видели великого Сальвини… {296} Таков он был еще в одну минуту, по поводу воспоминания о которой я опять ударюсь в маленькое отступление.
Это было в славном городе Флоренске вскоре после того, как мы с ним видели Сальвини в «Отелло»… Вставши рано в одно прекрасное – это здесь говорится не для красоты слога – утро и налюбовавшись вдоволь молоденькою свеженькою зеленью в Кашинах, я побрел пить чай к Ивану Ивановичу. Он жил в это время на площади Santa Maria Novella в camere ammobiliate [98] 98
меблированных комнатах (ит.).
[Закрыть]которые содержала огнеокая синьора Джузеппина, – та самая, которая сказала нам о Сальвини: amarlo un giorno e poi morir [99] 99
любить его один день, и после умереть ( ит.).
[Закрыть], с которой мой романтик как-то потом сошелся, встретившись с ней в Prato, куда мы с ним поехали смотреть католическую церемонию il volo d'asino [100] 100
полет осла (ит.).
[Закрыть], и которую он убедил еще гораздо лучше полюбить его на несколько дней и жить весело, чем Сальвини один день и умереть. Мне была страшная потребность видеть его в это утро. Накануне мы с ним читали «старую, вечно юную песню» – песню об Одиссее и из ее «морем шумящих страниц» черпали жизнь и упоение. Иван Иванович был в этот вечер решительно «богоравным мужем» {297} , он наглядно, очевидно показывал, как Гомер выпускает перед слушателями статую за статуею, то колоссальные изваяния, то легкие и светлые, – и какой-то ряд античных мраморных изваяний с незряще-зрящими сынами окружил нас – а через три дня назначен был нам с ним отъезд в вечный, как Одиссея, Рим: и нам было хорошо, и рады мы были и Одиссее и тому, что увидим вечный Рим, и тому даже, что огнеокая синьора Джузеппина лепетала контральтным тембром без толку и без умолку.
Ивана Ивановича застал я в то утро лежащим на софе у открытого окна и вдыхавшим в себя яркое итальянское утро. Едва я вошел, как он закричал мне: «А какой я нынче сон видел, caro amico!» [101] 101
дорогой друг (ит.).
[Закрыть]– и пустился рассказывать свой сон так поэтически, как мне не передать. Ему привиделось, что явился поэт давно-жданный, давно-желанный, – и поэт был на какой-то высокой башне в странной, фантастической одежде, – и что подходил он к нему уже не как к простому смертному и смотрел на него не как на простого смертного. И полились, рассказывал он, звуки, какие он не знает, но звуки, звуки то восторгающие, то томящие, то пылающие… Глаза его горели тогда таким же точно блеском, как в передаваемую мною ныне беседу… И как тогда, так и теперь я не прерывал, я слушал Ивана Ивановича, хотя, конечно, ни он, ни я не воображали, что явился именно такой поэт, какой пригрезился ему во сне.
– Слушайте, – продолжал он, опять взявши «Современник», – вы, неверующий или раз усумнившийся верить с тех пор, как вас пощипали за новое словоОстровского {298} . Слушайте. – И он прочел мне остальные стихотворения г. Случевского.
– Только ведь всего шесть стихотворений, – сказал он, кончивши чтение, – но их довольно. Тут есть все: и настоящая страстность, и умение рисовать намеками и широкими чертами, как в «Весталке», – и простота приема, простирающегося до дерзости, как в этом наивном сопоставлении жизни живых с жизнию мертвеца, скребущего землю и грызущего корни, – и фантастическое, как в «Вздохах» {299} , и, наконец, глубокий юмор, как в этом ветре, который
ходит избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом сыплет калачи
Бабы кривобокой. {300}
Ведь эта последняя пьеска – ведь это просто шалость, по какая смелая, свободная и размашистая по приему и глубокая по цельному чувству шалость! Так шалят только люди с огромными силами… А эти вздохи, собирающиеся
С горящего сном молодого лица,
С остынувших щек старика-мертвеца, {301}
эти вздохи – сильфы, которые
Венцы отливают в холодном свету.
В этой вещи фетовское сливается с тютчевским и образует нечто совершенно особое. Тут есть, пожалуй, своего рода капризность, своевольство, но капризность прелестная и своевольство могучее…
Тут раздается звонок, и вслед за ним в комнату ввалились трое господ, из которых двое вели одного под руки.
Я схватился поскорее за шапку, наскоро простился и пустился домой, оставив Ивана Иваныча в жертву вечернюю —постоянным и неутомимым товарищам его загулов.
Дома я успел пробежать многое в «Современнике» и в особенности остановился на поэтической, задушевно-глубокой статье Тургенева: «Гамлет и Дон-Кихот». Господа! Нам долго не нажить такого симпатического писателя, как Тургенев, писателя, который бы так искренно вкладывал всю свою душу в каждое свое произведение…
А потом я опять перечел стихи г. Случевского и…
Я ведь каюсь в этом публично – я почти согласен с Иваном Ивановичем, т. е. согласен с ним в том, что является новая сила,а какой ей будет исход – не возьму на себя дерзости решать заранее. Видимое дело только, что это – сила.Силе же и подобающий почет {302} , потому что она – божье дело, а не человеческое.
II
Но я должен рассказать читателям, как Иван Иванович воротился в отечество после трех лет странствований по иностранным государствам, и как он поселился в нумерах Демьяна Арсентьева, и что такое именно эти нумера, и почему мой эксцентрический приятель избрал их своим постоянным местопребыванием или, лучше сказать, почему он никак не может расстаться с этими нумерами.
Как я имел уже честь объявить в прошлый раз, я покинул в октябре месяце предпрошлого 1858 года моего романтика в Берлине, в крайне странном положении. {303} Стоял он во граде Берлине на Kurstrasse, близехонько от известной церкви, построенной учеными немцами в подражание готическому стилю и делающей неприятный эффект плохой декорации или вообще всего, сочиненного нарочно, – в отеле «Красного орла» и был там уже с месяц кругом должен, потому что в Париже допил, как Рудин, последний грош, а впрочем, жил как следует и как, по заветным преданиям, приличествует жить благородному российскому путешественнику, пользовался как кредитом в общем столе, так и почтением кельнера отеля, красивейшего и глупорылейшего брюнета, полагавшего, что Trinkgeld [102] 102
чаевые (нем.).
[Закрыть]служит необманчивым признаком благосостояния кармана высокогогостя, истреблял ежедневно немалое количество кисленького рейнвейну и ежедневно виделся с Fräulein Linchen, которая – несмотря на дальность расстояния (она жила на Besserstrasse) – прибывала «на своих на двоих», как говорится, с аккуратностью немки, в три часа пополудни в общий стол отеля и разделяла с Иваном Ивановичем обычную трапезу общего стола, состоявшую из блюд, приправленных самыми неестественными украшениями – и сочиненными немцами так же нарочно, как вымышленная мною декорация, – украшениями вроде сладкояблочного соуса к сосискам, и заключавшуюся всегда ломтиками нашего русского черного хлеба, вывезенного из-за моря и засушенного, с сквернейшего свойства сыром. Впрочем, Fräulein Linchen пожирала с большим удовольствием все нарочно сочиненные блюда трапезы, а Иван Иванович ел, как волк, – скоро, порывисто и выбирая только куски пожирней и побольше. Он не только не был гастрономом, но от всей души презирал гастрономию. Он и в ней был, как во всем, – романтик; есть жадно, есть много, есть до излишества – как, бывало, едал он на купеческих свадьбах и именинах – он нисколько не считал противным идеализму, убежденный, что всякое чисто естественное удовлетворение не противоречит духовному нашему бытию, – но возведение еды в науку, в утонченное и хитрое наслаждение, равно как и множество других успехов нашего века по части комфорта, – называл он постыдным служением маммоне. За это, как и за многое другое, его называли циником, но, в сущности, он циником не был, – белье его всегда было безукоризненно свежо и чисто, одевался он всегда хорошо, хотя несколько эксцентрично и обходясь со своим платьем, как запорожцы с их бархатными шароварами. Множество женщин даже любили в нем эту небрежность; вообще женщины, если они настоящие, простые женщины, любят не то, что приписывают им в любовь мужчины; они не считали даже моего приятеля циником, потому что знали его лучше и ближе нас, мужчин, – они, пожалуй, смеялись вместе с нами над небрежностью и странностью его костюма, но в смехе их часто отзывалось вот что: «ничего-то, мол, вы, господа, не знаете – совсем он не циник, и лучше вас, нисколько об этом не думая, знает, что к нему идет и что нет. Он только не цирюльная вывеска – да ведь цирюльные вывески правятся только дамам полусвета да неестественным госпожам, любящим развивать и подымать до себя(техническое выражение) личности, которые они полагают стоящими на низшей против себя ступени развития». Так не только думали, так даже говаривали иные женщины, говоря со мной об Иване Ивановиче.
Но – к делу.
Fräulein Linchen – если вам сколько-нибудь интересно знать об этой, впрочем весьма обыкновенной, личности – была словленаИваном Ивановичем в присутствии моем и в присутствии другого моего приятеля, старого грешника {304} , постоянно распаленного сладострастием и распалявшегося таковым даже при созерцании картин и статуй, потому что самое наслаждение изящным обратилось для него в духовное сладострастие, по казенному порядку в Тиргартене угощена сквернейшим глинтвейном и увезена на известном экипаже, именуемом Droschki, – к крайнему огорчению моего милейшего старого сатира, оставленного Иваном Ивановичем в очистительную жертву ужаснейшей харите,непозволительной тому рожру, —перезрелой сопутнице Fräulein Linchen, от которой милый сатир едва мог отделаться…
С этого вечера в Тиргартене Fräulein Linchen сделалась самым обычным явлением в номере гастгауза «Zum Rothen Adler» [103] 103
«У Красного орла» (нем.).
[Закрыть]занимаемом Иваном Ивановичем, и, как истая немка, привязалась не к одним прусским талерам, – а к многим качествам Ивана Ивановича, соединяя с полезным приятное и делая так, чтобы и критическим целям было не противно и на schones Gefuhl [104] 104
прекрасное чувство (нем.).
[Закрыть], на сладкое чувствие любви похоже… Как истая немка, она изливала свою душу в ласкательных прозвищах, как-то: «meine schöne Puppe» [105] 105
«моя куколка» (нем.).
[Закрыть]и других, расточаемых ею даже на отдельные части особы Ивана Ивановича, вроде руки, носа и проч.; Ивану Ивановичу таковые изъявления чувствий были ужасно противны, по ему нужно было присутствие женщины, а я не находил даже этого и противным, ибо как в немцах, так и в немках не видал никогда ничего естественного: стало быть, одной неестественностью больше, одной меньше – не все ли равно. На мои глаза, даже Fräulein Linchen во сто крат была сноснее парижской приятельницы моего приятеля, рыжей m-lle Henriette, от которой, кроме постоянных жалоб на portier [106] 106
привратника (фр.).
[Закрыть]ее квартиры, жалоб, излагаемых всегда в выражениях весьма энергических и даме не совершенно приличных, постоянных сплетен про какую-то m-lle Estelle, тревожившую ее своими успехами в château de fleurs [107] 107
цветочном замке (фр.).
[Закрыть], да толков о доблестных качествах души доктора Риккора, почему-то особенно ей любезного, я ничего не слыхивал. А в ней, в этой худой, сухой сердцем, исполненной пошлейших претензий m-lle Henriette, Иван Иванович ухитрялся находить особенного рода грацию, змеиные свойства и проч. и проч.
Да что же это, наконец, такое? – может возопить гласом велиим редакция «Сына отечества». Я вас пригласила (так онаможет сказать – абстракция, моральное лицо, называемое редакциею), – я вас, милостивый государь, пригласила обозревать еженедельно ход русской словесности, а наипаче российской журналистики, а вы пишете мне малоназидательные истории о вашем приятеле Иване Ивановиче, забывая, что я, редакция, – лицо моральное в двояком смысле. На это я могу ответить только, что, во-первых, я обязанности своей не забуду и в мраке забвения явлений русской словесности не оставлю, – только всякой вещи есть время под солнцем; и во-вторых, что рассказы мои получат со временем и достодолжную назидательность, хотя и в настоящем случае они в назидательности нисколько не уступают – уступая, конечно, во всем другом – рассказам Нового Поэта о Миннах Антоновнах {305} , Александрах Васильевнах, Шарлоттах Карловнах и других госпожах, пользующихся повсеместной известностью и составляющих часто questions palpitantes [108] 108
животрепещущие вопросы (фр.).
[Закрыть]фельетонов нисколько не подозрительного в отношении к нравственности журнала «Nord» {306} – под рубрикой Russie, – насущный хлеб, несомненно, даровитого писателя, известного под именем Нового Поэта, частый предмет ювеналовской желчи или болезненной скорби г. Некрасова… Помилуйте! Почему же я один лишен буду сладкого права говорить о полусвете {307} ?.. Нет, нет! Anche io son pittore [109] 109
Я тоже художник (ит.).
[Закрыть]– я тоже современный человек… Положим, что я прежде вопиял на излишество занятий этим достолюбезным предметом, – это ничего, я повинуюсь веянию минуты, я современный человек, по крайней мере, хочу, во что бы то ни стало хочубыть современным человеком. Что значит, что я прежде говорил другое? Я развиваюсь, я уже развился под влиянием блистательнейших примеров перемен мнений, подаваемых в наше время людьми, идущими вперед. Ведь напечатал же, например, «Современник», и напечатал с большим почетом, стихотворение г. Бенедиктова, над которым он нахальнейшим образом глумился тому назад год с небольшим {308} . Вы скажете, что он глумился не над такими стихотворениями, какие напечатаны им в январской книжке. Нет, эта шутка стара, ее бросить пора, как говорит Любим Карпыч Торцов. Глумление, и самое неистовое, производилось над стихотворениями, писанными г. Бенедиктовым именно в таком духе, в каком писаны стихотворения его, напечатанные в январской книжке. А другой столь же блистательный пример перемены мнений, подаваемый этою же январской книжкою «Современника», – относительно вопроса «о происхождении Варягов – Руси». В апреле 1859 года, по поводу выхода книжки г. Васильева, глумление самое ядовитое насчет выводов происхождения Варягов – Руси из балтийского славянского поморья, а не из Скандинавии, – стояние за Шлецера самое ратоборственное. В январе 18(50 года появляется в январской книжке статья Н. И. Костомарова, и – ветер переменяется. Статья Н. И. Костомарова действительно превосходная: в ней покончено, кажется, дело с Скандинавией, по крайней мере сильно подорвано, но в ней есть и свой хвостик – спорный хвостик, именно: литовское происхождение Руси. И вот рецензенты «Современника», в той же самой книжке, в которой помещена статья Н. И. Костомарова, – уверовали в нее, как в несомненную истину, и глумление, подобное лаю, раздается на Погодина за то, что он выводит Русь из Скандинавии {309} . Замечательная способность у «Современника»: быстро и пламенно уверовать. Да и один ли «Современник»? А покаятельнаястатья {310} 1-го № «Отечественных записок» об Островском? Положим, что статья написана серьезнейшим из наших критиков, непричастным к лаю на Островского, неумолчно раздававшемуся в «Отечественных записках» в продолжение нескольких лет, но ведь статья напечатана в этом журнале и в отношении к журналу является истинно покаятельною…А надгробное слово, произносимое честно над «Русскою беседою» фельетоном «С.-Петербургских ведомостей» {311} ,– может быть, впрочем, потому, что надгробное слово над честно и со славою павшим борцом, бесполезное ему, не вредит и никому из живых?.. Все таковые примеры, как хотите, ужасно соблазнительны. Вот и я развился, вот и я говорю, и говорю с сластью о том, о чем – по прежним моим понятиям – «нелеть есть человеку глаголати», – оттого, что и я развился, и я пошел вперед вместе с веком. «Ничего, можно!» – говорю я вместе с нашими журнальными Антипами Аптипычами Пузатовыми.
А давно ли думал иначе?.. Давно ли, неразвитый человек, писал я к друзьям издалека следующее… Вы позволите мне эту маленькую выдержку из памятной книжки моих странствований и так характеризующую мой тогдашний неразвитый и несовременный взгляд.
«Пароход тронулся… Скоро Петербург стал обращаться в страшную и безразличную массу строений… Помянуть мне его чем-нибудь хорошим в этот приезд было вовсе не за что – да и вообще, «как волка не корми, он все к лесу глядит»; та же история со всяким москвичом в отношении к Петербургу. Единственное впечатление, которое Петербург оставил во мне на этот раз, было вот какое. Ездил я, не помню уже куда, право: в Виллу Боргезе или к Излеру, – дело в том, что как в Вилле Боргезе, так и у Излера равно скучно и что в оба эти места печальных удовольствий ездят на пароходах… Итак, возвращался с которого-то из них: ночь была хоть и убийственно холодная (в июле!), даже морозная, больным глазам моим хоть и страшно вреден был дым пароходного топлива, который ветром относило прямо в мою сторону, – полусвет (demi-monde) петербургский, который в последнее время сделался для литературы журнальной столь важен, что – поверить ей, так он есть уже существенная, а не наносная язва нашей общественной жизни, – полусвет, я говорю, и на гулянье и на пароходе действительно один метался в глаза… Все, одним словом, способно было породить желчную хандру, если она еще не родилась в душе, и значительно развить ее, уже родившуюся… А все-таки холодная ночь была прекрасна, и прекрасны были острова по Неве, и величава была сама Нева… Не знаю, что говорил полусвет, потому что я ушел от него на маленькую верхнюю палубу маленького парохода, но знаю, что сидевшие со мною весьма солидные господа рассуждали о производствах и повышениях, – разговор, может быть, и весьма назидательный, но мало соответствовавший фантастически-странной морозной июльской ночи… Мне думалось: как бы, кажется, не повеселиться людям от души, как иногда веселятся еще у нас в Москве, не повеселиться, пожалуй, хоть с загулом…
Много передумал я тогда. Уже самое то, что литература в наше время могла упастьдо того, чтобы как с действительно существующим врагом бороться с полусветом,да и полно, бороться ли? – не скорее ли тешить и читателей и себя его изображениями под благопристойным и по-видимому благородным предлогом обличений, в сущности же, по несчастной, укоренившейся в душе привычке жить и дышать его приторным воздухом… Уже самый этот факт не принадлежит к числу весьма утешительных. А тут припомнилось еще и представилось с ясностью, что и другая сторона слишком загромоздила собою нашу мысль, что первый Гоголь в «Невском проспекте», с одной стороны, и в «Шинели», с другой, – поддался слишком желчному, хандрящему, болезненному чувству в отношении к тому, что есть не явление жизни, а только мираж ее, и что вслед за тем мы все более и более или менее поддаемся тому же… Все это именно в таком смутном, для меня самого еще не разъясненном виде пронеслось в эту ночь в моей душе, а больные глаза мои горели, и сердце как-то странно ныло. Да, с недобрыми впечатлениями покидал я Петербург, с впечатлениями, похожими на зловредный дым каменного угля.
А Петербург, пока поверял я свои впечатления этого приезда, уже исчез из моих глаз, и вдали, как темное пятно, начал показываться Кронштадт, Поверял же я впечатления по той простой причине, что иного решительно мне было нечего делать. И на пароходе, по крайней мере до Кронштадта, – перед глазами моими мелькал все тот же полусвет».
Вот что я писал тому назад не очень давно, если мерить время по-старому, и ужасно давно, если мерить его развитием«Современника».
Как оскорблялся я, старый юноша, уже бывши и за границей, прекрасными фельетонами «Норда» {312} , этого благодетеля нашего, этого великодушного журнала, удостаивающего заниматься медвежьею нашею жизнью, – фельетонами, повествовавшими о цветах нашей юной образованности, о судьбах и приключениях героев и героинь полусвета… Мне же, неблагодарному, эти цветы еще казались клеветой на нашу земскуюжизнь, клеветой на великий и свежий силами народ, у которого – думал я тогда – есть широкая гульба…
До поры,
До утренней до зари,
Гульба по душе, гульба
Весеннюю ночку, весь денечек,
Осеннюю ночку до светочку…
которого женщина скажет иную пору:
Меня молоду домой свекор кличет,
Уж ты кличь не кличь, я домой не буду,
Буду ль, нет ли, я завтра поутру…
но который мало понимает утонченную прелесть «мраморных дев», – пожалуй, в порывах своего разгула, своей душевной макарьевской ярмарки, горстями бросит им золото, но с омерзением отвернется от этого мира в сознании и плюнет на его интересы.
Вот еще какой я был дикарь тогда. Но я развился – даю вам честное, благородное слово, что я развился, – а Иван Иванович, напротив, остался в этом отношении по-старому романтиком. Да вы не смейтесь… Это так. Он говорит всегда, как езуитские проповедники: делайте, что я говорю, а не то, что я делаю… Да и на деле-то, и в самой-то жизни – он только внешним образом отдается обаянию современного прогресса. Вот я вам расскажу в следующий раз, какую беседу имел я с ним по поводу стихотворения г. Некрасова, напечатанного в 1-м № «Современника» {313} .






