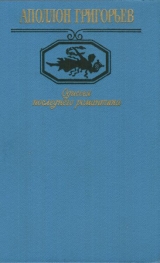
Текст книги "Одиссея последнего романтика"
Автор книги: Аполлон Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Москва и Петербург: заметки зеваки {268}
1. Вечер и ночь кочующего варяга в Москве и Петербурге
Прежде всего и паче всего прошу покорнейше читателей этих беглых впечатлений – если только найдутся для них читатели – не обольщаться громким названием «Москва и Петербург», не ждать здесь полной, систематической характеристики головы и сердца России, – предуведомление, впрочем, кажется, лишнее, благодаря терпению добрых русских читателей, давно уже испытанному и громкими названиями, и огромными предприятиями. Мои заметки в полном смысле – впечатления зеваки, не французского фланера, который фланирует для того, чтобы видеть и замечать, потому что живет гораздо более жизнию других, чем собственною, – не немца-путешественника, который и смотрит-то на что-нибудь не иначе, как с научною целию, – не англичанина-туриста, который возит всюду только самого себя и показывает только собственную особу, – нет, это беспритязательные, простые заметки русского зеваки, зевающего часто для того, чтобы зевать, зевать на все – и на собственную лень, и на чужую деятельность. Зевота как искусство для искусства, искусство само по себе служащее целию – найдено только русской природой, выражаясь словом господ, зевающих на собственную лень, – и никаким уже образом не есть порождение лукавого Запада, употребляя принятый термин других господ, зевающих на чужую деятельность.
Но дело не в зевоте, не в хандре – дело в Москве и Петербурге, хотя, право, в иную минуту оба эти города кажутся представителями двух этих различных родов зевоты.
Случалось ли вам когда-нибудь ездить по Москве зимней ночью – зимою в Москве и в семь часов уже ночь. Перед вами вереницами и рядами тянутся длинные заборы дворов, то большие, то небольшие дома – на улице ни души, изредка только полозья саней прорежут полосу на рыхлом снеге, да по маленькому тротуару пройдет прохожий, кутаясь в шубу. Все тихо – но отчего так полна для вас жизни эта тишина, не той жизни, которой все интересы сосредоточены в повышениях и партии преферанса, – нет, иной какой-то жизни, забытой вами или, может быть, даже вовсе неиспытанной, но понятной, но доступной вашей русской природе. Посмотрите, сквозь ставни этих уютных маленьких домиков прорезывается приветная полоса света, цельные стекла этих изящных одноэтажных домов освещены ярко, так, кажется, и обливают вас роскошью своего освещения; приподнимитесь немного на ваших санях, остановитесь, если вам нечего делать, некуда спешить, и в цельное окно хорошенького домика вы увидите и стол с стоящим на нем самоваром, и целый круг семьи, столпившейся около этого самовара… и мало ли что вы еще увидите – быть может, свеженькую, алебастровую ручку, грациозно подающую стакан крепкого чаю кому-нибудь из братьев, быть может, рассеянные, подернутые влагой глазки, которые невольно оборачиваются к окну, в то время как их хозяйка, по-видимому, занята только разливанием чаю, глазки, в которых прочтете все нетерпение, каким снабжена русская женщина. И если вы бездомник, если вы варяг в этом славянском мире, если вы не имеете части в семейном самоваре, зачем, за что и почему обоймет вас хандра неодолимая, зачем, как Репетилов, готовы вы сказать своему кучеру: вези меня куда-нибудь… {269} Но куда, куда? еще только шесть часов – вас не тянет ни в театр, надоевший вам до смерти, ни в клуб, в котором просидели вы целое после-обеда, ни к таким же, как вы, бездомникам – вам хочется звуков, вам хочется выражений для этой неопределенной, непонятной тоскливой хандры, – и если у вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые вы можете кинуть задаром, – о! тогда, уверяю вас честью порядочного зеваки, – вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно странных песен {270} , и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать мою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу странною песнию или когда бешеный, неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина {271} : «Ах? ты слышишь ли, разумеешь ли?..» Не эвал, не эвоэ – но другое, скажете вы, распустивши русскую душу во всю распашку… Но ваша душа чересчур переполнилась, вы снова кидаетесь в сани, вы велите ехать куда-нибудь, на одни из тех вечеров, где принимают всякого, даже и варяга, если только известно, что он в состоянии сказать какую-нибудь новую истину, потому что Москва с жадностию бросается на всякую новую истину, как будто Москве нужны новые истины, нужнее, чем для Петербурга ясное небо и чистый воздух. У! Боже мой! какая атмосфера или, скорее, какая разнообразная атмосфера ума окружит вас, как только вы очутитесь в центре такого кружка, – слой ума западного, с его подразделениями на французский и немецкий, слой ума восточного, слой, наконец, ума чисто прадедовского, с памятью жирных пиров доброго старого времени. Но отчего – если только вы пожаловали на такой вечер с свежею, еще не отуманенною вполне московской жизнию, головой, – отчего, говорю я, чем-то странным повеет на вас от этого ума и от этих важных вопросов, которых вы наслушаетесь? – ведь вопросы эти в самом деле очень важны? ведь сочувствие к ним – величайший признак развития?.. Но что до них, бьет полночь – а сегодня театральный маскарад, и вы как порядочный зевака любите, разумеется, толкаться с своею хандрою везде, где только она может получить пищу. – Ну, вот вы и там, вы ходите между масок и домино, но в числе этих домино тщетно будете вы искать хоть один волнообразный стан, хоть одну алебастровую ручку, которые грезились вам в цельное окно хорошенького домика; под этими масками не увидите вы живых и быстрых глазок, которые подернуты были влагою беспредметного нетерпения; куда же стремилось это нетерпение… никуда, о, верьте, никуда: оно родилось и замерло в семейном кружке; оно не помчалось сюда, легкое и воздушное, как сильф; оно тихо заснуло на своем одиноком девственном ложе – и Бог его ведает, что ему грезится теперь, этому юному нетерпению. Что до него?.. а между тем вас объяла опять цыганская вакханалия с томительно-нежною песней – «Полюби меня, душа девица!» – что до него?.. а между тем вся душа так и рвется на простор, так и ищет цели, любви, жизни… Кругом вас пошлые физиономии, бесстрастно-продажные ласки и бессмысленный кутеж… И снова мчат вас сани по пустынным улицам, и снова утомленному взгляду вашему хотелось бы успокоиться на кроткой семейной картине, на девственном образе – но все тихо, все тихо… изредка только, быть может, в одиноком покое девочки брезжит лампада перед ликом Пречистой Девы.
Иная, совсем иная ночь в городе, который называют головой России…
Вы отобедали (обыкновенно очень плохо); вас, разумеется, тоже выгнало что-то из дому, но это что-то не хандра русского человека, не бесконечная жажда жизни, не беспредметная любовь – нет, просто пошлая, бесстрастная скука, просто врожденное во всяком истом петербургце отвращение от домашнего очага. Да и какой, в самом деле, это очаг? Этот очаг просто-напросто, как известно моим читателям-варягам, – комната со столом и прислугою, изобретенье, нарочно придуманное для кочевья… Вы оставили ваше кочевье и пошли туда, куда имеете привычку ходить ежедневно, – в один из кафе-ресторанов Невского проспекта. Вы там, вы закрыли свою физиономию огромным листом «Дебатов» или «Прессы» {272} , вы погрузились в речь Гизо – и прекрасно! Разумеется, что вы, в своей совести, сами смеетесь над своим участием к вопросам, отстоящим от вас на тысячу миль пространства, – ведь пьют же турки опиум; вредно, может быть, да хорошо! грезишь себе да грезишь, грезишь до тех пор, пока пройдет состояние организма, бывающее обыкновенно после обеда, грезишь, пока не проснется жажда какой-нибудь деятельности… но какой же, какой? – деятельность ваша, даже и деятельность своекорыстия, деятельность наслаждения так определенна, так размерена, – деятельность в пользу других (не забудьте, почтеннейший читатель, что я употребляю выражения, которыми вы сами любите себя обманывать), эта деятельность еще определеннее, она кончилась в четыре часа… перед вами реестр ваших наслаждений – перед вами Мартынов, Плесси {273} и итальянцы {274} . Куда-нибудь – не все ли равно?.. И вот вы хоть в Александрии, и даровитый Мартынов {275} заставит вас смеяться, хоть бы вы были скучнее осеннего петербургского вечера, – но что-то натянутое есть в вашем смехе, – и вот вы в Михайловском, и перед вами чудная артистка, великолепная Дона Флоринда – кого не расшевелит ее страстный шепот, ее то медленная, то сыплющаяся искрами речь… Но отчего на всех этих окружающих вас физиономиях написан какой-то заказной восторг, какое-то недоверие к возможности и разумности наслаждения, отчего самое наслаждение давит вас самих зевотой пресыщения? Отчего, отчего? Тяжелый вопрос – мимо его! Вы вышли из театра… тяжело как-то давят вас громады зданий с их великолепным лицом, с их черными боками; они сами, эти здания, как-то тяготеют к болотистой почве, они как-то и освещены скудно, несообразно с своею величиною – да и зачем освещаться чему-нибудь в этих зданиях, кроме магазинов и кондитерских, – семейства прячутся как будто вовнутрь дворов; они не приглашают радушно к своему самовару, а если и приглашают, то приглашают церемонно, с известною целию. Скучно вам! только в верхних этажах виден подозрительно-гостеприимный свет; скучно вам, но не жаждою иной, лучшей жизни отзывается эта скука… где ее взять, этой иной, родственной вам сферы жизни; а негде взять, так и делать нечего… Идите себе перекинуть пульку или два преферанса, чтобы окончательно уходиться за таким полезным занятием, – ну а если ваша натура не уходится и от этого, вас ждет еще ряд наслаждений – сегодня одна почтенная дама зовет целый Петербург в свое танцевальное собрание. Вы там: в ушах ваших дребезжат польки с тамтамами и без тамтамов, польки-мазурки, и две-три пары неистовствуют под их звуки, для удовольствия господ зевающих и господ, вымещающих удаль на бутылках шампанского. Чего же вам?.. жизнь, кажется, полная – кудри вьются по плечам, – завитые, разумеется, Домергом или Видалем, – щеки горят – magasin cosmetique снабжает отличным румянцем, – движения прилично неистовы, – но из-под длинных платьев глядят немецкие ноги, но глаза не горят на этих рыбьих физиономиях, – и становится вам неприятно – но цель ваша достигнута, вы утомлены и спите…
Да не подумают читатели, что в наших беглых впечатлениях преднамеренно очерк московского вечера и московской ночи как-то если не представляет более жизни, то, по крайней мере, хоть говорит о жажде жизни… Прежде всего, это только впечатление, это только вид издали – приближтесь-ка, попробуйте, к каждому явлению в особенности, хотя к семейному началу, которого присутствие так ярко в Москве везде и повсюду… посмотрю я тогда, что вы скажете, – это семейное радушие, эти обеды – знаете ли, что при случае, пожалуй, хлебосол вам припомнится… Эти живые глазки, подернутые влагой, они, может быть, состоят непосредственно на ловле мужа – ибо ни в ком столько, как в московской барышне, ловля мужа не перешла в тело и кровь, – с ней опасно говорить, с московской барышней; ибо, если она уж говорит с вами… Но я не обязан объяснять вам, что это значит, – я передаю вам только беглые, летучие впечатления кочующего варяга. Зачем рыться далеко вглубь, зачем некстати возобновлять последний монолог Чацкого? {276}
Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах {277}
I
Едва я дал слово редактору «Сына отечества» принять на себя обязанность извещать многочисленных читателей его журнала о современных явлениях нашей словесности и (наипаче) нашей журналистики, плодящейся и множащейся у нас не по годам и месяцам, а по дням и по часам, – едва я дал такое слово, как уже почувствовал и страх, и нечто похожее на раскаяние и угрызения совести. Есть ли возможность, – подумал я невольно, – в сжатых, но между тем в возможно полных очерках, – еженедельно и непременно к сроку, – непременно к середе, роковой середе («не позже середы» – гласило редакторское распоряжение), – представлять все разнообразное движение разнообразной нашей письменности?.. Потому что, во всяком случае, приходилось литературу принять в широком смысле, в смысле письменности, – иначе грозила опасность попасть в другое, тоже крайне неприятное положение. Попробуй-ка посмотреть на литературу, как на искусство, – за недостатком материалов в два, в три месяца раз напишешь статью. Статья выйдет, пожалуй, и широковещательная, пожалуй, и серьезная, да читатели не будут довольны и, надо сказать правду, – по всей справедливости не будут довольны. Они хотят отчета о современном движении умственном и нравственном, а я их буду угощать только тем, что мне лично нравится, меня лично занимает или шевелит, во мне пробуждает умственную и душевную работу.
В крайне колеблющемся, гамлетическом состоянии духа пришел я к приятелю моему, Ивану Ивановичу.
Но ведь никто не обязан знать: кто такой Иван Иванович?.. Положим, что с его любезною мне личностью уже знакомил я читателя… но увы! читателей другого журнала {278} , но увы! так давно… в начале прошлого года: а бытие рассказа, почиющего в журнале, – если рассказ не выдается резко из ряда других, – похоже на бытие шекспировских сильфов «Сна в летнюю ночь», для которых треть минуты служит единицею измерения времени… но еще более увы! рассказ был только началом без продолжения; стало быть, – и та небольшая доля силы, которая была в нем, – если только была, – парализована.
А между тем мне необходимо познакомить читателей с моим Иваном Ивановичем. Он разрешил – как разрешал часто и прежде – все мои недоумения, разрешил, сам о том не думая, разрешил не мудрыми советами, а просто собственною своею особою…
Приходится прибегнуть к простейшему средству показать читателям Ивана Ивановича только с тех сторон, которые нужны для начатого мною дела.
Иван Иванович – мой старый знакомец, знакомец с детских лет. Мы чуть что не родились вместе – а росли так уж истинно вместе. Мы с ним и потом, выйдя из отроческих лет, живали полосами – и довольно частыми полосами – общею жизнию. Временами – и довольно надолго – я терял его из виду: случалось мне даже думать, что я навсегда потерял его из виду, – и вдруг он совершенно неожиданно возник передо мною, вечно тот же, вечный и последний романтик…
В 1858 году, в октябре месяце, я расстался с ним в Берлине {279} , где встретил его точно так же неожиданно, как и всегда… Возвращаясь в любезное отечество, я покидал его там в положении, весьма похожем на положение тургеневского Рудина в эпилоге этой повести, – в положении, которому помочь никак не мог, к крайнему моему прискорбию: покидал больного, желчного, хандрящего, витающего по земле, – да еще вдобавок по чужой земле, да еще, кроме того, по немецкой земле, без средств и без дели, и в январе 1859 года опять увидал его в Петербурге… живого, здорового и по-старому – прожигающегожизнь. Да! я решительно убежден, что над Хлобуевыми, – ибо мой Иван Иванович столько же Хлобуев {280} , сколько Рудин {281} и Веретьев {282} ,– что над Хлобуевыми, говорю я, носится какая-то особенная, хранящая их сила…
Не стану описывать вам – даже и вкратце – похождений Ивана Иваныча в Петербурге. Вся жизнь этого странного господина сплетена из романтических историй: на ловца ли зверь бежит, сам ли он создает вокруг себя эти истории, но только это не так… До этой чисто жизненной стороны его личности читателям в настоящую минуту нет, впрочем, никакого дела, ибо она к предмету не относится.
Я люблю Ивана Ивановича в особенности за самостоятельность его ума, за ту полную самостоятельность, которой я не встречал ни в ком, кроме его, изо всех моих знакомых.
Самостоятельность эта, – если хотите, – капризна; в ней, кроме того, проглядывает подчас какая-то для нас всех, более или менее добрых и честных мещан или напрягающих себя на ярый фанатизм теоретиков, – страшная отрешенность от множества положений, признаваемых за непоколебимые. Один общий наш с Иваном Ивановичем приятель серьезно упрекал не раз при мне Ивана Ивановича в положительном отсутствии того, что на языке обыкновенных смертных зовется нравственностью и что Иван Иванович зовет индравственностью.Тот же самый весьма остроумный общий наш с Иваном Ивановичем приятель шутя, но сознательно говаривал часто, что у хороших людей зовется угрызениями совести, у Ивана Ивановича носит романтическое название хандры; он, пожалуй, и прав, наш общий приятель, – но за что же он любит Ивана Ивановича… если уже, впрочем, не разлюбил? За что я его люблю – я это очень хорошо знаю и не обинуясь отвечу: за особую складку его ума и за его искренность во всем, в дурном и хорошем. Еще я люблю его за то, что он вовсе не теоретик, а человек жизни, что ему под сорок, а он все еще, даже до сих пор, – вера в жизнь и жажда жизни, что под этим словом «жизнь» разумеет он не слепое веяние минуты, а великую, неистощающуюся, всегда единую тайну… Некоторого рода трансцендентализм – роднит нас с Иваном Ивановичем, хотя я никогда не могу идти так смело и так последовательно по пути этого трансцендентализма, как мой приятель… ни в жизни, ни в мысли, когда дело дойдет до приложений мысли к явлениям – каким бы то ни было, – хотя бы даже литературным.
Иван Иванович сам не окунулся в литературу, хотя пишет стихи по старой памяти. Стихи его – это какие-то клочки живого мяса, вырванного прямо с кровью из живого тела. Право! лучше сравнения я не нахожу, и потому они имеют значение только для тех, кто знает жизнь Ивана Ивановича, стало быть, для очень немногих, да и этим немногим известны только полосы жизни, а не вся жизнь Ивана Ивановича. Природа вообще, кажется, собиралась создать из Ивана Иваныча артиста, но почему-то не докончила своего зачинания. Чтоб быть артистом, Ивану Ивановичу нужно было сосредоточиться в самого себя, а он любил всегда лучше переживать жизнь в жизни, чем, переживая и перерабатывая ее в сознании, передавать в письме, образе или звуке…
Вообще странный и оригинальный субъект мой Иван Иванович, оригинальный, впрочем, как хаос, а не как стройное явление. Столь упорной воли с величайшей бесхарактерностью, горячей веры с безобразным цинизмом, искренних убеждений с отсутствием всяких прочных основ в жизни… право, я не умею иначе назвать, как хаосом, моего последнего романтика… Да и последнийли он, вот что часто приходило и приходит мне в голову…
Но об этом речь еще, может быть, впереди.
Дело в том, что к этому самому Ивану Ивановичу направился я из редакции «Сына отечества» – в вышеупомянутом мною тревожном состоянии духа.
Иван Иванович живет довольно далеко от места, где помещается редакция «Сына отечества». Он вообще не любит Петербурга, хоть и живет в нем теперь, хоть и проживет, может быть, долго, – и в самом Петербурге основался в такой стороне его, которая лежит к Москве или «тянет» к Москве, употребляя выражение наших старинных юридических актов. «Все как будто к Москве ближе», – говорит он с улыбкою тем, которые жалуются на дальность расстояния его Гончарной улицы. В сущности, впрочем, не одна привязанность к Москве и вражда к Петербургу причиною тому, что он предпочитает Гончарную улицу другим улицам Петербурга. Стоит он в нумерах {283} и, несмотря на то, что платит втридорога, простоит в них, вероятно, долго. Почему именно – я когда-нибудь расскажу в подробности читателям, если они найдут интерес в знакомстве с моим героем. Покамест скажу только то, что номера эти, содержимые каким-то новгородским мещанином, дышат невероятным безобразием, а Иван Иванович может с таким же правом сказать: «я люблю безобразие, господа!», как Тарас Скотинин говорил: «я люблю свиней, сестрица!» {284}
Когда я вошел, меня встретил почтенный хозяин Ивана Ивановича, с красными, вероятно от постоянной чувствительности, глазами, и с каким-то чухонским шепелянием в языке напевал, сидя на диване и царапая большим пальцем по струнам отличной гитары Ивана Ивановича:
Не годится
Так стыдиться
В любви, в любви нам нет стыда,—
сильно ударяя на окончания возвратных голосов и давая их чувствовать – что вот-де они какие… Иван Иванович стоял у окна спиною к дверям и смотрел… Вероятно, на каланчу Каретной части, ибо не на что более смотреть на Гончарной улице. Заслышав мои шаги, он оборотился, Демьян Арсентьев тоже встрепенулся, бросил гитару и, по своему любезному расположению ко всегдашней чувствительности, умиленно осклабился, здороваясь со мной, и с какой-то осторожностью стал складывать мое пальто и бережно класть его на стул, как будто боясь, чтобы оно не ушиблось…
– Что вы это, Демьян Арсентьевич, пели? – спросил я после обычных здорований с ним и с Иваном Ивановичем.
Демьян Арсентьич, вместо ответа, опять умиленно осклабился, непосредственно затем подошел к столу-косячку, стоявшему в переднем углу, бережно приподнял стоявший на нем графин, налил содержавшегося в нем в рюмку – причем я заметил в руках его некоторое дрожание – и, поднося мне, произнес лаконически:
– Водочки-с!
На отрицание мое он только покачал головою с добродушнейшим сожалением – и выпил сам. Процессом этого выпивания им водки мы всегда наслаждаемся с Иваном Ивановичем. Горло, что ли, у него так устроено или другое что, только водка не проходит к нему прямо во внутренность; предварительно она им еще смакуется и бурчит у него во рту.
– Вы говорите, что он пел? – отвечал Иван Иванович. – Известно что: не годится… как, Демьян Арсентьич?..
Демьян Арсентьич крякнул, сел на диван и опять стал бряцать на гитаре…
– Правду говаривал мне мой приятель Д., – продолжал Иван Иванович, – про семиструнную гитару, что она отличный инструмент на купеческих свадьбах: как ни ударь – все аккорд выходит. Вот послушайте, Демьян Арсентьев под один и тот же аккорд выкликает голосами разными.
– Что это вы нынче злобитесь на свою приятельницу? – заметил я. – Вы вообще что-то выглядитезлобно.
Я нарочно употребил слово выглядите,чтобы подразнить Ивана Ивановича, который терпеть его не может, – но на этот раз он не обратил ни малейшего внимания на неприятный ему термин.
– Кто? я нынче злобен? – ответил он. – Я злобен? – и Иван Иванович подошел ко мне очень близко. – Да я нынче, напротив, доволен, бог знает как доволен, – продолжал он, – всем доволен, решительно всем, бряцаньем Демьяна Арсентьевича и каланчою Каретной части… Со мною редко бывает, что было сегодня, – по крайней мере, давно этого не бывало.
– Что, что такое? – спросил я с невольным любопытством, зная, что в самом деле многое нужно для того, чтобы совсемрасшевелить Ивана Ивановича, хотя и очень немногое и очень неважное может расшевелить его наполовину, – привыкши верить в его искренность и, стало быть, верить ему на слово, привыкши дорожить в нем теми минутами, когда он вполне доволен или чересчур недоволен.
– Что я? – сказал Иван Иванович. – А вот что!..
Он схватил со стола-косячка лежавшую на нем книгу, я даже не успел и взглянуть, какая это книга, сел на диван подле продолжавшего неумолчно бряцать Демьяна Арсентьевича, положил книгу на сафьянную подушку и начал читать своим лучшим и редким, именно тихим и вместе страстным топом:
Осень землю золотом одела,
Холодея, лето уходило,
И земле, сквозь слезы, улыбаясь,
На прощанье тихо говорило.
Я уйду – ты скоро позабудешь
Эти ленты и цветные платья,
Эти астры, эти изумруды
И мои горячие объятья.
Я уйду – роскошная смуглянка,
И к тебе на выстывшее ложе
Низойдет любовница другая
И свежей, и лучше, и моложе.
У нее алмазы в ожерелье,
Платье бело и синеет льдами,
Щеки бледны, очи неподвижны,
Волоса опушены снегами.
О, мой друг! оставь ее спокойно
Жать тебя холодною рукою!
Я вернусь, согрею наше ложе,
Утомлю и утомлюсь с тобою.
Иван Иванович сел ко мне боком, читая эти стихи и весь искренно отдаваясь им. Когда он оборотился, лицо его горело. Демьян Арсентьев, во время чтения оставивший бряцание на гитаре, по окончании промолвил только:
– Э! отец!.. Вот у меня какой отец – истинно отец! Денег надо? к кому? к отцу… Ну и даст.
Затем он направился к столу-косячку. Прочитанные стихи действительно поразили меня.
– Что? – начал Иван Иванович, вперяя в меня тихий и мягкий взгляд. – Понимаете ли вы, – и взгляд его мгновенно оживился, – понимаете ли вы, – продолжал он, – что струею свежего, совсем свежего воздуха брызнули на меня эти стихи…
Я еще несколько не доверял своему впечатлению, относя долю его к глубоко симпатическому чтению моего приятеля. Я взял у него из рук книгу, прочел стихи молча: впечатление то же.
– Несколько капризно! – заметил я. – Вредит, если вы хотите, еще то, что лето у нас среднего рода, а зима женского, – как вредит, пожалуй, лермонтовской переделке известного гейневского стихотворения то, что сосна и пальма женского рода {285} . Но действительно свежо, оригинально – и обаятельно…
– Ну и капризность-то самая, – прервал меня Иван Иванович с тем же одушевлением, – похожа ли на чью-нибудь чужую капризность? хотя бы, например, на фетовскую?.. А вот на это что вы скажете, послушайте-ка.
И Иван Иванович прочел из той же книги, особенно рельефно выдавая некоторые стихи:
Над озером тихим и сонным,
Прозрачен, игрив и певуч,
Сливается с камней на камни
Холодный железистый ключ.
Над ним молодой гладиатор,
Он ранен в тяжелом бою,
Он силится брызнуть водою
В глубокую рану свою.
Как только затеплятся звезды
И ночь величаво сойдет,
Выходят на землю туманы,
Выходит наяда из вод.
И к статуе грудь прижимая,
Косою ей плечи обвив,
Томится она и вздыхает,
Глубокие очи закрыв..
И видят полночные звезды,
Как просит она у него
Ответа, лобзанья и чувства
И как обнимает его.
И видят полночные звезды
И шепчут двурогой луне,
Как холоден с ней гладиатор
В своем заколдованном сне.
И долго два чудные тела
Белеют над спящей водой…
Лежит неподвижная полночь,
Сверкая алмазной росой.
Сияет торжественно небо,
На землю туманы ползут,
И слышно, как мхи прорастают,
Как сонные травы цветут.
Под утро уходит наяда,
Печальна, бела и бледна,
И, в сонные волны спускаясь,
Глубоко вздыхает она. {286}
– Знаете ли что, давно не изведанное физическое чувство испытывал я, читая эти могучие, стальные стихи… Да! стальные, – ораторствовал друг мой, уже вставши, – блестящие, как сталь, гибкие, как сталь, с лезвием, как сталь… У меня от затылка вдоль по спинному хребту бегали мурашки от множества отдельных стихов и образов – и в жар бросило от целого… Да! Это – сталь, чистая сталь! Пожалуй, господам, избалованным современными поэзиями,покажутся вещи молодого поэта и холодны, как сталь… Уж я даже слышал от одной барыни – большой любительницы стихотворений Некрасова да от одного господина, приходящего в неистовый восторг от всякого напряжения, что в стихах г. Случевского чувства мало… И слава богу, что чувствийу него нет: чувствия дешевы; страсть у него есть – без страсти эдакого образа, как наяду с гладиатором, не выдумаешь. Этот господин идёт в творчестве не от чувствийи даже не от мыслей и впечатлений, а прямо от образов, ярко предстающих его душе, захватывающих ее. Черт ли в них, в чувствиях?Вон у меня их очень много – девать некуда. Нет, я вам говорю, тут сразу является – поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт, – стремительно заключил Иван Иваныч, а потом, немного отдохнув и проведя рукою по лбу, добавил: – а коли уж на кого похожий – так на Лермонтова.
Я был положительно ошеломлен таким заключением; но прежде чем рассказывать дальнейшую мою беседу с Иваном Ивановичем, должен сделать объяснительное отступление.
Горячее увлечение Ивана Ивановича в особенности изумило меня потому, что относительно поэзии Иван Иваныч судья необыкновенно строгий, даже своеобычливый и капризный. У него на это дело, как и на многое в жизни и в искусстве, совершенно особый взгляд. Лирики, говаривал он не раз, все равно что певцы. У одного большой и отлично обработанный голос, но ему петь нечего, и его песни – академическое показывание сил или этюды. У другого – голос небольшой, но в этом голосе есть глубоко симпатические ноты, и что он поет, то чувствует, и потому его однообразные звуки действуют на слушателей сильно, если не всегда, то, по крайней мере, в известные минуты. Так пел покойный Варламов {287} . Чем он пел, особенно в последние годы его жизни, – неизвестно, но пел, и глубоко западали в душу его песни: так – поет в стихах Огарев. Есть, наконец, певцы, у которых голос не обширен, но симпатичен и выработал себе особенную манеру, часто причудливую, капризную, но обаятельную, – Полонский, Фет… Взгляд, как вы видите, странный, но имеющий довольно оснований. Иван Иваныч любитиз наших поэтов весьма немногих, кроме Пушкина и Лермонтова, а именно: Тютчева, Фета, Огарева и Полонского, и хотя отдает полную справедливость высокому дарованию Майкова и недавно еще любовался удивительною сменою ярких и колоритных картин Констанцского собора {288} и назвал Майкова за эту прекрасную вещь Веронезом, – но говорит, что Майков по натуре более живописец, чем певец, что живопись увлекает его в вечную погоню за частностями. В Мее он видит какую-то большую, неустановившуюся силу, какой-то огромный запас средств, расточаемых часто понапрасну, но – большая честь Ивану Ивановичу – он ценит, как немногие, блестящие стороны Мея и был весьма оскорблен статьею, появившеюся в одном из новых журналов, в которой о недостатке внутреннего содержания в поэзии Мея говорилось на двух печатных листах, а о новости его существенных достоинств, о его способности доводить русскую речь до типичности, как в некоторых местах «Ульяны Вяземской» и других произведениях, – одним словом, о Мее как о большом человеке в деле поэтического языка вообще, поэтически-народного в особенности, в деле воспроизведения народных типов – <на> одной страничке {289} . Иван Иванович, помню, выразился об авторе этой странной критической статьи народною поговоркою: не рука Макару корову доить.Что касается до одного из главных корифеев нашей современной поэзии, до г. Некрасова, то мнение Ивана Ивановича в этом случае так странно, что, приводя его, я боюсь окончательно скомпрометировать моего героя в глазах читателей и в особенности читательниц, вероятно знающих наизусть превосходные стихотворения о Ваньке ражем и о купце, у коего украден был калач {290} . Иван Иванович говорит странные вещи: Некрасов, по его мнению, замечательный, может быть, по задаткам натуры высокий поэт, но стихотворения его не поэзия: в них (по мнению Ивана Ивановича) носится, видимо, какая-то сила, по сила эта извращена и напряжена… Если слушать Ивана Ивановича, то г. Некрасов так-де убивает эстетическое чувство в увлекающихся им юношах и женщинах, как г. – бов {291} убивает в своих последователях мыслящую способность. Пытался я обо всех этих пунктах спорить с моим романтиком, но его не переспоришь! А между тем он уже раз чуть не со слезами читал:






