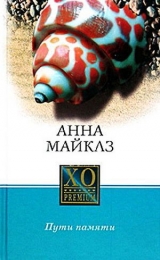
Текст книги "Пути памяти"
Автор книги: Анна Майклз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Я прожил на Идре год, когда в конце лета меня приехали навестить Морис, Ирена и Йося, который тогда еще только начинал ходить.
Мы с Морисом провели много часов на послеобеденной жаре во дворике таверны госпожи Карузос, пока Ирена с Йосей отдыхали.
Как-то днем, когда мы сидели, по обычаю что-то обсуждая, Морис катал ладонью лимон по белой скатерти с голубым узором. Он сказал:
– Са… – Когда Морис хотел сказать что-то особенно важное, он всегда начинал со слов «c'est са», но, горя желанием высказать наболевшее, остальные звуки в спешке глотал. – Значит, тебе не дают покоя лавры Зюксиса[99]99
Зюксис (Zeuxis) – греческий художник, живший в 5 в. до н. э. Его монохромные рисунки до нас не дошли, мы знаем о нем лишь по восторженным отзывам античных авторов.
[Закрыть], мастера светотени, который так рисовал виноград, что птицам хотелось его клевать!
Я откинулся на спинку стула, так что его передние ножки слегка поднялись над землей, и уперся затылком в каменную стену. Дворик опрокинулся вниз. Остались зеленые перекладины досок и чистое небо. Потом я бросил взгляд на раскрасневшееся, совершенно круглое лицо Мориса. Они с Иреной были моими единственными друзьями на всей земле. Я не мог сдержать смех, вслед за мной рассмеялся и Морис. Лимон у него выскользнул, упал на землю и покатился по узенькой улочке к гавани.
Сначала я чувствовал себя как дома среди этих холмов с обветшалыми иконами, висящими у каждой пропасти, в каждой долине, как будто дух, обернувшись, глядит на тело. Голубые одежды их Господа тусклее цвета цветов, лик их Искупителя покоробила погода. Иконы вставлены в деревянные ящики размером меньше скворечников, с них струпьями сходит краска, дерево от солнца и дождя стало местами трухой. Я писал под монотонное жужжание в такую жару, от которой листья становятся, как восковые, дома покрываются белым потом, красная черепица крыш плывет, поеживаясь при взгляде.
Вместе с тем мне было ясно, что в Греции я навсегда останусь чужим, сколько бы лет здесь ни прожил. Поэтому с годами я стал пытаться полнее вжиться в жизнь острова – свыкнуться с солнцем, выжигающим ночь с поверхности моря, с оливковыми рощами под зимним дождем. С дружбой госпожи Карузос и ее сына, которые присматривали за мной на расстоянии.
Я пытался расписывать тьму вышитыми узорами, накладывая стежки со сверкавшими самоцветами памяти прочно и плотно, хороня их в ткани цвета мрака: интермеццо Беллы, карты Атоса, слова Алекс, Мориса и Ирену. Черным по черному до тех пор, пока рисунок не становится виден лишь тогда, когда всю ткань целиком подносишь к свету.
Когда завершился первый визит Мориса с Иреной ко мне на остров, я поднялся в гору к дому и, глядя на отплывающий вдаль кораблик, подумал о том, что не смогу долго оставаться на Идре в одиночестве. Но в ту вторую зиму, когда я завершал работу над «Трудами земли», они часто мне писали, и я постоянно чувствовал их присутствие, как несколько лет назад, когда один заканчивал готовить книгу Атоса к печати.
– Пиши ради собственного спасения, – говорил Атос, – тогда в один прекрасный день поймешь, что пишешь потому, что спасен.
– Тебе будет от этого очень стыдно. Пусть тогда смирение станет для тебя паче гордости.
Наши отношения с мертвыми продолжают меняться, потому что мы не перестаем их любить. В ту зиму, когда дни погружались в сумерки, я постоянно вел беседы с Атосом или с Беллой, иногда они мне отвечали, иногда – нет.
Я сидел в маленькой комнатке. Все вокруг было необычайно хрупким. Нельзя было сдвинуться с места, чтобы что-то не повредить. Все, к чему прикасалась рука, тут же растворялось.
Пианиссимо должно быть совершенным, слушатель должен уловить звук ухом до того, как он его услышит…
Политика нацистов не вписывается в рамки расизма, она даже в чем-то ему противостоит, потому что евреи вообще не считались людьми. Старая уловка языка, которой так часто пользовались в ходе истории. О тех, кто не принадлежал к арийской расе, никогда не говорили как о людях, их всегда называли «figuren», «stücke» – «номера», «обрубки», «куклы», «топливо», «товар», «тряпье». Не людей в душегубках морили газом, там было всего лишь «тряпье», и потому этические нормы не нарушались. Никого нельзя винить в том, что он жжет мусор, сжигает старые обноски, сваленные в грязные мусорные кучи на самом дне общества. К тому же они и сами огнеопасны! Здесь нет выбора – их необходимо сжечь до того, как сами они причинят тебе зло… Поэтому истребление евреев не может быть отнесено к числу тех или иных моральных императивов, скорее здесь может идти речь об императиве более широкого свойства, сводящем на нет любые проблемы. В соответствии именно с такой постановкой вопроса нацисты применяли репрессивные меры к евреям, имевшим домашних животных; как может одно животное владеть другим? Как вообще насекомое или некий неодушевленный предмет может чем-то владеть? Нацисты издали закон, запрещавший евреям покупать мыло, – зачем мыло паразитам?
Когда граждане, солдаты, эсэсовцы творили дела, не выразимые словами, их лица на фотографиях не были искажены ужасом, даже на обычных садистов они не были похожи, наоборот – многие из них смеялись. Из всех ужасающих противоречий войны именно в этом заложен ключ к разгадке остальных. Именно здесь таится секрет самого циничного из всех положений нацистской идеологии. Если нацисты требовали, чтобы уничтожению предшествовало унижение, значит, они признавали именно то, что так настойчиво пытались скрыть: человеческую природу жертвы. Унизить – значит признать, что твоя жертва чувствует и думает, что она не только ощущает боль, но и понимает, что ее унижают. И потому что палач в момент прозрения отдавал себе отчет в том, что его жертва – не «кукла», а живой человек, и одновременно осознавал, что должен продолжать свое страшное дело, до него внезапно доходил весь механизм нацистской лжи. Как узник, перетаскивавший камни, знал, что единственным шансом выжить было выполнение этой нелепой задачи так, как будто он и не подозревает о ее бессмысленности, палач принимал решение делать свою работу, как будто даже не догадывался, что она насквозь пропитана ложью. Фотографии вновь и вновь доносят до нас леденящий кровь момент выбора: смех обреченных. Когда солдат осознавал, что лишь смерть может превратить «человека» в «номер», его проблема была решена. И оттого злость и садизм усиливались: злость на жертву за то, что она внезапно представала перед ним в облике человека, настолько усиливала желание разрушить эту человеческую сущность, что его жестокость не имела границ.
Вот он – тот самый момент, где мы снимаем противоречие, момент выбора в пользу лжи, по которой мы будем жить дальше. Самое для нас дорогое часто бывает дороже истины.
Мало было таких, как Атос, тех, кто продолжал творить добро ценой огромного личного риска; они никогда не путали людей с предметами, они всегда знали разницу между теми, кто присваивает имена, и теми, кто имена получает. Ибо тех, кто спасает людей, невозможно оболванить настолько, чтобы они перестали отличать живое от мертвого. Эти люди всегда одинаково объясняют причину своего героизма, задавая один и тот же вопрос: «Разве у нас был выбор?»
Мы ищем примеры высочайшей духовности в ситуациях величайших страданий. Именно там надлежит восстать новому Адаму, оттуда ему придется все начинать заново.
Я хочу быть рядом с Беллой. Я читаю. До дыр зачитываю исписанные черными значками алфавита документы, но они не дают мне ответа. Ночью за старым письменным столом Атоса я пристально вглядываюсь в выражения незнакомых лиц.
Брамс написал свои интермеццо для Клары, и она обожала их, потому что они были написаны для нее…
Я хочу быть рядом с Беллой. Ради этого я кощунствую в воображении своем.
По ночам деревянные нары впиваются ей в кожу. Ледяные ноги упираются Белле в затылок. Сейчас я начну интермеццо. Начинать его слишком медленно нельзя. Места не хватает. Белла прикрывает себя руками. По ночам, когда еще никто не спит, я не буду слушать плач. Я сыграю все произведение от начала до конца. На локтях и за ушами у нее расходится кожа. Не слишком жми на педаль, если слишком сильно жать на педаль, можно испортить все произведения Брамса, особенно интермеццо, начало надо играть чисто – будто журчит вода. Не забыть бы, что в 62-м такте идет крещендо, сыграть это нелегко именно потому, что там он особенно влюбленный. Когда он играл ей интермеццо впервые, она слушала, зная, что оно написано для нее. Раны на голове Беллы болят. Она смыкает глаза. После интермеццо надо будет вспомнить этюды. К тому времени почти все в бараке уже заснут. От прикосновения мокрых ног к покрытой язвами коже головы холод пробирает до костей. Две ноты в начале адажио Бетховен добавил позже, уже когда оно было у издателя; ля и до-диез, те самые, которые все меняют. Все нарывы на голове вскрываются от холода. Потом я снова его сыграю, только уже без двух нот.
Когда двери распахивали, тела всегда находили в одном и том же положении. Прижатая к одной стене пирамида плоти. Все еще хранящая надежду. Взобраться повыше, чтобы глотнуть воздуха, которого еще чуть-чуть осталось под самым потолком. Ужасающая надежда клеток тела человеческого.
Обнаженная, независимая от разума вера тела.
Некоторые рожали, умирая в камере. Из камер выволакивали матерей, из тел которых свешивалась успевшая выйти наполовину новая жизнь. Простите меня, те, кто родился и умер безымянным. Простите меня за кощунственную попытку философского осмысления зверства факта.
Мы знаем, что они кричали. Каждый рот, разверстый в вопле, рот Беллы, молил о чуде. Их крики были слышны по другую сторону толстых стен. Представить себе эти звуки немыслимо.
Этот миг невыразимой смертной муки в перекошенном ужасом пространстве становился самым жутким проявлением благодати. Ибо кто может с уверенностью отличить вопль безысходного отчаяния от криков тех, кто отчаянно хочет верить? В этот миг нашу веру в человека насильно и безжалостно заставляют стать верой в Бога.
Тихий дом наполняет лунный свет. Он гонит тьму прочь со всего, на что падает луч. Годы жизни ушли на то, чтобы это понять. Что бы со мной потом ни стало, я никогда больше не смогу ощутить веру такой чистоты.
Белла, моя сломленностъ хранила сломленной тебя.
Не смея шевельнуть пальцем, я жду света дня. От росы мокнут ботинки. Я взбираюсь на гребень холма и ложусь на холодную траву. Солнце начинает припекать. Я вспоминаю банки, которые нам ставила мама, когда надо было снять жар. Небо – большая опрокинутая банка.
* * *
В ходе экспериментов по определению механизмов миграции ученые сажали певчих птиц в клетки и оставляли их в темных помещениях, откуда не было видно небо. Птицы жили в постоянном полумраке, который сбивал их с толку. И тем не менее каждый октябрь они старались сбиться в стаю, волновались, их томила и будоражила тоска. Магнитное поле волновало их кровь, отблеск звездного неба мутил их взгляд.
Когда ты потерян для тех, кого любишь, повернись лицом к юго-западу, как заключенная в клетку птица. В какое-то время дня тело твое заполнит инстинкт, и чем большая часть тебя заполнится, тем больше тебя вошло в них. Когда ты ляжешь, их руки и ноги тенями сольются с твоими в каждом изгибе тела, как алфавиты иврита и греческого, пересекающие страницу, чтобы встретиться друг с другом в центре истории, согнувшись под грузом утрат, грузом дальних портов, мощью камня, горем тех, чьи мессии заставили их так много оставить в прошлом…
В ранних сумерках зимних греческих вечеров, в комнатах, где от окон веет холодом, я подношу к лицу руки и вдыхаю запах Алекс, оставшийся на ладонях.
Я так хочу, чтобы память стала духом, но, боюсь, она осталась лишь на коже. Боюсь, что знание становится инстинктом только для того, чтобы исчезнуть вместе с телом. Потому что тело, которое их помнит, – мое, и хоть я все делал, чтобы вытравить из души память об Алекс, гнал родителей с Беллой прочь из снов, все было напрасно, потому что тело мое постоянно меня предает. Я так долго без них живу, но все равно, этот зимний день делает Беллу такой близкой, что я чувствую ее сильную руку на своей, ее нежные пальцы на спине, и госпожа Альперштейн от меня так близко, что я вдыхаю запах ее лосьона, так близко отец и Атос, что я чувствую, как они гладят меня по голове, чувствую руки мамы, оттягивающей мне куртку вниз, чтобы я не горбился, руки Алекс, которая стоит у меня за спиной, обнимает меня и смотрит с раздраженным непониманием, и этот ее взгляд я продолжаю на себе ощущать даже тогда, когда она перестает меня обнимать. Мне становится так страшно, что я резко оборачиваюсь и тупо смотрю в пустоту комнаты.
* * *
Остаться с мертвыми – значит оставить их.
Все эти годы мне казалось, что Белла, заполнявшая мое существо своим отсутствием, о чем-то меня очень просит, но я ошибался. Я неправильно толковал ее сигналы. Как и другие призраки, она шепчет не о том, чтобы я был вместе с ней, а о том, чтобы я настолько к ней приблизился, чтобы она смогла меня вытолкнуть обратно в мир.
ДЛЯЩЕЕСЯ МГНОВЕНИЕ
Когда сыновья Мориса Залмана – Йося и Томас – были маленькими, они часто присылали мне по почте странные вещи: конверты с песком, рисунки только из одних кружочков или прямых линий, кусочки пластмассы или вообще неизвестно что. Я в ответ посылал им красивые камни и монеты.
Морис, Ирена и мальчики навещали меня на Идре, а я, приезжая в Торонто, всегда останавливался у них и устраивался в небольшом уютном кабинете. Продолжая работу в музее, Морис теперь читал два курса в университете, один из которых назывался: «Погода в древности: предсказание прошлого».
– Это почти так же трудно, – говорил он студентам, – как дать прогноз погоды на завтра.
Потребность в переводах с греческого на английский постоянно росла, и я уже вполне сносно зарабатывал на жизнь. За несколько лет помимо собственных работ я подготовил к печати две книги очерков Атоса и перевел на греческий его «Лжесвидетельство». Иногда Дональд Таппер от имени географического факультета приглашал меня выступать с рассказами о работе Атоса.
Дома у Мориса с Иреной повсюду царил рабочий беспорядок. Когда все садились есть, доклад о дневнике Левингстона, корявым почерком написанный маркером на больших листах бумаги, уголки которых Ирена по просьбе Йоси опалила огнем, сдвигался на край обеденного стола. На полу гостиной раскинулась посыпанная песком пластилиновая пустыня Гоби – всем приходилось через нее перешагивать. Когда я сюда приехал после относительно одинокой жизни на острове, верный Морис обратился ко мне с приветствием:
– Значит, монах-затворник решил перебраться к нам в цирк.
Я всегда слышал, как мальчики возвращались из школы. Йося внизу начинал играть на пианино. Потом сильно хлопала дверь – это Томас выходил играть во двор. Йося играл так старательно, что святого мог вывести из себя. Он так боялся сделать ошибку, что его медленная игра была сродни геологическим процессам.
Недолгими торонтскими сумерками – когда день уже прошел, а вечер еще не наступил, – я ложился на старый бордовый диван в полном книг кабинете Мориса, где мне все было так знакомо – и тени, и беспорядок, и слушал напряженные аккорды Йосиного пианино, прекрасные, как свет.
Я люблю мальчиков Мориса и Ирены так же, как любил бы детей Беллы, мне часто хочется снова и снова рассказывать им о днях моей юности, проведенных в речных заводях, о ярких полосах скупого осеннего солнца на толстых стеблях камыша, о покрытых зеленым мхом камнях на речном мелководье, о библейских городах, которые мы с Монсом воздвигали из глины и веточек. О замерзшем береге, чуть зеленоватом небе, черных птицах, снеге. Когда Йося и Томас были совсем маленькие, я приседал перед ними на корточки и клал руки на их хрупкие плечи с выпиравшими косточками, надеясь вспомнить руку отца на своем плече.
Я смотрю, как мальчики льнут к Ирене, как порой им еще нужна ее ласка, как они прижимаются к ней головками. Их любовь Ирена воспринимает вовсе не как нечто само собой разумеющееся. Она была уже не первой молодости, когда родился Йося, и, казалось, до сих пор не верит, что Томас выжил после родов. У нее это на лице написано.
Я вслушивался в искренние попытки Йоси играть без ошибок, и, хотя у него это получалось, мелодия все равно не звучала – слишком много пространства оставалось между нотами.
Многие годы после того, как мы расстались с Алекс, Морис с Иреной делали вид, что завидуют моей свободе; но втайне они тешили себя надеждой найти мне вторую жену. Во время моих наездов в Торонто они, как подростки, делали все, что могли, чтобы с кем-нибудь меня познакомить. В ход шли все уловки романтического минного поля сватовства – обеды, семейные приемы, званые ужины. И мины на этом поле закладывал Морис. Обычно он брал на себя процедуру представления и тут же куда-то сматывался. Я уже привык к его припеву:
– Вот, значит, Яков, я эту женщину знаю… – За этой фразой неумолимо следовало представление.
Но иногда случается так, что провидение сбрасывает с себя одежды, платье его соскальзывает с плеч, время замирает в преддверии чуда. Любая наша попытка рассеять тьму и разглядеть этот момент поближе обречена на провал, потому что провидение не привыкло отчитываться в мимолетных желаниях своих наслать на нас катастрофу благодати.
На протяжении восемнадцати лет я каждый год приезжал в Торонто до того, как она вошла в кухню Мориса и Ирены.
Я не знал, на чем раньше остановить взгляд – на ее светло-каштановых волосах, темных карих глазах или маленькой руке, скрывшейся под платьем, чтобы поправить бретельку.
– Микаэла работает в музее администратором, – успел сказать Морис, перед тем как ретироваться.
Ума у нее палата. В истории ориентируется, как у себя дома, скорбит по сгоревшей Александрийской библиотеке, как будто пожар полыхал вчера. Говорит о влиянии торговых путей на развитие европейской архитектуры, разглядывая блики света на скатерти…
Мы были в кухне вдвоем. Всюду только рюмки и стопки грязной посуды. Гомон застолья остался в комнате. Микаэла уперла бедро в край кухонного стола. Ее эрудиция стала неотразимо соблазнительной.
Микаэла познакомилась с Иреной совсем недавно и расспрашивает меня о ней.
Я рассказываю Микаэле истории двенадцатилетней давности о том, как родился Томас, о том, как мы общались с его душой, когда он только-только появился на свет.
– Томас родился недоношенным. Он весил меньше трех фунтов…
Ирена сказала мне, чтобы я надел халат, хорошенько вымыл руки по самые локти, и только после этого повела меня с ним знакомиться. То, что я увидел, можно было назвать лишь душой, но никак не телом, потому что роль тела играла почти прозрачная оболочка. Никогда раньше мне не доводилось так близко видеть столь явственное проявление духа в теле, больше похожем на прозрачное тело моллюска, но в глазах его на фотографиях уже проглядывает слабый отпечаток души. Если бы он не дышал, этот отпечаток пропал бы тут же. Так и лежал тогда Томас в своей прозрачной пластмассовой утробе, величиной чуть больше руки по локоть.
Взгляд Микаэлы упирается в пол. Волосы ее, гладкие, блестящие, тяжелые, разделенные косым пробором, закрывают лицо. Она вскидывает на меня глаза. Мне вдруг становится не по себе от того, что я так много болтаю.
Потом она говорит:
– Что такое душа, я не знаю. Но мне кажется, в теле заключено все, что там было всегда.
Мы вместе стоим на зимнем тротуаре в белесой темноте. Я знаю меньше, чем свет от лампочки в окне, потому что ему ведомо, как проникнуть на улицу и до предела обострить тоску ожидания.
Волосы и шляпа рамкой обрамляют ее спокойное лицо. Она очень молода. Нас разделяют двадцать пять лет. Глядя на нее, я испытываю такое чистое сожаление, такую прозрачную печаль, что они чем-то схожи с радостью. Ее шляпа, снег напоминают мне стихотворение Ахматовой, где в двух строках поэтесса потрясает кулаками, потом слагает руки в молитве:
Зимняя улица, как соляная пещера. Снегопад прекратился, стало очень холодно. Холод просто немыслимый, пробирает до костей. Снежная улица тиха тишиной царства снежной белизны, неспешно дрейфующей по ледяным волнам. В свете уличных фонарей поблескивают снежинки.
Она показывает на свои легкие выходные туфельки, потом я чувствую, как ее маленькая кожаная перчатка пролезает мне под руку.
* * *
Микаэла живет над банком. Ее квартира похожа на келью чувственной монахини. Я вступаю в древний мир, отвечающий всем требованиям мечты. На полу у кушетки пошатываясь громоздятся стопки журналов – «Природа», «Археология», «Музейный работник» и груды книг – романы, издания по истории искусств, повести и рассказы для детей. Туфли свалены в кучу посреди комнаты; на столе валяется шарф. Хаос зимней спячки.
Комнаты в этом царстве художественного беспорядка тихо дышат в неярком свете. Ткани цвета поздней осени, ковры и тяжелая мебель, одна стена сплошь покрыта фотографиями в рамках, детская лампа в форме лошадки – все кажется вызовом жестко регламентированному миру бухгалтерского учета, расположившемуся внизу.
Я чувствую себя как вор, уже пролезший в окно – и застывший в оцепенении, пораженный ощущением того, что попал к себе домой. Ошарашенный невероятностью удачи.
Я жду, когда Микаэла вернется с заваренным чаем. Мне как-то не по себе в теплой комнате, нет той умиротворенности, которую принес с собой снегопад. Набитые всякой всячиной комнаты Микаэлы меня приворожили. Я уже вписался в рембрандтовский полумрак.
Она возвращается, ставит поднос на низенький столик гостиной, снимает с него серебряный чайник для заварки и стаканы, оправленные в серебро. Она сняла туфли и надела толстые шерстяные носки, в них она выглядит совсем девочкой. В лице Микаэлы мне теперь видится добродетель Беатриче де Луна, ангела из Феррары[101]101
Беатриса де Луна – общественная деятельница и филантроп XVI в. Боролась за прекращение деятельности испанской инквизиции. Открыто исповедовала иудаизм, покровительствовала еврейским учениям.
[Закрыть], которую
Господь укрепил в вере, чтобы она поддерживала изгнанников инквизиции и давала им пристанище. …Лицо Микаэлы отражает преданность многих поколений киевлянок, верность сотни киевлянок сотне верных мужей, несчетные вечера, когда в тесных комнатах под одеялом обсуждались семейные проблемы; тысячи соитий, мечты о заморских странах, первые ночи любви и ночи любви после многих лет жизни в браке. В глазах Микаэлы десять поколений истории, в ее волосах – запахи полей и сосен, ее гладкие, прохладные руки несут родниковую воду…
– Стаканчик чаю? – спрашивает она, сбрасывая газеты на ковер, чтобы освободить место.
На середине рассказа о своей семье она остановилась; теперь ей, должно быть, стало неловко от того, что она так много говорит. О родителях, как посланцах России и Испании, наполнивших их монреальскую гостиную традициями своих стран. О бабушке, которая рассказывала Микаэле выдуманные истории из своей жизни, – может быть, она хотела именно такой запомниться внучке, а может быть, потому, что ей самой хотелось верить этим выдумкам. Микаэлина бабушка подробно описывала внучке огромный дом в Санкт-Петербурге, детали его витиеватой отделки, резное дерево, даже нравы прислуги. Тяжелые зеленые гардины с золотым шитьем, бархатные платья бордового цвета в сочетании с черным. Но особый упор она всегда делала на учебе, рассказывая Микаэле про свои студенческие годы, работу учительницей, о том, как она была журналисткой в газете.
Микаэла делится со мной историей своих предков. Я поражаюсь жадности собственной памяти до ее воспоминаний. Любовь питается плотью деталей, утоляет жажду фактом в его первозданном облике; она не воспринимает тело в совокупности его частей, каждый член его одновременно твердит о своем, и все звуки сливаются в невнятном гомоне…
Я сижу на диване подавшись вперед, она устроилась на полу, нас разделяет маленький столик. Если просто ее слушать, мне кажется, можно получить отпущение всех грехов. Но я знаю, что стоит ей ко мне прикоснуться, стыд мой сразу станет явным, она сразу разглядит все мое уродство – и редеющие волосы, и вставные зубы. Она на теле моем увидит все его уродливые отметины.
Я все пытаюсь сдержать себя, запугать себя всякими доводами, но непреодолимое желание коснуться ее всаживает себя в меня по самую рукоятку. Как будто кожу с живого сдирают. Я касаюсь ее руки, заранее понимая, что делаю непоправимую ошибку. Слишком я для нее стар. Слишком стар.
И вдруг, против всяких ожиданий – это, должно быть, ей меня жалко стало? – она касается щекой, как нежным персиком, согретым солнцем, моей холодной ладони.
* * *
Я исследую каждую линию ее тела, каждый его изгиб и вдруг понимаю, что она лежит совершенно неподвижно, сжав руки. Тут до меня доходит вся ужасающая тупость того, что я делаю: желание мое ее унижает. Слишком много лет разделяет нас. Потом я понимаю, что она до предела сосредоточена, как будто мой язык подрезает ей крылья, – это она в такой странной форме благословляет меня на знакомство со своим телом. И только после того, как я выполняю ее волю, медленно, как зверь, метящий свою территорию, она сама переходит в бурную контратаку.
Я лежу, будто парализованный, в пещере ее волос. Потом руки мои неспешно находят ее тонкую талию, и вдруг я отчетливо представляю себе, как она нагибается после душа, сворачивает волосы полотенцем, как мокрым тюрбаном, явственно вижу линию изгиба ее спины в наклоне. Слышу ее негромкий голос – длинные фразы, как тихая музыка, как дуга весла над водой, роняющая серебряные капли. Голос ее я слышу, но слов разобрать не могу – так тихо она говорит; в ушах моих звуки всего ее тела. Вместо близости умерших, наполнявшей мое дыхание, меня оглушает гудящий гул тела Микаэлы – ток ее крови, текущий по голубым проводам вен под кожей. Кабели сухожилий; сплетения косточек на запястьях и лодыжках. Каждый раз, когда она смолкает, при каждой ее долгой паузе у меня дух захватывает. Я чувствую, как она понемногу тяжелеет, засыпая. Как прекрасен доверчивый ток крови, ее прижавшаяся ко мне теплая сонная тяжесть, как хрупкая, спокойная тяжесть яблок в вазе. Не застывшее отчаяние сломленности, а умиротворенность расслабления.
Микаэла раздевается, неторопливая и похожая на мечту, становится светлее. Одежда ее как будто растворяется.
Даже мельчайшие детали предметов в комнате вдруг становятся вполне осязаемыми. Годы идут, но тела наши помнят себя во все времена.
Она оседлала меня, устроившись на бедрах, я любуюсь всеми изгибами ее тела, почти физически чувствую арки ребер, каждое дыхание ее, перегоняющее кровь от косточек за ушами к пальцам на ногах.
На коже Микаэлы нет оттенка смерти. Даже когда она спит, я вижу в ее обнаженности невидимую эманацию тела, выступающую на поверхность. Я вижу на любимой влажную прядь волос, печать любви под сенью высокого бедра как соль на животе, живущем в такт с дыханьем. Вижу крепкие, как груши, мышцы икр на ногах. Я знаю, что скоро она откроет глаза и обнимет меня.
Уже поздно, почти полдень, когда она говорит – или мне это пригрезилось? – хотя Микаэла сама вполне могла бы меня спросить:
– Есть хочешь? Нет… Тогда, может быть, мы на скорую руку так перекусим, чтобы голод даже на миг не показался нам более сильным чувством…
* * *
Микаэла закрыла лицо руками; я глажу ей мягкое, теплое, податливое плечо. Она всхлипывает. Она выслушала все – и сердцем своим, и кожей. Микаэла плачет по Белле.
Свет и жар ее слез пробирают меня до костей.
Радость от того, что тебя понимают, и щемящая боль утраты потому, что понимание пришло впервые.
Когда я в конце концов засыпаю, как будто первый раз в жизни, мне снится Микаэла – юная, блестящая, как гладкий мрамор, залитая ласковым солнечным светом. Я кожей чувствую солнце. Белла сидит на краешке кровати и просит Микаэлу рассказать ей, какое ощущение вызывает прикосновение голых ног к простыне, «потому что, понимаешь, сейчас у меня своего тела нет…». Во сне по щекам Микаэлы текут слезы. Я вскакиваю, как будто меня резко выдернули из сна и бросили в мир, опустошенного и потерянного. Все тело болит от напряжения, я лежу поперек кровати в лучах солнечного света.
В каждой клеточке тела что-то изменилось, наполнилось покоем.
Она спит. Я лицом прижимаюсь ей к спине, руки мои у нее на груди. Она спит глубоко, как гонец, только что вышедший из ущелья Самария[102]102
Ущелье на острове Крит, которое в годы Второй мировой войны служило базой бойцам Сопротивления.
[Закрыть], который до этого несколько дней слышал лишь собственное дыхание. Я медленно куда-то сползаю и просыпаюсь, утыкаясь ей головой то в живот, то в спину, чувствуя себя как дома в мечтах о ней, о грудях ее, как из мягкой глины, тяжелых и чувствительных.
Каждая ночь, как целитель, врачует раны нашей разделенности, сближая нас все теснее, соединяя в итоге рубцами снов. Одиночество выдохами уходит в дыхание тьмы.
Мы нашли друг друга так нежданно, так случайно, будто это случилось в древних Салониках, где когда-то говорили на испанском, греческом, турецком, болгарском. Где до войны с разбросанных по городу минаретов кричали муэдзины, били в набат колокола церквей, а вечерами по пятницам порт будто вымирал, потому что наступала еврейская суббота. Где по улицам ходили люди в тюрбанах, фесках и кипах, в высоких островерхих шапках бродячих дервишей, где многие женщины носили чадру. Где шестьдесят минаретов и тридцать синагог окружали пристанище дервишей, круживших на невидимых своих осях в священных плясках, передавая в движениях рук благословение небес, донося его до земли в движениях ног…
Я сжимаю ей руки, зарываю разум в запах ее запястий – браслеты аромата.
Спасение мое в ее маленьком теле.
* * *
Микаэла спит на другом конце города, через сотни млечных дворов.
Не успел я положить голову на подушку, как послышался топот Йоси с Томасом по коридору и их громкое перешептывание за дверью. Весь я и волосы мои пропитаны запахом Микаэлы. Я чувствую щекой шершавую ткань дивана. У меня голова кругом идет от недосыпания, от Микаэлы, от мальчишечьих голосов. На тяжелых гардинах полосы света восходящего солнца.
Что ты сотворила со временем…
Я прислушиваюсь к тому, как они готовят завтрак, эти звуки мне больно слышать. Слушаю каждый звук Йосиной игры на пианино, зависающий в пространстве между нотами. Сила тяготения клонит меня к земле. Обледенелые капли дождя падают с неба на серебристо-белый снег. На диване Мориса сплетаются стебли прибрежного камыша, весенний дождь барабанит по оцинкованному корыту, погода погружает комнату в подводное царство. Каждый звук – как прикосновение. Дождь стучит по голым плечам Микаэлы. Так много зелени, что кажется, не все в порядке со зрением. Не бывает в жизни случайностей. Все снова и снова повторяется в первый раз.
На той вечеринке у Мориса, где мы встретились с Микаэлой, был один художник, поляк из Данцига, который родился за десять лет до войны. Мы с ним долго говорили.








