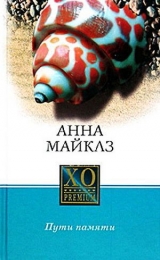
Текст книги "Пути памяти"
Автор книги: Анна Майклз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
В тот вечер у Залмана ты был так спокоен, что спокойствие твое иначе как чувственным назвать было нельзя. Твоя умиротворенность казалась мне эманацией опыта. Или, как мог бы сказать геолог, ты достиг чистого состояния остаточной концентрации. Силе самого факта твоего физического присутствия нельзя было противостоять, рука твоя, как тяжелый кот, устроилась на бедре Микаэлы. Чем еще может быть любовь с первого взгляда, как не ответом на крик души, внезапно переполненной сожалением о том, что никогда раньше ее боль не была разделенной? Наоми, конечно, растрогалась, и скоро она уже рассказывала тебе о родителях, о своей семье. Наоми, всегда такая стеснительная, говорила о том, как провела с умирающим отцом лето на озере, потом рассказывала о моих родителях – причем, как ни странно, меня это не только не раздражало, наоборот, я был ей за это на удивление благодарен. Давай, думал я, рассказывай ему, все ему рассказывай.
Ты слушал не как священник, исповедывающий грешника, а как грешник, слушающий ради искупления собственных грехов. Ты был наделен странным даром так все для людей прояснять, что они потом чувствовали своего рода очищение. Как будто беседа и в самом деле могла исцелить: При этом все это время одной рукой ты касался Микаэлы – ее плеча, руки, ладони. Глаза твои были с нами, тело с ней. Слегка смутившись, Наоми смолкла только раз, а потом спросила тебя, не считаешь ли ты ее дурочкой потому, что она часто носит им на могилу цветы. На этот вопрос ты дал ответ, который я не забуду никогда:
– Напротив. Мне кажется, время от времени им надо приносить что-то красивое.
По выражению лица Наоми было видно, как она тебе благодарна. Мне больно об этом вспоминать, потому что я постоянно злился на нее за эти визиты на могилу моих родителей, обвинял ее во всех смертных грехах – в том, что она так и не смогла оправиться после смерти собственных родителей, что так и живет в трауре с восемнадцати лет. И что интересно: потом она никогда не напоминала мне об этих твоих словах. Ничье молчание не может сравниться великодушием с молчанием Наоми, она редко стискивает зубы от досады или гнева (эти чувства выходят у нее со слезами); в ее молчании слышится мудрость. Я часто был ей за это благодарен, особенно на протяжении нескольких месяцев перед отъездом, когда Наоми говорила со мной все реже и реже.
Когда в тот вечер мы уходили от Залмана, уже по тому, как Наоми продевала руки в рукава пальто, было ясно, что перемена, произошедшая с моей женой, была невидимой, но очевидной – даже ее манера держаться после разговора с тобой изменилась. Еще я заметил, что Наоми было приятно, когда Микаэла сделала ей комплимент по поводу пальто и шарфа, а когда ты на прощанье пожал ей руку и пожелал спокойной ночи, она вся зарделась как маков цвет.
В тот вечер я узнал кое-что еще о Морисе Залмане и его жене. Я видел, как они вместе стоят у окна. Она – такая маленькая, выглядевшая как само совершенство в дорогих туфлях и шелковой блузке, с оттенком легкой печали, удлинявшим лицо. Залман держал ее локоть, как чашечку на блюдце. В его огромной руке, облаченной в рукав костюма, был зажат ее свитер, выглядевший, как носовой платок на спине слона. Один маленький штрих: она подняла руку и погладила своей детской ладошкой его по щеке. Она коснулась его так, будто он был сделан из тончайшего фарфора.
Когда я учился в университете, вышло второе издание «Лжесвидетельства», толстое, как приличный словарь. Залман уже рассказывал студентам о лиричности подхода Атоса к геологии, подтверждая свои слова книгой о соли. Даже ионные связи в захватывающих описаниях Атоса обретали очеловеченный облик. В его видении мира не было такого предмета, который не глодала бы своя тоска, не томила собственная страсть. Геологические процессы – драматичные и неспешные – развивались, подобно человеческой культуре и торговле, он одинаково объяснял их побудительные мотивы страстью стремлений. Какое сильное влияние его рассказы должны были оказывать на становление твоих взглядов! Тебе невероятно повезло, что тебя воспитывал такой замечательный человек. Неудивительно поэтому, что, когда ты стал писать собственные стихи – и в «Трудах земли», и в описаниях геологии массовых захоронений, – чувствуется боль и слышится язык самой земли.
Я остро ощущал жгучее одиночество Залмана после того, как ты умер, то особое одиночество, которое присуще лишь отношениям между мужчинами, оно не похоже ни на какое другое. Залман часто вспоминал забавные истории о тех временах, когда вам было по двадцать с небольшим, о ваших ночных блужданиях по городу в любое время года, когда сначала вы обсуждали работу Атоса, потом говорили о поэзии, а от нее переходили к душевным ранам Залмана, хотя твоей боли вы не касались на протяжении многих лет. Он рассказывал, как, изможденные в жару или усталые и промерзшие в холод, вы забредали в ресторанчики, работающие круглые сутки, брали по куску пирога и по чашке кофе, а потом расставались в два часа ночи, прощаясь на опустевших улицах. Залман смотрел тебе вслед, когда ты понуро и уныло возвращался к себе по улице Сент-Клер в квартиру, где жил один сначала после смерти Атоса, а потом после того, как распался твой первый брак… Залман рассказывал мне о твоих привычках, о том, что на тебя можно было положиться во всех случаях жизни, о твоей моральной чистоплотности. О том, что часто ты впадал в депрессию. Говорил он и о достоинствах Микаэлы, новой твоей жены.
– Знаешь, Бен, говоря, что нам нужен духовный наставник, мы на самом деле ищем такого человека, который научил бы нас, что делать с нашим телом. Решения принимает наша плоть. Мы забываем учиться у наслаждения так же, как у боли, – сказал мне Залман, когда ты умер. – Яков многому меня научил. Например, он объяснил мне истинную ценность знания. Знаешь, в чем она состоит? В том, что знание помогает нам точнее оценить меру собственного невежества. Когда Господь в пустыне заповедал евреям не поклоняться другим богам, он не просил их выбирать себе бога, которому они будут поклоняться, скорее, он ставил вопрос так: либо выберите себе единого Господа, либо никого. Яков много думал над неразрешимостью дилемм. Помнишь рисунок, которым открываются его «Стихи дилеммы»? Один человек смотрит вверх на непреодолимо высокую стену, а другой глядит на ту же стену с противоположной ее стороны… Помню как-то на одной из наших вечеринок зашел разговор о корпускулярно-волновом дуализме. Яков слушал, слушал, а потом сказал: «Может быть, свету приходится выбирать именно тогда, когда он упирается в стену?» Все засмеялись, выслушав соображения непосвященного о споре физиков! Но я понял, о чем думал Яков. Под частицей он имел в виду светского человека, под волной – верующего. И если удается проникнуть сквозь стену, уже не имеет значения, ведет ли человека по жизни истина или ложь. Если некоторые живут по законам любви (сознательно их выбирая), то большинство руководствуется страхом (те, чей выбор определяется отсутствием выбора). Потом Яков сказал: «Может быть, электрон – это и не частица, и не волна, а что-то совсем другое, совсем не такое простое, как диссонанс, как горе, боль которого заключена в любви».
* * *
Нам кажется, что погода – явление преходящее, изменчивое и в высшей степени мимолетное; но природа помнит все капризы погоды. Деревья, например, несут в себе память о дожде. По кольцам их древесины можно определить, какая стояла погода в древности – когда на протяжении столетий бушевали бури, светило солнце, менялась температура, сколько времени продолжались вегетационные периоды. Лес повествует нам об истории, запечатленной в каждом дереве даже после того, как его срубили.
Морис Залман или Атос Руссос могли взглянуть на студента, который никак не решается выбрать, что ему интереснее – история метеорологии или литература, и сказать с присущим лишь им выражением:
– А почему бы вам не заняться и тем и другим? У некоторых народов мужчинам принято иметь несколько жен…
Со свойственным мне простодушием я сказал Залману, что можно провести формальное сравнение между картой погоды и стихотворением. Я сказал ему, что хочу назвать диссертацию по литературе «Линия погоды». Потом вышел из кабинета Залмана на улицу; октябрьские сумерки лучились чистыми бледными отсветами. Я шел домой, меня переполняло желание поделиться с кем-нибудь новостью, мне хотелось, чтоб меня там ждала женщина и я смог бы засунуть холодные руки ей под свитер, коснуться ее теплого тела и рассказать ей о том, как Залман предложил мне изменить тему диссертации: воплотить в работе образ, взятый из реальной жизни, соединив погоду с биографией.
Спустя годы, когда я перерабатывал диссертацию в книгу, мне очень помогала в этом Наоми… Морозное декабрьское утро в Санкт-Петербурге в 1849 году. Воздух белым паром разносит негромкое ржанье лошадей, тихо звякают их сбруи; пар от навоза, мокрая кожа, снег. Я выбираюсь из тюремной повозки вслед за Достоевским на студеный оранжевый свет Семеновской площади. Он продрог в легком пальто, в котором был арестован несколько месяцев назад, нос на фоне восковых щек, побледневших в тюрьме, казался краснее, чем был на самом деле. Его и других петрашевцев с завязанными глазами выстроили в ряд перед казнью на промозглом холодном ветру. Пристально вглядываюсь в его лицо. Даже повязка на глазах не может скрыть страх, исказивший его черты. Ружья готовы к залпу. Каждый из осужденных думает о пуле, пробивающей грудь, об острой боли, о смертельном ударе, нанесенном кинжалом величиной с палец ребенка. Вдруг с их глаз снимают повязки. Никогда раньше мне не доводилось видеть таких лиц, которые выражали бы полное недоумение от того, что они еще живы, что выстрел так и не прогремел. Меня гнет к земле груз жизни – жизни Достоевского, которая с этого момента проходит так бурно, как она может проходить лишь у человека, получившего шанс все начать заново.
Пока я шел в кандалах по России, Наоми аккуратно клала в кастрюлю картофелины цвета слоновой кости и варила их до тех пор, пока они не становились такими рассыпчатыми, что крошились в холодном бордовом борще от прикосновения вилки. Пока я падал от голода на колени в заснеженном Тобольске, внизу Наоми нарезала толстыми кусками тяжелый, как камень, хлеб. Такие съедобные чудачества я называл «кулинарными параллелями». День после обеда я проводил в Старой Руссе, а потом спускался вниз поесть на ужин щей.
Описаний погоды и явлений природы в литературе множество – любые ураганы, грозы и лавины, бураны, страшная жара и проливные дожди. «Буря», проклятые болота «Короля Лира». Солнечный удар Камю в «Постороннем». Снежная метель Толстого в «Мастере и человеке». Твои стихи в «Приюте дождя». Но биография… Метель, задержавшая Пастернака на даче, где он влюбился, слушая, как Мария Юдина[109]109
Юдина М. В. (1899–1970) – прославленная русская пианистка.
[Закрыть] играла Шопена («Мело, мело по всей земле… свеча горела…»). Мадам Кюри, отказавшаяся выйти в дождь из дому, когда ей сказали, что умер муж. Зной греческого лета, когда война трясла тебя, как в лихорадке. Достоевский первым пришел мне на ум, когда я стал над этим размышлять, о страшном пути каторжника, пройденном им в Сибирь. Заключенные остановились в Тобольске, где их увидели и прониклись к ним жалостью пожилые крестьянки. Эти душевные женщины, в тридцатиградусный мороз стоявшие на берегу Иртыша, дали им чая, свечей, сигар и книжку Нового Завета, в обложку которой была аккуратно вшита десятирублевая ассигнация. Достоевский на всю жизнь запомнил их доброту в то отчаянное для него время. В завывавший ветер, крутивший в воздухе пастельные снежинки в бледном свете солнца, эти женщины благословляли в неблизкий путь несчастных узников, скованных провисшим канатом, которые вереницей тянулись по белому снегу, их обжигал леденящий ветер, до костей пробиравший под легкой одеждой. А Достоевский все шел с трудом по этому тяжкому пути и думал о том, как может быть слишком поздно так рано в его жизни.
* * *
Нас постоянно терзают воспоминания о том, о чем нам хочется забыть, они окутывают нас как тени. Истина порой внезапно вырисовывается посреди недодуманной мысли так четко, как волос под лупой.
Как-то отец нашел в мусорном баке яблоко. У него подгнил бочок, и я его туда выкинул – мне тогда было лет восемь или девять. Он вынул яблоко из бака, пришел ко мне в комнату, сильно сжал мне рукой плечо и ткнул яблоко под нос.
– Что это такое? Это что такое?
– Яблоко…
У мамы в сумочке всегда лежало что-нибудь из еды. Папа ел часто, чтобы не чувствовать голода, потому что, когда ему хотелось есть, он не мог наесться до тех пор, пока его не начинало тошнить. Потом он ел покорно, методично, по щекам его катились слезы, потому что в этом акте питания одновременно явственно проявлялось и животное, и духовное его начало, и он терзался острыми угрызениями совести оттого, что унижает и ту и другую свою ипостась. Если кому-то нужны доказательства существования души, найти их нетрудно. С наибольшей очевидностью дух проявляется в ситуации предельного унижения тела. Никакого удовольствия, связанного с едой, отец мой не испытывал. Лишь годы спустя я понял, что у него это было связано не только с психологическими трудностями, но и с моральными проблемами. Ибо кто возьмет на себя смелость дать ответ на вопрос, постоянно терзавший отца: что ему было делать после всего, что он пережил, – наедаться до отвала или голодать?
– Яблоко! Ну что ж, смышленый мой сынок, а яблоко, по-твоему, это не еда?
– Оно же было гнилое…
Днем по воскресеньям мы ездили на природу за город или в их любимый парк, раскинувшийся на берегу озера Онтарио. Отец всегда надевал кепку, чтобы оставшиеся у него редкие волосы не лезли в глаза. Он вел машину, двумя руками сжимая руль и никогда не нарушая ограничений скорости. Я горбился на заднем сиденье, изучая азбуку Морзе по «Электрическому мальчику» или запоминая Бофортову шкалу ветров («ветер силой в ноль баллов: дым поднимается вертикально вверх, море спокойно как зеркало… силой в 5 баллов: небольшие деревья качаются, на волнах белые барашки… силой в 6 баллов: становится трудно пользоваться зонтиком… силой в 9 баллов: рушатся отдельные строения»). Иногда над спинкой переднего сиденья возникала мамина рука с предназначенным мне леденцом.
Родители мои устанавливали шезлонги (даже зимой), а я, предоставленный самому себе, собирал камни, определял типы проплывавших вверху облаков или считал волны. Иногда я ложился на траву или на песок и читал «Лунный камень» или «Люди против моря», где речь шла о штормах и извержениях вулканов («Не могу без содрогания вспоминать последовавшие за этим несколько часов. Ураганный ветер и проливной дождь, проливной дождь и ураганный ветер под мрачным небом, не сулившим ни просветления, ни облегчения. Мистер Блай не отходил от румпеля, казалось, возбуждение его обостряется по мере ухудшения нашего положения…»). Иногда я засыпал за этим занятием в своей толстой куртке под серым небом. В ясную погоду мама доставала загодя приготовленный обед, они с отцом потягивали крепкий чай из термоса, ветер рыскал по холодному озеру, редкие кучевые облака неспешно тащились к самому горизонту.
Вечерами по воскресеньям, пока мама хлопотала на кухне, готовя ужин, мы с папой слушали в гостиной музыку. Я смотрел на него, и ее звуки слышались мне по-другому. Его внимание, вникая в суть эмоций серого тумана плоти, пронизывало каждую музыкальную фразу, разлагая ее на теоретические составляющие, просвечивая как рентгеном. Он использовал оркестры – руки и дыхание других людей, – чтобы подать мне сигнал, без слов произнести молитву, смысл которой спрессован в аккордах. Я прижимался к нему, он меня обнимал, а когда я был совсем маленьким, утыкался головой ему в живот, он рассеянно ерошил мне волосы, но для меня отсутствующая непроизвольность его ласки была убийственной. Потому что, гладя меня по волосам, он думал не обо мне, а о музыке Шостаковича, Прокофьева, Бетховена, Малера: «Теперь все желания хотят уснуть», «Я стал странником в этом мире».
Те часы, проведенные в бессловесной близости, обозначили мое ощущение отца. На полу полосы света закатного солнца, диван с набивным узором обивки, шелковистая парча гардин. Иногда летними воскресеньями на залитом солнцем ковре мелькала тень жука или птицы. Я вдыхал его облик. Музыка сплавляла воедино рассказы матери о его жизни – странные, отрывочные образы – и истории из жизни композиторов. Коровье дыхание и навоз, запах свежего сена на ночной дороге, по развезенной грязи которой шел Малер в лунном свете, мерцавшем в поле на паутинках. В том же самом лунном свете возвращался в лагерь отец, язык у него был, как шерстяной носок, до одури хотелось пить, он шагал под дулами автоматов мимо ведер с дождевой водой, в которых, как в круглых маленьких зеркалах, отражались звезды. Они молились, чтобы пошел дождь и дал им возможность глотать то, что падает на их лики, – капли с привкусом пота. Работая в поле, он иногда выедал капустные кочерыжки, оставляя качаны полыми, но выглядящими полными, чтоб никто из солдат, стороживших узников, но остававшихся в роще, не мог заметить совершенного им преступления.
Малышом я часто вглядывался в сосредоточенное лицо отца. Он всегда слушал музыку с открытыми глазами. Бетховен, на лице которого отражалась гроза Шестой симфонии, шагал лесами и полями «Священного города», за спиной у него бушевала настоящая буря, грязь рваными галошами облепляла обувь, на деревьях под проливным дождем пронзительно и отчаянно кричали птицы. Во время одного долгого перехода отец сосредоточил все внимание на зажатой в руке серебряной монетке, чтобы не думать о родителях. Я чувствовал прикосновение его пальцев, гладивших мне голову по коротким волосам. Бетховен пугал быков, размахивая руками, как мельничными крыльями, потом останавливался, застывал в неподвижности и пристально вглядывался в небо. Отец смотрел на лунное затмение, стоя рядом с дымовыми трубами, или на мертвенный свет солнца, как на отбросы в помойной яме. Направив на отца дуло автомата, они ногами выбивали кружку с водой у него из рук.
Пока длилась симфония, звучал хор, потом квартет, он был в пределах моей досягаемости. Я мог представлять себе, что внимание, которое он сосредоточивает на музыке, на самом деле направлено на меня. Его любимые произведения чем-то походили на прогулки по знакомым местам, в которые мы отправлялись вместе, узнавая дорожные знаки снижения темпа, выдерживания звука или смены тональностей. Иногда он проигрывал одно и то же произведение с разными дирижерами, и я поражался тонкости его слуха, когда он сравнивал исполнения: «Слышишь, Бен, как он торопится с арпеджио?», «Обрати внимание на то, как ему видится этот отрывок… но если он делает такой сильный акцент здесь, крещендо через несколько тактов у него не получится!» А на следующей неделе мы возвращались к тому исполнению, которое знали и любили, как лицо, место. Фотографию.
Отсутствующие пальцы отца ерошили мне волосы. Музыка становилась неотделимой от его прикосновений.
Глядя на обрисованные брюками линии худых папиных ног, трудно было поверить, что этими ногами он проходил те расстояния, стоял на них на протяжении тех бесконечных часов. В нашей торонтской квартире образы Европы выглядели открытками с другой планеты. Его единственного брата – моего дядю – до смерти заели вши. Вместо сказочных великанов-людоедов, троллей и ведьм я в детстве часто слышал отрывочные разговоры о лагерных надзирателях, заключенных, СС, мрачных лесах – погребальном костре мрачных лесов. О Бетховене, ходившем в старой одежде, такой поношенной, что соседи дали ему прозвище «Робинзон Крузо»; о смене направления ветра перед грозой, о листьях, съеживающихся перед проливным дождем, о Шестой симфонии, опус 68; о Девятой симфонии, опус 125. Все симфонии и номера опусов я выучил наизусть, чтобы доставить ему удовольствие. Они всплывали в памяти, когда пальцы его ерошили мне волосы; я ясно различал тогда на его руке отдельные волоски, а под ними – лагерный номер.
Даже шутки у отца были какие-то молчаливые. Он рисовал мне рисунки, карикатуры. Бытовые приборы с человечьими лицами. Его рисунки отражали мир, каким он его видел.
– Яблоко – еда?
– Да.
– И ты выкинул еду? Ты – мой сын, выбросил еду на помойку?
– Оно же гнилое…
– Ешь его… Ешь его сейчас же!
– Пап, оно гнилое… Не буду…
Он заталкивал мне его в рот, пока я не разжал челюсти. Я жевал яблоко, сопротивляясь и сопя. Рот наполнил его противный коричный вкус, гнилостная приторная сладость, из глаз катились слезы. Если спустя годы, когда я уже давно жил взрослой жизнью, мне приходилось выбрасывать остатки еды или оставлять их на тарелке в ресторане, потом, когда я ложился спать, эти остатки, нарисованные на картинке в отцовской манере, преследовали меня во сне.
Образы ставят на нас клеймо, выжигают кожу вокруг, оставляют свою черную отметину. Они, как вулканический пепел, дают земле плодородие. Из обожженного места вскоре появляются острые зеленые побеги. Образы, посеянные во мне отцом, были как взаимные обеты. Он молча давал мне газету или журнал и пальцем указывал то место, куда надо было смотреть. Смотреть, как и слушать, вменялось мне в обязанность. Как мне было совладать с ужасом, который вселяли те фотографии, когда я в уютной безопасности сидел в своей комнатке с ковбойскими шторами и коллекцией минералов? Свирепость, с какой он заставлял меня читать те книги, как я теперь понимаю, пугала меня больше, чем помещенные в них образы. Что мне надлежало с ними делать в спокойном уединении моей комнаты, было ясно. «Ты уже не маленький, – как бы говорил мне жестом отец, – те сотни тысяч были еще моложе тебя».
Я жутко боялся уроков игры на пианино, которые мне давал отец, и не смел выполнять его задания, когда он был дома. Его стремление к совершенству имело силу морального императива, каждая правильно сыгранная нота утверждала победу порядка над хаосом, он ставил задачу столь же невыполнимую, как восстановление разрушенного бомбежкой города, где каждый кирпичик нужно было положить на прежнее место. Ребенком я не мог еще понять, что цели, которые он ставил, определялись если не верой, то по меньшей мере такой важной задачей, как воспитание воли. Вместо этого я относился к ним как к пустой трате времени. Все мои самые искренние потуги не вызывали у него ничего, кроме огорчения. Мне никак не удавалось чисто доиграть до конца фуги с тарантеллами, бурре ковыляли спотыкаясь, потому что я все время думал о бескомпромиссном отцовском слухе. В конце концов взрывы его недовольства во время моей игры, мои переживания и усилия мамы привести нас двоих в чувство убедили отца прекратить наши занятия. Незадолго до последнего его урока во время нашей очередной воскресной поездки на озеро мы шли с отцом вдоль берега, и он нашел там камешек в форме птицы. Когда он поднял камень с земли, на лице его отразилось такое удовлетворение, какого, занимаясь со мной, он не испытывал никогда, – я был не в силах дать ему то, что он получил от камня.
Когда мне исполнилось одиннадцать лет, родители сняли домик на две последние недели лета. Раньше мне никогда не доводилось оставаться в полной темноте. Когда я просыпался ночью, мне порой казалось, что во сне я ослеп, – такие кошмары иногда снятся каждому ребенку. Ходить во тьме на ощупь тоже было страшно, но уже по-другому. Я спускал ноги с кровати, протягивал руки в полную неведомых опасностей пустоту и шел отыскивать выключатель. Это было как испытание. Я знал, что главное – быть сильным. После нескольких ночей, когда я засыпал с фонариком в руке, решение было принято: я заставил себя встать с кровати, надеть тапочки и выйти из дому. Я поставил перед собой задачу пройти с выключенным фонариком около четверти мили через лес до дороги. Если отец мог день напролет шагать многие мили, я должен был дойти хотя бы до шоссе. Что со мной станет, если придется когда-нибудь, как отцу, пешком преодолевать такие большие расстояния? Надо было тренироваться. Фланелевая пижама липла к потному телу. Я шел ничего не видя с широко раскрытыми глазами, прислушиваясь к звукам реки, которая ножиком истории взрывала русло-лезвие все глубже в землю; изборожденный трещинами лик леса сочился ржавчиной крови. Ночь тяжко дышала сквозь мелкую сеть мошкары, папоротники жутковато шлепали мне по коленкам холодными листьями – живое не могло быть таким холодным в такую жаркую ночь. Во тьме стали постепенно вырисовываться контуры деревьев – как вышивка черным по черному, а сама тьма походила на бледную кожу, растянутую на обуглившихся ребрах. Вверху, над далекими бурунами листьев, юбкой над ногами скелета шелестело небо. Невесть откуда бравшиеся странные паутинки волосами призраков щекотали мне шею и щеки, я чесал эти места, но они все равно продолжали меня щекотать. Лес сомкнулся в объятие ведьмы, он был как ее волосы, как жаркое дыхание, как жесткая кожа и острые когти. И уже когда меня стал переполнять такой страх, от которого голова шла кругом, я вдруг вышел к самой дороге, на широкую просеку, продуваемую ветром. Я включил фонарик и побежал обратно домой в светлом туннеле, прочерченном лучом над тропинкой.
Наутро я заметил, что ноги у меня измазаны в грязи и покрыты запекшейся кровью цвета чайной заварки на местах укусов и царапин от веток. Потом я весь день находил такие царапины в самых странных местах – за ушами, на тыльных сторонах рук, они шли узкими кровавыми полосами, как будто тонкой линией прочерченные ручкой с красными чернилами. Я был уверен, что это испытание стало наказанием моим страхам. Но на следующую ночь я проснулся в том же состоянии – продрогнув от испуга до костей. Еще два раза я так ходил через лес к дороге, заставляя себя продираться сквозь лесную темень. Но я и теперь не выношу мрак у себя в комнате.
Когда мне было двенадцать, я подружился с девочкой-китаянкой, которая была значительно взрослее, но почти одного со мной роста. Мне очень нравилась ее кожаная кепочка, смуглая кожа, тщательно уложенные в замысловатую прическу волосы. Я представлял себе, что китаянки делали себе такие же прически четыре тысячи лет назад! Еще я дружил с одним ирландским парнишкой и с датчанином. Листая журнал «Нэшнл Джиогрэфик», я наткнулся на статью о прекрасно сохранившихся в болотах телах давно умерших людей. От того, что они так хорошо сохранились, я испытывал какое-то странное удовлетворение. Их тела были совсем не такими, какие папа показывал мне на фотографиях. Я брал горстями пахучую землю и размазывал ее по плечам, прикосновение к пористому торфяному одеялу земли вселяло ощущение покоя. Теперь я понимаю, что меня не привлекали ни археология, ни судебная медицина: страстью моей была биография. Лица, смотревшие мне в глаза сквозь века, изборожденные морщинами, как лицо мамы, когда она засыпала на кушетке, лица многих безымянных людей. Они глядели на меня и ждали чего-то в молчании. Делом моей совести было представить себе тех, кому они принадлежали.
* * *
Читая карту погоды, как и партитуру, мы на самом деле читаем время. Я уверен, Яков Бир, ты согласился бы со мной в том, что можно составить карту жизни, на которой были бы отражены зоны давления, фронты погоды, океанические влияния.
Оценки и выводы написанных задним числом биографий так же уклончивы и умозрительны, как долгосрочные прогнозы погоды. Они построены на интуиции и догадках. Как возможные вероятности. Как домыслы о влияниях той информации, которой мы никогда не будем располагать, потому что она никогда не фиксировалась. Как значение не того, что было, а того, что исчезло. Посмертно – или задним числом – осмыслению поддаются жизненные пути даже самых таинственных героев, пусть хотя бы частичному. Генри Джеймс[110]110
Джеймс, Генри (1843–1916) – американский писатель, использовавший в своих романах приемы «потока сознания» для более глубокого проникновения в психологию героев.
[Закрыть], которого принято считать в жизни человеком скромным, сжигал все приходившие ему письма. Если я кому-то буду интересен, говорил он, пусть он сначала попробует раскусить «непробиваемый гранит» моего искусства! Но даже жизнь Джеймса позже была осмыслена, причем именно в том ключе, который был задан им самим. Я уверен, что он прекрасно отдавал себе отчет в том, как именно будет написана история его жизни, если исчезнут все адресованные ему письма. Стремление разобраться в душе другого человека, понять двигавшие им побудительные мотивы так же глубоко, как свои собственные, сродни стремлениям любовника. А погоня за фактами, местами, именами, оказавшими на него влияние событиями, важными разговорами и перепиской, политическими обстоятельствами – все это теряет смысл, если ты не в состоянии вникнуть в побудительные мотивы, определявшие жизнь твоего героя.
* * *
Все подробности о жизни моих родителей до того, как они перебрались в Канаду, я знаю со слов матери. После обеда, перед тем как папа возвращался из консерватории, у нас на кухне – которая, наверное, особенно нравилась призракам, – собирались бабушки и братья мамы – Андрей и Макс. Папа даже не подозревал, что под крышей его дома часто встречаются выходцы с того света. Только раз в жизни при мне в папином присутствии было упомянуто имя одного из членов его пропавшей семьи – кто-то, о ком мы говорили за обедом, был «очень похож на дядю Иосифа». Отец поднял глаза от тарелки и уставился на маму – взгляд его был жутким. По мере того как я взрослел, этот заговор молчания все больше осложнял нашу жизнь – все больше и больше секретов приходилось хранить от отца. Наши с мамой тайны от него стали как бы ответным сговором на его заговор молчания. Самый сильный бунт, в который вылился наш сговор, состоял в том, что мама стремилась внушить мне абсолютную, непререкаемую необходимость удовольствий.
Мама моя болезненно любила мир. Когда я видел ее восторг по поводу цвета цветка, по поводу самых простых удовольствий – чего-то сладкого, чего-то свежего, чего-то из одежды, пусть самой скромной, радости от теплой погоды, – я никогда не позволял себе свысока относиться к ее чувствам. Наоборот, я снова смотрел на то, что ей нравилось, еще раз пробовал то, что ей было вкусно, подчеркнуто замечая то, что дарило ей радость. Я знал, что ее благодарность за все хорошее отнюдь не была чрезмерной. Теперь я понимаю, что эту свою благодарность она как бы несла в дар мне. Я долго думал, что этим она стремилась вселить в меня отчаянный страх утраты – но я был не прав. Не утрата доводит до отчаяния.
Утрата как предел – она все обострила в маме и все иссушила в отце. Поэтому мне казалось, что мама сильнее. Но теперь я понимаю, в чем между ними была разница: то, что пережил отец, было еще страшнее того, что выпало на мамину долю.








