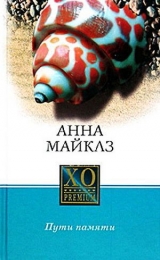
Текст книги "Пути памяти"
Автор книги: Анна Майклз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
* * *
Когда я был мальчишкой, смерчи поражали меня своим странным неистовством, слепой целенаправленностью злобы. Половина жилого дома разрушена, и тем не менее в дюйме от рухнувшей стены на накрытом к обеду столе не тронут ни один прибор. Или чековая книжка, вырванная из кармана. Человек открывает входную дверь, смерч его несет двести футов над кронами деревьев, а потом целым и невредимым сажает на землю. Корзина с яйцами летит по воздуху пятьсот метров, и ураган так ее приземляет, что не разбилось ни одно яйцо. Множество предметов невредимыми путешествуют по воздуху с одного места на другое в мгновение ока в спускающихся и поднимающихся воздушных потоках: банка с солеными огурцами пролетела двадцать пять миль, зеркало, собаки с кошками, смерч срывал одеяла с кроватей так, что лежавшие под ними люди даже не просыпались. Торнадо поднимал в воздух целые реки, оставляя русла сухими, а потом возвращал их обратно. Как-то женщину пронесло по воздуху шестьдесят футов и опустило на поле рядом с непоцарапанной пластинкой «Штормовая погода».
Некоторые причуды смерчей бывают далеко не такими безобидными: случается, что ураган выбрасывает детей из окон, срывает бороды с лиц или головы с тел. Как-то раз вся семья собралась за ужином, когда с грохотом распахнулась дверь. По улице рыскал торнадо, казалось, смерч неторопливо прогуливается, выбирая себе жертву, – капризная, таинственная черная воронка, скользящая по земле с оглушительным воем, перекрывающим гудки тысячи поездов.
Иногда я читал маме, когда она готовила обед. Я читал ей о бедах, причиненных торнадо в Техасе: смерч втягивал людское добро и уносил его в пустыню – груды яблок, лука, ювелирные украшения, очки, одежду – «лагерь». Битого стекла было достаточно, чтобы покрыть семнадцать футбольных полей – «хрустальная ночь». Я читал ей о молнии – «это, Бен, знак СС, он у них был на воротничках».
Когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, из разговоров с мамой я узнал, что «тем, кто владел каким-нибудь ремеслом, было легче выжить». Я пошел в библиотеку, нашел там «Мальчика-электрика» Армака и стал по нему пополнять свой словарный запас: конденсаторы, диоды, вольтметры, индукционные катушки, длинноносые кусачки. Я штурмовал «Торжество знания» – серию таких книжек, как «Электроника для начинающих», «Живой мир науки». Только потом я стал понимать, что знания правильных слов может быть недостаточно. Я нерешительно попросил у отца денег на первую электронную плату и паяльник. Хоть в этих вещах он разбирался слабо, я не удивился тому, что он счел их полезными и какое-то время пытался развивать у меня к ним интерес. Мы вместе с ним поехали в магазин «Сделай сам» за тумблерами, выключателями, разными ручками и указателями. На день рождения он подарил мне микроскоп и диапозитивы. Остальное оборудование я покупал себе самостоятельно: влажный и сухой гигрометры, газовую горелку Бунзена, изогнутые трубки и воронки, пипетки, конические колбы. Мама великодушно разобрала кладовку, чтобы освободить там мне место под лабораторию, где потом я проводил в одиночестве часы напролет. Даже лабораторный халат, который она мне сшила из рваной простыни, не умерил моего энтузиазма. Я не очень во всем этом разбирался, все время сверял свои действия с книгой, потому что ни химия, ни электричество меня на самом деле особенно не интересовали, но мне нравился запах припоя, и я очень удивился, когда моя первая электрическая цепь зажгла лампочку, осветившую ту темную кладовку.
Как-то летним днем к нам в дверь постучал сосед, живший на одном с нами этаже, и дал мне книжку комиксов из серии «Иллюстрированная классика». Мама почему-то особенно стеснялась господина Диксона, который работал в магазине мужской одежды и всегда был одет с иголочки. Господин Диксон купил книжку внуку, но оказалось, что у него уже есть этот выпуск – № 105, «Путешествие с Земли на Луну» Жюля Верна. Мама хотела ему заплатить, настаивала на том, чтоб он взял деньги, но господин Диксон наотрез отказался. Тогда она рассыпалась перед ним в благодарности. Я тем временем уже шел с книгой на балкон, читая первые строки: «После того как человек был уже практически обречен всю оставшуюся жизнь вращаться вокруг Луны, а потом пережил падение с высоты более 200 000 миль в Тихий океан, ему уже ничего не страшно»[111]111
Перевод М. М. Гурвица
[Закрыть].
Потом я стал клянчить у мамы деньги на подборку иллюстрированных выжимок литературных шедевров. Я жадно проглатывал каждую книжку – от зазывных текстов суперобложки до настойчивых заключительных призывов: «А теперь, когда ты познакомился с этим изданием в серии "Иллюстрированная классика", не лишай себя удовольствия прочитать эту книгу в оригинале». Съев мякоть плода, я потом еще и косточку обсасывал: заключительные страницы этих книжечек посвящались назидательным очеркам. Там печатали краткие биографии типа: «Николай Коперник – основоположник учения о Солнечной системе», сюжеты знаменитых опер, просто любопытные сведения, которые навсегда врезались мне в память. Например, в конце «Завоеваний Цезаря» было написано: «Легион состоял из 6000 воинов»; «На бортах греческих кораблей были нарисованы глаза, чтобы корабли могли видеть»; «Цезарь всегда писал о себе в третьем лице».
Увлекался я и другой серией – «Собаки-герои». Одним из героических псов был Бренди, сообразительный спаниель, спасший мальчика от быка. Другим был Фокси, храбро кусавший немцев во время Первой мировой войны, пока его хозяин от них прятался.
Первая иллюстрированная книжка, которую я купил себе сам, была посвящена морским приключениям, ее написали Нордхофф и Холл. Рассказчик вел меня за собой сквозь бури и бунты на кораблях («Мы захватили корабль…», «Вы что, с ума сошли, мистер Черчилль?»). Я выбрал «Людей против моря» потому, что, раскрыв эту книжицу, прочел: «Я попросил принести мне перо и бумагу, чтобы написать о том, что со мной случилось… и хоть как-то облегчить одолевшее меня одиночество…»
Когда мне было четырнадцать, я несколько недель напролет приставал к маме с просьбой отпустить меня с друзьями из школы на ежегодную ярмарку, проводившуюся на Канадской национальной выставке. Я никогда не испытывал такой радостной приподнятости, такого тесного, слитного единения с толпой, как в тот день. Наши футболки пропитались потом, руки и подошвы ботинок стали липкими в этой вязкой толчее, бурлившей на августовском солнце. Мы изумленно глазели на цветные телевизоры, на часы, которые не надо было заводить, шалели от новой технологии печатных плат, суливших вскоре изменить нашу жизнь к лучшему, нам кружили головы аттракционы, на которых мы пронзительно визжали. Когда надо было передохнуть, мы перелезали через заборы сельскохозяйственных павильонов и смотрели, как стригут овец и доят коров с помощью новейших технических достижений. Чтобы сделать приятное маме, я набрал кучу проспектов на глянцевой бумаге о последних бытовых новинках – составах для натирки полов, электрических миксерах и автоматических открывалках для консервных банок. Сумка, которую я взял из дома, распухла от картонных вымпелов, флажков, бейсбольных кепок и шариковых ручек с рекламой всяких компаний и продуктов – кукурузного сиропа, образцов кремов для бритья и пятновыводителей, пакетиков с кукурузными хлопьями и чаем. Мы без разбору набивали сумки всем, что нам предлагали.
Вернувшись домой, я в волнении выложил все на стол, чтобы мама увидела все мои богатства. Она посмотрела на все эти дары, а потом не без доли досады затолкала все обратно в сумку. Мама не могла поверить, что все это мне дали просто так, она была уверена, что произошла какая-то ошибка. Когда она взяла все карандаши и шариковые ручки, я не выдержал и закричал:
– Они же там их всем давали бесплатно! Клянусь тебе! Они даже называются бесплатные образцы, потому что они бесплатные… – Я бился в истерике.
Мама взяла с меня обещание ничего не говорить отцу и разрешила спрятать сумку у меня в комнате. На следующее утро я встал пораньше, взял сумку, дошел до угла и выкинул ее в мусорный бак.
Теперь связывавшие нас узы обрели новое качество. Время от времени мама хитровато припоминала этот случай. Хотя она была уверена, что я взял те вещи не по праву, а, скажем, по ошибке, все равно она была на моей стороне. Вина моя. Секрет наш.
С тех пор я начал понемногу расширять представления о городе, совершая после школы небольшие прогулки в незнакомые районы. Город раскрывал мне свои овраги, угольные подъемники, кирпичные склады. Хоть я тогда не мог еще выразить чувств словами, меня порой чаровала заброшенность – молчаливая драма опустевших фабрик и складов, ржавых грузовых пароходов и руин промышленных зданий.
Я думал, что мои прогулки приучат маму не ждать меня больше, выглядывая из окна или с балкона на улицу, что она свыкнется с мыслью о моей свободе и не будет волноваться до вечера. Я тешу себя мыслью о том, что тогда не понимал всю меру своей жестокости по отношению к ней. Когда мы с папой по утрам уходили из дому, мама никогда не была вполне уверена в том, что мы вообще когда-нибудь вернемся обратно.
Школьных друзей я домой не приглашал. Мне не хотелось, чтобы они видели нашу старую обшарпанную мебель, я неловко себя чувствовал, когда мама начинала донимать их вопросами о том, как их зовут, кто у них родители, где они родились. Мама все время выспрашивала нас с отцом о новостях в нашей жизни, о том, что говорили учителя и ученики, папины студенты, которых он учил играть на пианино, но мы не были в курсе их проблем. Мама всегда тщательно готовилась к каждому выходу из дому – в магазин за покупками или летом, когда, прогуливаясь, смотрела, что нового в садах, разбитых по соседству (она сама любила копаться в земле, цветы у нее росли на балконе и в ящиках на подоконниках). Она брала с собой в сумочке наши паспорта и документы о гражданстве «на случай ограбления». Мама никогда не оставляла в раковине грязную посуду, даже если ей срочно надо было выйти в ближайший магазин.
К удовольствию мама всегда относилась всерьез. У нее был праздник каждый раз, когда она открывала новую банку растворимого кофе и вдыхала его аромат. Ей был приятен запах нашего стираного постельного белья. Она могла полчаса наслаждаться вкусом кусочка торта, купленного в булочной, как будто его собственноручно испек Господь. Каждый раз, когда она покупала себе какую-нибудь новую вещь, которая, как правило, уже была просто необходима (когда от штопки на старой вещи живого места не оставалось), она относилась к этому событию так, будто покупала первую в своей жизни блузку или первую пару чулок. Сила ее чувств была такой, Яков Бир, что даже ты не смог бы измерить ее до конца. Тогда вечером ты взглянул на меня и сразу же определил мое место в человеческом паноптикуме: еще один представитель рода человеческого с красавицей женой; еще один сухарь академический. Но ведь ты сам уже жил как набальзамированный! Меня в этом убеждали и спокойствие твое безмерное, и умиротворенность неуемная.
На самом деле на меня в тот вечер ты вообще не обратил никакого внимания. Но я видел, что Наоми раскрылась тогда, как цветок.
В то лето, когда я перешел на второй курс университета, у меня возникло непреодолимое желание начать жить самостоятельно, хотя мама напрочь отказывалась с этим смириться. Как-то жарким августовским утром я перетаскивал коробки с книгами во влажную цементную прохладу гаража в подвале и грузил их в машину. Мама демонстративно ушла к себе в спальню и закрыла дверь. Вышла она оттуда только тогда, когда я затолкал в багажник последнюю коробку и уже собрался было уезжать. Она хмуро собрала мне еды на дорогу, и, когда передавала мне пластиковый пакетик с этими припасами, я понял, что в наших отношениях что-то сломалось, что-то стало безвозвратно утрачено. Потом на протяжении многих лет каждый раз, когда я их навещал, она перед уходом неизменно давала мне в дверях такой же нелепый пакетик с едой, которой едва хватало, чтоб заморить червячка, перебив голод. С годами ее боль постепенно проходила, мешочек становился все более тощим, пока она не стала класть туда пакетик с такими же леденцами, какие когда-то в детстве протягивала мне с переднего сиденья машины во время наших воскресных поездок за город.
В первую ночь, проведенную в собственной квартире всего в нескольких милях от родителей, я лег на кровать и не снимал трубку, когда раздавались звонки, зная, что звонит мама. Я не говорил с родителями неделю, потом, бывало, не звонил им по нескольку недель кряду, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, как они беспокоятся. Когда в конце концов я решил их навестить, мне показалось, что родители мои живут так же, как прежде, – каждый в мире собственного молчания, но мое дезертирство их сблизило еще теснее единым общим шрамом души. Мама, как и раньше, пыталась делиться со мной своими незамысловатыми тайнами, но теперь она делала это словно для того, чтобы взять обратно свое былое доверие. Сначала мне казалось, что она на меня сердится и наказывает за то, что я лишил ее возможности жить со мной, как раньше, одной семьей. Но мама на меня не сердилась. Мое стремление к свободе привело к более печальным последствиям – ей стало страшно. Мне кажется, что порой мама действительно переставала мне доверять. Она начинала что-то рассказывать, а потом ни с того ни с сего смолкала.
– Тебе это все неинтересно…
Когда я пытался ее переубедить, она отсылала меня в гостиную к отцу. А когда в нашу жизнь вошла Наоми, такое стало случаться еще чаще.
Папино поведение почти не изменилось. Когда я навещал их, он либо места себе не находил, то и дело обреченно поглядывая на часы, либо сиднем сидел в своей комнате, уставившись в книгу, – очередные воспоминания тех, кому удалось выжить, очередную статью с фотографиями. Потом, вернувшись к себе в квартиру на верхнем этаже старого здания около университета, я подолгу смотрел на тканые узоры покрывала на кровати, на книжный шкаф. На химчистку, цветочный магазин и аптеку через улицу. Я знал, что родители тоже не могут уснуть, нас одолевала бессонница, как часовых присяга.
По выходным я от безысходности отправлялся в дальние прогулки по городу; по ночам парил на крыльях книжной премудрости. Большую часть студенческих лет я провел в одиночестве, которое исчезало только на занятиях в университете и в книжном магазине, где я иногда подрабатывал. Там у меня завязался роман с помощницей управляющего. После первых объятий мы не расстались с ней сразу только для того, чтобы снова и снова убеждаться в том, что они и в самом деле так же безрадостны, как нам казалось. Тело ее отличалось удивительной дородностью, во всем – как в теле, так и в убеждениях – проявлялась непреклонная твердость. Под нарядным платьем в «восточном» стиле она носила майки с такими лозунгами, которые я бы никогда не решился отстаивать, например: «Левая рука дает то, что правая отнимает». Иногда мы с сокурсниками ходили в ресторан или в кино, но настоящими друзьями я так и не обзавелся.
Долгое время меня не оставляло такое ощущение, что вся моя энергия уходит на то, чтобы переступить порог родительского дома, когда я оттуда уходил.
Насколько возможно – в тех пределах, которые определены обязанностями гражданина Канады, – отец всячески избегал каких бы то ни было отношений с государственными учреждениями. Поэтому я предвидел его упорное сопротивление в оформлении пенсии по старости, несмотря на то что для них с мамой этот источник существования был жизненно важен. Когда настало время, я позвонил в соответствующую контору, выяснил, какие ему были нужны для этого документы, и рассказал об этом маме.
Спустя пару недель я пришел к ним на обед. Отец сидел в своей комнате, дверь ее была закрыта. Мама отошла от горячей плиты и села за кухонный стол.
– Никогда больше не говори с отцом о пенсии.
– Но мы же столько для этого сделали…
– Он был там вчера.
– Ну наконец-то. Слава Богу.
Мама всплеснула руками, и у меня возникло такое чувство, будто я выглядел в ее глазах полным идиотом.
– Тебе кажется, что все так просто… Он пошел туда, куда было надо. У него с собой были все необходимые документы. Он дал свидетельство о рождении человеку, который сидел перед ним за столом. А тот человек ему сказал: «Я хорошо знаю то место, где вы родились». Твой отец подумал, что он тоже из тех краев. Потом тот человек тихо ему сказал: «Да, мы квартировали там в 41-м и 42-м», пристально на него уставился, и твой отец сразу все понял. После этого тот чиновник склонился над столом и сказал папе так тихо, что он едва расслышал его слова: «Ваши документы неправильно оформлены». Папа пулей вылетел из той конторы. Но домой он пришел только несколько часов спустя.
Я подался вместе со стулом назад.
– Не надо, Бен. Не трогай его сейчас. Если он узнает, что я тебе обо всем рассказала, он не выйдет к обеду из комнаты.
Мне было ясно, что обедать с нами он не будет ни в каком случае. Мама, наверное, могла бы даже отменить на несколько дней все его занятия.
– Это ты заставил его туда пойти. Ты его уговорил. Не думай, сынок, что в жизни легко получить что-то даром.
* * *
Большинство осознает отсутствие лишь с пропажей наличия; печаль заполняет просеку только после того, как срублены деревья. Только тогда душа начинает болеть от утраты того, что нам было дорого.
Я родился в отсутствии. История определила мне место в просеке, где черви жрут гниль перегноя земли, покинутой корнями. Ее заболотили дожди, зеленая тоска болота покрыла ее зыбким налетом цветочной пыльцы.
Там мы и жили с родителями в этом заброшенном болоте, гниющем от печали. Казалось, что Наоми поняла это изначально и отдала нам сердце с естественностью дыхания. Но для меня любовь была как вдох без выдоха.
Наоми стояла ногами на твердой земле, она протянула мне руку. Я взял ее в свою, но что с ней делать дальше – не знал.
Наоми не отдавала себе отчет в собственной красоте. В изгибах ее тела чувствовалась сила и соразмерность, когда она что-то говорила, к лицу приливала краска, интенсивность которой была точным показателем ее эмоционального состояния. Она не была ни худышкой ни толстушкой, скорее, ее можно было назвать плюшево-бархат-ной. К себе она относилась более чем критически – ни спортивные ноги, ни пышные светлые волосы ее не радовали, ей хотелось быть выше, изящнее, элегантнее; она страшно переживала по поводу каждого грамма лишнего веса выше талии. Точно так же, как к физическим своим данным, Наоми относилась и к собственным умственным способностям, она не придавала значения их достоинствам, акцентируя внимание на недостатках, – все, что она читала, в счет не шло, значение имело лишь то, что она не успела прочесть. Иногда Наоми внимательно слушала, а потом с болезненной точностью высказывала собственное суждение, проникая в самую суть проблемы, – как будто искусный воин точным ударом сабли рассекал фрукт пополам. Так, в частности, случилось, когда мы ехали в тот вечер на машине домой от Мориса Залмана. Наоми тогда сказала:
– Яков Бир выглядит как человек, который в конце концов правильно сформулировал вопрос.
Вскоре после получения в университете постоянной преподавательской ставки я начал работу над второй книгой, посвященной погоде и войне. Вновь нависла угроза кулинарного сопровождения моей работы Наоми взрывными или горящими в огне блюдами, но, к счастью, она решила, что такое меню может быть опасным. Название книги я заимствовал у Тревельяна[112]112
Тревельян, Джордж Маколей (1876–1962) – английский историк, известность которому принесла работа «Социальная история Англии», изданная в 1944 г.
[Закрыть] – «Бессмертный враг». Это его выражение относилось к урагану, помешавшему военно-морским силам Англии в ходе войны с Францией. Тревельян дал верное определение подлинного противника – ураган на море проходится по палубе судна потоками воды на скорости сто миль в час, воющий ветер дует с такой силой, что человек не может там ни дышать, ни смотреть, ни стоять.
В годы Первой мировой войны в горах Тироля специально обрушивали лавины, хоронившие под собой врага. Примерно в то же время начали проводить исследования с целью использования в качестве оружия торнадо, но эти разработки так и не были завершены, потому что нельзя было с уверенностью сказать, не повернет ли торнадо на позиции той стороны, которая решила его использовать против неприятеля.
По пути из Парижа в Шартр Эдуард III[113]113
Эдуард III (1312–1377) – английский король из династии Плантагенетов. Начал Столетнюю войну с Францией (1337–1453). 8 мая 1360 г. в местечке Бретиньи неподалеку от Шартра подписал мирный договор с французским королем Иоанном II Добрым, который не был ратифицирован.
[Закрыть] чуть не погиб во время сильнейшего града. Он дал Пресвятой Деве Марии обет заключить мир, если спасется от огромных градин величиной с камень, и выполнил обещание, подписав мирный договор в Бретиньи. Англию спас шторм, погубивший испанскую армаду. Грозы с градом прошли по Франции над территорией протяженностью в пятьсот миль, погубили урожай и привели к голоду, который стал одной из причин Французской революции. Зима – неизменная союзница России – одолела армию Наполеона. От зажигательных бомб, которые сбрасывали на Гамбург, возникали торнадо. Термин «фронт» был заимствован военными у метеорологов в ходе Первой мировой войны…
Когда немцы вторглись в Грецию, передача всех прогнозов погоды королевскими военно-воздушными силами и службами синоптиков была сознательно прекращена. Карта погоды Средиземноморья стала неполной, чтобы немецкие пилоты не смогли воспользоваться греческими прогнозами во время воздушных налетов.
Гиммлер верил, что Германия может изменить даже погоду на оккупированных немцами территориях. Разминая в пальцах польскую землю – «теперь землю Германии», – он рассуждал о том, как арийские поселенцы будут сажать деревья, «сделают так, что роса станет выпадать более обильно, увеличится облачность, чаще будут идти дожди, и это приведет к улучшению климата на востоке, что, в свою очередь, поможет в развитии экономики…»
Наоми ходила на один из моих курсов – «Формы биографии». Когда я впервые ее увидел, мне показалось, что она похожа на чудаковатую монашенку. Тогда ей нравилось одеваться в просторную одежду, которая выглядела на ней так, будто она одолжила ее у какой-то своей престарелой родственницы. Такая манера одеваться вызывала во мне сильное влечение к ней. Мне ужасно хотелось коснуться ее, засунуть руки в ее огромные карманы или в обвислые рукава.
Квартирка Наоми была малюсенькой – как будто она жила в кабинете врача. Из-за нехватки места одно громоздилось на другом, доступ к каким-то вещам был постоянно закрыт другими, и все они в любой момент были готовы обрушиться на пол. Ликеры были спрятана у нее на книжной полке за книгами авторов, фамилии которых начинаются на букву «Б»[114]114
Booze – выпивка (англ.).
[Закрыть], – позади Башелара[115]115
Башелар, Гастон (1884–1962) – французский философ.
[Закрыть], Бальзака, Бенжамена[116]116
Бенжамен, Констан (1845–1902) – французский живописец.
[Закрыть], Бергера[117]117
Бергер, Иоанн-Непомук (1816–1870) – австрийский государственный деятель.
[Закрыть], Богана[118]118
Боган, Луис – американская поэтесса нач. XX в.
[Закрыть]. Виски закрывал том сэра Вальтера[119]119
Автор имеет в виду Вальтера Скотта, фамилия которого начинается с буквы «S», с той же буквы, что и слово «Scotch» – шотландское виски (англ.).
[Закрыть]. Она обожала собственные простоватые шутки, причем чем менее шутка была замысловата, тем больше она смеялась, часто до слез. Эти привычки она сохранила и после свадьбы в нашей совместной жизни. Однажды в день моего рождения она устроила игру «горячо-холодно», и последняя подсказка конечно же указывала на праздничный торт со свечами.
Страстью Наоми были научно-фантастические фильмы 50-х годов, которые мы часто смотрели до поздней ночи. Она всегда была на стороне одинокого чудовища, которое, как правило, сначала было нормальных размеров, но потом под влиянием облучения превращалось в огромного монстра. Глядя на экран телевизора, она умоляла гигантского осьминога разрушить колоссальными щупальцами мост. Она мне как-то по секрету призналась, что ей всегда хотелось сыграть роль молодой женщины – ученой, неизменно появлявшейся на сцене, чтобы уничтожить чудовищного облученного кальмара (гориллу, паука или шмеля); ей хотелось быть светилом ядерной физики или биологом, раскрывающим тайны морских глубин, и расхаживать в лабораторном халатике, более соблазнительном, чем роскошный вечерний туалет.
Она любила музыку и слушала все подряд – яванский гамелан, грузинский многоголосый хор, средневековую шарманку. Но предметом ее гордости была коллекция колыбельных чуть ли не всех стран мира. Колыбельные для первенцев, для ребенка, который хочет бодрствовать вместе с братом всю ночь, для детей, которые слишком возбуждены или слишком испуганы и не могут уснуть. Колыбельные военного времени, колыбельные для брошенных детей.
Впервые Наоми мне пела, примостившись на краешке кушетки. Стояла теплая сентябрьская ночь, окно было распахнуто настежь. Ее голос звучал низко, как шепот травы. Он почему-то навеял мне мысли о лунном свете на крыше. Она пела колыбельную гетто, полную томящей душу непонятно светлой печали, во тьме витал запах лосьона от загара, которым она мазала руки и ноги, он пропитывал тонкую хлопковую ткань ее цветастой юбки: «Пусть поближе к сердцу будет алфавит, хоть от слез на буквах сердце заболит», «я спою тебе на ушко, пусть приходит сон, ручкой маленькую дверцу закрывает он».
Что-то тускло замерцало в самой глубине моего естества. Я собрался с духом: самым главным делом в жизни было найти силы для того, чтобы оторвать от подушки голову и положить ее ей на колени. Я прижимался губами к тонкой, как паутинка, ткани ее юбки, целуя ей ноги. Вверху надо мной половинкой луны зависло ее лицо, оттененное волосами.
Наоми и теперь, спустя восемь лет, продолжает собирать колыбельные, но слушает их сама, в основном когда едет в машине. Я представляю себе слезы, которые вызывают у нее эти старые песни в плотном потоке движения в час пик. В последний раз Наоми пела мне так давно, что я и не припомню, когда это было. Много воды утекло с тех пор, как я слушал песенки-загадки, цыганские романсы и русские песни, не говоря уже о песнях партизан, гимне французского Иностранного легиона, руладах «ай-ли-ру» или «ай-люли-люли», успокаивающих рыбу в море, или «баюшки-баю», навевающих сон птичкам на ветвях.
Не звучит больше страсть в ее чувствах.
С годами неожиданные высказывания Наоми, срывавшиеся, как мне казалось, ни к селу ни к городу, продолжали ставить меня в тупик, как грибной дождь при ярком солнце. Когда мы ходили в магазин за продуктами, я пожинал плоды женитьбы на редакторе научной литературы. Выбирая салат, я, например, мог узнать такой любопытный факт, что Шопена хоронили под музыку написанного им самим «Похоронного марша». Подсчитывая, какие нам придется платить налоги, я выяснял, что «Бее-бее, черненькая козочка» и «Мерцай, мерцай, маленькая звездочка» поются на один и тот же мотив. Много интересных сведений я почерпнул от Наоми, когда брился или просматривал газеты:
– После Первой мировой войны один немецкий физик решил добывать из морской воды золото, чтобы помочь Германии выплатить долги, которые она сделала во время войны. Он уже научился добывать водород из воздуха, чтобы делать взрывчатку. Кстати, если уж речь зашла о войне, ты знаешь, что Амелия Эрхарт[120]120
Эрхарт, Амелия (1897–1937) – американская летчица, которая в 1932 г. стала первой в мире женщиной, в одиночку совершившей перелет через Атлантический океан от Ньюфаундленда до Лондондерри. В 1937 г. во время кругосветного полета она пропала без вести над Тихим океаном.
[Закрыть] в 1918 году была медсестрой в торонтской больнице, где лечили раненых солдат? И к вопросу о медсестрах: когда Эчер приехал в Торонто прочитать лекцию, ему пришлось сделать срочную операцию.
Несколько месяцев Наоми занималась муниципальными проблемами.
– Расскажи мне, что нового в городе?
Лежа в кровати в любимой серой маечке с коротким рукавом, бесформенной, как амеба, она совращала меня подробностями. Рассказывала о юристах, архитекторах, чиновниках; я знал их всех по ее описаниям. Их литературные и музыкальные вкусы, забавные случаи, происходившие с ними дома и в общественных местах, – все мелочи жизни отцов города. Они рисовали мне в воображении неординарную, но вполне реалистичную картину его жизни. Города возводятся на обещаниях, данных при нежданных встречах, на разделенной любви к каким-то блюдам, на случайных беседах в закрытых бассейнах. На третьей неделе общения с городским руководством, бросая на меня многозначительные взгляды, она рассказала об увлечении одного политика антикварным стеклом, объяснив связь этой его страсти с новыми правилами парковки автомобилей. Наоми рассказывала мне эти истории с изысканностью придворной интриганки. Без всякого злорадства досужей сплетницы, которая рада возможности почесать языком, обсасывая пикантные подробности, а с осознанной ясностью того, что она раскрывает мне подлинные внутренние механизмы гражданской власти. Иногда, когда она смолкала, я напряженно оборачивался к ней, нетерпеливо ожидая продолжения, как будто вкус ее рассказа жег мне рот.
Я старался отвечать ей взаимностью на эти истории, рассказанные перед сном, и посвящал ее в тайны капризов погоды. Когда снег в горах уже готов обрушиться лавиной, достаточно чихнуть, выстрелить, хватит заячьего прыжка – стихийное бедствие может случиться по самому ничтожному поводу. Однажды верный пес три дня провел на снегу у обрушившейся лавины; когда в том месте, где он сидел, раскопали снег, на поверхность вытащили ошалевшего почтальона из маленькой швейцарской деревушки Зюрс, который выжил лишь потому, что вновь выпавший пушистый снег почти целиком состоит из воздуха.
Как-то раз в России смерч вырыл из земли клад и дождем разбросал серебряные копейки по улицам деревни.
Был случай, когда целый грузовой состав поднялся в воздух, а потом торнадо снова опустил его на рельсы, только головой в обратном направлении.
Иногда, признаюсь, я слегка привирал. Наоми всегда это замечала.
– Источник мне назови, – требовала она тогда, – скажи мне, откуда ты это взял!
Потом она снимала мои очки, аккуратно касаясь только оправы, и начинала колотить меня подушкой.
Иногда во время путешествий на машине мы с ней играли в одну игру. Наоми помнила так много песен, что, по собственному признанию, могла найти такую колыбельную, частушку или балладу, которая по духу соответствовала бы характеру любого человека. Как-то зимой я спросил ее, какие песни ей приходят на ум, когда она думает о моих родителях. Ответ последовал незамедлительно:
– И папе твоему, и маме больше всего подходит «Ночь». Да, «Ночь».
Я бросил в ее сторону удивленный взгляд. Увидев, что я ее не понимаю, она растерялась и почувствовала себя не совсем в своей тарелке.
– Ну… потому что они слышали, как Люба Левитская пела эту песню в гетто.
Я снова уставился на нее в недоумении. Она вздохнула.
– Бен, смотри лучше на дорогу. Люба Левитская… Твоя мама рассказывала мне о ее великолепном колоратурном сопрано, она была настоящей певицей. В двадцать один год она уже исполняла арию Виолетты в «Травиате». Причем на идише! В гетто она давала детям уроки пения. Люба разучивала с ними «Цвай таубелих» – «Два голубка», и вскоре там все пели эту песню. Кто-то предложил ей выбраться из гетто и спрятаться от фашистов, но она не оставила мать. Их там потом и убили вдвоем… Когда война уже была в разгаре, она выступила на концерте в память тех, кто уже погиб. Там возник ожесточенный спор, потому что один человек говорил, что нельзя давать концерт на кладбище. Но мама твоя мне рассказывала, что твой отец тогда сказал, что ничего не может быть более святым, чем исполнение «Ночи» Любой Левитской.








