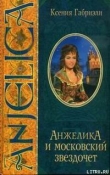Текст книги "Анжелика в России"
Автор книги: Анн-Мари Нуво
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Меж шинков и на площади нескончаемо и буйно тянулось странное переплетение пьянки и торга. Яркие восточные ткани, золотые и серебрянные кубки, сбруя валялись прямо на земле, на конском навозе, передвигаемые, меняемые, пропиваемые. Сушеная рыба была обсыпана недозрелой вишней. Где-то вяло бренчали музыканты. Звуков не было слышно из-за сплошного пьяного гула. Закопченные, полуодетые, усатые люди пили, пели, орали, плясали, пьяно целовались, короче, вели себя совершенно непринужденно. Богатое шитье сочеталось с грязными лохмотьями. Обрывки немецких, турецких, польских фраз доносились из общего шума, подобного морскому прибою.
Мигулин признал кого-то среди сидящих под стеною шинка казаков и, свешиваясь с седла, расспрашивал. Собеседник его, подстриженный в кружок молодой усатый воин, одетый в изорванную рубаху и ярко-синие бархатные шаровары, отвечал усмешливо и равнодушно. Сосед его, могучего сложения детина с пеной на губах, смотрел остановившимся взором прямо перед собой и изредка поводил рукой, будто отгонял от лица комаров.
– А наши, донские зараз на Сечи есть?
– Та трохи е, – отвечал усатый. – Стенькины хлопцы.
– А на Крым или на Турцию не думаете?…
– Та думаем… – лениво кивал усатый. – Вот зараз выпьемо та подумаем…
– А где зараз Шашол?
– Та в себе…
Подхватив под уздцы коня Анжелики, Мигулин проехал к одной из изб, спешился, жестом дал знак спешиться и Анжелике, намотал ей на кисть поводья обеих лошадей и шепнул:
– Садись под стену, притворись, что дремлешь.
Анжелика прикорнула к дубовому бревну, уронив на грудь голову в папахе, а Мигулин шагнул в избу.
У избы кошевого атамана Евсевия Шашола, как и у всех остальных, не было окон, и Анжелика невольно слышала приглушенные голоса и Мигулина и кошевого. Смысла она не разбирала, но по тону было ясно, что Мигулин расспрашивает, а Шашол жалуется и ругается.
– Тут такое деется, – бурчал хозяин. – Сам не знаю, жив ли буду, либо мне паны-братья голову отсадят, а на мое место Вдовиченку посадят…
– Кто ж таков этот Вдовиченко?
– Пришел он на Запорожье в нищем образе, сказался харьковским жителем, свят муж и пророк, дана ему от бога власть будущее знать.
Мигулин хмыкнул.
– Да-а, – продолжал Шашол. – Брешет нищая собака, что тому уж седьмой год, как велел ему бог, дождавшись этого времени, с Войском Запорожским разорить Крым и в Царе-городе взять золотые ворота и поставить в Киеве на прежнем месте…
– Ну, это бы неплохо… – опять хмыкнул Мигулин, но Шашол его перебил.
– Погоди… Брешет, что князь Ромодановский, – тут Шашол перешел на шепот, – до этого доброго дела его не допускал и мучил… Понимаешь, чем здесь попахивает? Но его, здрайцу, эти муки не берут, мол писано где-то, что сын вдовицы все земли усмирит. Теперь, дескать, послал его бог к Войску Запорожскому и в городах всякому человеку до сосущего младенца велел сказывать, что он такой знающий человек, и чтоб шли с ним разорять Крым. Как придет в Крым, пять городов возьмет и будет в них зимовать…
– Почему пять?…
– А бог его знает. Бусурманы, брешет, стрелять не будут, потому что он невидимо будет под города приходить, стены будут распадаться, сами, ворота сами же отворятся, и оттого прославится он, Вдовиченко, по всей земле. А наперед ему надобно Перекоп взять и Войско Запорожское пожитками наполнить. Наши как про то узнали, покинули дома свои и хлеб в полях… Идет громадная толпа, сегодня, что ни видно, здесь будут… Чем кончится, не знаю…
Мигулин вскоре вышел, присел возле Анжелики, протянул ей несколько холодных лепешек:
– На, подкрепись.
Анжелика приподнялась, жестом сдвинула шапку назад, повела головой и шеей, и сразу же Мигулин жестко сказал сквозь зубы:
– Накройся… пригнись…
Согнувшись, тычась лицом в колени, Анжелика пережевывала вязкое тесто, а Мигулин, разглядывая площадь, тихо говорил:
– Шашол просил подождать. Какое-то дело у него. Может, так и лучше. Провожатых даст…
Прожевав последний кусок и облизнув свои полные губы, Анжелика его так же тихо спросила:
– А что будет, если узнают, что я женщина?
– Да ничего не будет: и тебе и мне головы поотрывают… – фыркнул казал.
Через некоторое время он, видимо, решил приободрить затаившуюся Анжелику и спросил:
– Как тебе тут?
– Дымно…
– Это от комаров. Тут над речками комарья – гибель…
Шумела площадь. Перед вечером закричали что-то на башне дозорные, и появившиеся вооруженные казаки стали расчищать на площади место. Высовывался из прохода своей хаты и сразу исчезал кошевой Шашол. Несколько богато одетых казаков прошли к нему, обменявшись с Мигулиным кивками. Один из них вышел и стал обходить казаков на площади, перешептываясь с некоторыми. Те, к кому он подходил, через какое-то время вставали, шли и рассаживались возле хаты Шашола. Вскоре Мигулин и Анжелика оказались в плотном кольце хохочущих, орущих, поющих и ругающихся запорожцев. Подошли уже знакомые казаки, с кем Мигулин разговаривал при въезде. Подстриженный в кружок оборванец в бархатных шароварах мечтательно рассматривал небеса, изредка прикладываясь к фляге, а сосед его, могучий детина, так же бессмысленно смотрел перед собой, но теперь изредка вскрикивал и взмахивал руками, будто отбивался.
– Горячка у парня, черти мерещатся, – тихо объяснил Мигулин. – Это бывает…
Уткнувшись головой меж дубовыми бревнами стены и широкой спиной Мигулина, Анжелика притворилась спящей.
Меж тем шум усилился. Из-за вала наплывала новая волна звуков.
– Иде! Иде! – закричали караульные на башне.
Где-то застучали в огромный барабан. Несколько казаков, налегая изо всех сил, выкатили на площадь такие же огромные бочки, стали черпать из них и пить. «Водка», – догадалась Анжелика. Со всех сторон поселения на площадь повалил народ. Ворота под башней распахнулись, и через них новая многочисленная толпа, распевая песни и молитвы, плеснула на площадь и разом переполнила ее.
– Иде! Иде!
– Гей! Гей!
– Слава!..
– Спаси, Господи, люди твоя…
– Иде! Иде! Вдовиченко!..
Новый пророк, подобно Христу, на осляти въезжал в Чертомлыкскую Сечь.
– Слава! Слава!
– Миром Господу помолимся…
Некоторое время на площади творилось невообразимое. Постепенно шум стал смолкать, будто и сам он, шум, утомился. Анжелике ничего не было видно из-за спин. Она слышала только перешептывания соседних казаков, настороженно всматривающихся в явившегося пророка и святой жизни человека.
– Шо вин? Шо вин?…
– Плаче… – растерянно сказал кто-то.
– От лахудра, – зло прошептал кто-то рядом.
– Вдовиченко, нэ журысь! – грянул в тишине молодой веселый голос, и площадь вновь взорвалась криками.
Ругань, хохот и молитвы смешались. Какой-то пьяный приплясывал, ударяя в бубен, и выкрикивал тут же сочиненный куплет:
Вдовиченко, нэ журысь,
В мЕне грОши завелысь!..
К нему, размахивая дубинкой, пробирался седой есаул.
Из избы Шашола вышли богато одетые казаки и пошли в толпу. Их встретили злобными криками. И сейчас толпа пьяных запорожцев, спотыкаясь о ноги, специально им подставляемые рассевшимися, полезла в избу Шашола.
Несколько раз изба Шашола и площадь обменялись подобными делегациями. Анжелика с трудом поняла, что Шашол и богато одетые казаки приглашают пророка на совещание в «радный дом», то есть в избу к Шашолу, а площадь и пророк требует Шашола и богато одетых выйти к народу и решать все сообща.
Наконец площадь победила. Из избы высунулась багровая от гнева усатая физиономия Шашола. В руке кошевой сжимал маленькую золоченую булаву. За ним вышли богато одетые, называемые «куренными», сидевшие вокруг избы казаки поднялись и клином врезались в толпу, очищая старшине дорогу.
Вскоре Анжелика и Мигулин остались под стеной одни да страдал, корчился в пыли и вскрикивал терзаемый горячкой казак.
– Братья, Войско запорожское, кошевое, днепровское и морское! – заговорил вдалеке Шашол. – Слышим мы и глазами видим…
– Гей! Гей! – закричала рада. – Нехай Вдовиченко говорит!
– …Премногие милости и жалование от великого осударя… – гнул упрямо Шашол. – Милостивым словом он нас увеселяет, про здоровье спрашивает…
– Да мы сроду не хворали!..
– Замовчь!..
– …Пушки, ядра, порох приказал прислать. Калмыкам, донским казакам и из городов охочим людям на помощь против бусурман к нам на кош позволил приходить, также чайками, хлебными запасами и жалованием обнадеживает, только б наша правда была…
– Нехай Вдовиченко говорит! – кричала рада.
– …Служили мы и с татарами после измены Брюховецкого, и во времена Суховеева гетманства; крымский хан со всего Крыма хлебные запасы собирал и к нам на кош прислал, только тот его хлеб обращался нам в плач, нас же за шею водили и как овцами торговали, все добро и клейноты отняли…
– Нехай Вдовиченко говорит!
– …Пока свет будет и Днепр идти не перестанет, с бусурманами мириться не будем…
– Слава! Слава!
На площади орали до темноты.
– Ты-то что мучаешься? – с удивлением обернулся Мигулин к заерзавшей Анжелике.
– Не могу, – сказала Анжелика. – Не могу. Я хочу в туалет…
– Вот горе-то еще… – вздохнул Мигулин.
Смеркалось. На площадь выкатили и зажгли смоляные бочки. Тьма вокруг площади стала еще гуще, а на самом майдане в неверных отблесках пламени продолжала волноваться рада.
– О, господи! – вздохнул опять Мигулин. – Иди уж в избу, а я посторожу…
Внутри помещения было темно, по стенам метались тени и блики. Посреди стоял один лишь стол, а вдоль стен тянулись лавки, покрытые шкурами. Стекол не было, и от постоянного сквозняка в избе чувствовалась зыбкая прохлада.
Оправившись, Анжелика присела на лавку в углу. С наслаждением сняла она теплую меховую шапку и рассыпала волосы по плечам, грязную тряпку сорвала с лица, расстегнула ворот рубахи, подставляя прохладе шею и грудь.
Тут на площади закричали:
– В поход! В поход! Разбить бочки с водкой! За пьянку – смерть! Куренные, по куреням!
В проем окна вскочил знакомый Анжелике оборванец в бархатных шароварах, в руке он сжимал факел:
– Михаил! Мигуля! Та дэ ж вин е?
Бежать, скрываться было невозможно, на маскировку не оставалось времени. Опережая взгляд казака, Анжелика поднялась, рывком разорвала рубаху, обнажая свою полную грудь, подняла и сплела над головой руки, как это делали восточные женщины, и на носках, извиваясь всем телом, двинулась навстречу опасности. Почему она сделала именно так, не знала и не задумывалась.
– Иди сюда, красавчик, я научу тебя любви, – ласково пропела она.
Казак обернулся на звук ее голоса, подскочил, как ошпаренный кипятком, и вытаращил глаза. Анжелика пританцовывала перед ним, покачивая бедрами и грудью, улыбаясь и подмигивая из-под локтя.
– Допывся… – сокрушенно сказал казак, вяло перекрестился и рухнул на пол, уронив факел.
В это время через пролом, служащий дверью, в избу шагнули Мигулин и с ним еще один запорожец. Анжелика, поднимавшая факел, замерла перед ними полуобнаженная. В глазах вошедших одновременно взметнулось изумление. Мигулин отвел взгляд и почесал согнутым пальцем кончик носа. Вошедший с ним запорожец, статный светлоусый казак с манерами начальника и владетельной особы, хищно оскалился, растеряв всю свою величественность.
– Ничего. Это бывает. Так надо, – нагло сказал ему, пришедший в себя Мигулин.
– Гляди, Мишка, дошутишься… – набросился на него запорожец. – Время такое, а то б…
– Понял. Давай о деле, – перебил его Мигулин и досадливо бросил Анжелике. – Прикройся, халда…
– Скачи до наших на Дон, – заговорил запорожец, беспрестанно оглядываясь на окна. – Там должны быть Московского царя люди. На Москве тебя знают… Расскажешь им все, что видел. Скажешь, что идут на Перекоп тысяч шесть конных да тысячи три пеших. Евсевий Шашол отказывал, хотел дождаться пушек от великого государя, но городовые люди хотели Шашола убить, кричали, кричали, что они шли не на нашу войсковую, но на Вдовиченкову славу, и кошевое войско на эти слова их все склонилось. Шашола отставили, а выбрали Вдовиченко атаманом кошевым и гетманом полевым. Я у него, святого человека, спрашивал: «Сколько на перекоп пушек брать?». А он, святой человек, мне отвечал: «Мне пушки не надобны, и без пушек будет добро; слышал я, что вы послали к царю бить челом о пушках, но та ваша посылка напрасная, от этих пушек мало вам будет проку; а если вам пушки понадобятся, который город бусурманский будет поближе и богат, в том и пушки возьмете». Понял? Но я потихоньку пару пушек возьму… Расскажи, все, как есть. Главное, что мы царю верны, и измены нет никакой. А Вдовиченко… Сам понимаешь: тут мы бессильны, как затмение на людей нашло…
– Хорошо, Лука Андреев. Это я все передам, – сказал Мигулин. – Дай мне охрану, ребят надежных. Ты ж видишь… Везу эту красотку по тайному повелению, да вот пришлось через Уманского полка земли круг дать…
– Добро, ребят я тебе дам, – подумав сказал запорожец. – И сматывайся с ней, а то как бы вас…
Заворочался и приподнялся лежавший на полу оборванец. Взгляд его был мутен. Анжелика из-за плеча Мигулина показала ему кончик языка и страшные глаза. Оборванец застонал и вновь отключился.
– Оденься, – подтолкнул Анжелику Мигулин и нахлобучил ей на голову папаху. – Давай к лошадям…
Пользуясь темнотой, выбрались с сопровождавшими их запорожцами за ворота.
– Куда вы, хлопцы? – спросил стражник.
– На ту сторону. За Днепр. Татар открывать, – отозвался один из сопровождающих.
– Куда мы? – шепотом спросила Анжелика, когда выехали за ворота.
– На Дон, – также тихо ответил Мигулин.
– Но это войско идет в поход на Крым. Почему бы нам не отправиться с ними?…
– Ну какой это поход! С таким вождем дай бог, чтоб половина обратно вернулась, – неожиданно зло сказал казак.
Они пересекли вброд речку и, поплутав в темноте среди ручьев и озерец, спустились к широкому, искрящемуся под встающей луной Днепру. Несколько лодок ждали их в прибрежных камышах. Переправа затянулась. Лошади упрямились, не хотели идти в черную ночную воду. Наконец достигли противоположного берега.
– Ну, веди…
Один из казаков поехал первым, забирая влево, вверх по течению реки.
Еще несколько дней длилась скачка по степи. Пересекли реки Гайчур и Волчью. Степи не было конца и края.
– Чья же это земля? – спросила как-то Анжелика, изумленная безбрежностью покрытой цветами равнины.
– А вот того казака, – указал Мигулин на одного из сопровождавших.
– О! Этот казак так богат? – удивилась Анжелика.
– Толку-то? Все равно от татар житья нет…
На следующий день, так и не увидев конца разноцветному пахучему морю, Анжелика снова спросила:
– Это все еще земли того богатого казака?
– Нет. Это, пожалуй, уже пошла земля вон того, черноусого, – указал Мигулин.
На третий день, когда сделали привал на берегу безымянной речки, Анжелика опять поинтересовалась:
– А это чья земля?
– Это – ничья. Вернее, войсковая, – ответил Мигулин. – Земля Войска Донского.
Глава 14
Земля Войска Донского, не считанная и не мерянная, растянулась с верховий Донца и до Волги. Вступив на нее, Мигулин хотел отпустить сопровождавших его запорожцев обратно в Сечь, но неспокойно было в степи, и договорились, что доедут вместе до первого донского поселения.
В первом же поселении путешественников ждал новый сюрприз. С высокой меловой горы, покрытой полынью и казавшейся голубой под лучами солнца, они съехали к нескольким беленым хаткам на берегу сияющей речки. В крайнем дворе за невысоким, сложенным из дикого камня забором стояли под седлами несколько лошадей, и в тени под хаткой, прямо на траве сидели и лежали в живописных позах люди, одетые так же причудливо и разнообразно, как и обитатели недавно оставленной путниками Чертомлыкской Сечи. Один из них, казавшийся квадратным, блеснул лысиной и проворно заскочил в хатку. Оттуда вскоре показался еще один человек, одетый в богатый польский костюм, и стал всматриваться в подъезжающих.
– Везет нам с тобой, – вполголоса сказал Мигулин Анжелике. – Опять вляпались. Это Ванька Миусский, Стеньки Разина дружок. Ну да ладно, поехали.
Мигулин, Анжелика и четверо сопровождавших их запорожцев въехали во двор через воротца, сбитые из тонких жердей.
– Здорово ночевали, атаманы-молодцы! – приветствовал хозяев Мигулин.
– Слава богу, – лениво ответили из тени казаки.
– Миша! Мишаня! – Миусский сбежал с крыльца и шел к Мигулину, раскрыв объятия.
Они обнялись, потискали друг друга, потерлись щеками, притворно радуясь встрече. Миусский из-за плеча Мигулина остановил оценивающий взгляд на Анжелике, и она внимательно рассматривала его желтые прищуренные глаза, короткий нос и тяжелый подбородок.
Видя радость предводителя, поднялись и подошли здороваться другие казаки.
– Здорово, Щербак! Здорово, Мерешка! – обнимался с ними Мигулин.
Лысый, квадратный Мерешка по знаку Миусского опять проворно заскочил в хату. Мигулин проводил его взглядом и дал знак запорожцам, чтоб спешились. Казаки искоса поглядывали на Анжелику, тихо переговаривались.
– Откуда путь держишь, Мишаня? – ласково спрашивал Миусский, обнимая Мигулина за плечи.
– Из Москвы.
– Грехи замаливал? – криво усмехнулся Миусский.
– Вы грешите, мы замаливаем, – тоже усмехнулся Мигулин. – С легкой станицей был. А теперь вот везу маркизу… чи графиню… Приказ боярина Матвеева.
– Какие ж вести из Москвы?
– С турками и татарами война. Опять разрешают нам в море выходить.
– Великая милость! – язвительно рассмеялся Миусский. – Милость за милостью. Знаешь, что в Астрахани Шелудяка повесили?
– Как? Милославский ведь слово давал…
– Милоставского сместили, а Шелудяка повесили.
– Как же так?…
– Пошли в хату, поговорим.
Вслед за Миусским Мигулин, Анжелика и запорожцы прошли в чистенькую, прохладную хату, расселись по лавкам. Запуганная, бледная хозяйка принесла им из погреба по кринке холодного молока.
– Ты ж помнишь, что Милославский Шелудяка в Астрахани осадил, – начал Миусский рассказ. – А Шелудяк после того, как Стеньку взяли и Васька Чертов Ус помер, был у нас главным атаманом. Пришел к нам на помощь князь Каспулат Муцалович Черкасский и татар своих привел. Вызывает Шелудяка на переговоры. Тот сдуру поехал. Князь его схватил, заковал и Милославскому выдал. Но мы город не сдавали, и договорились с Милославским по-хорошему: мы им Астрахань сдаем, они нам всем прощение объявляют. Вышли мы за стены, вынес нам Милославский образ Божьей Матери, мы на колени попадали и Милославскому город сдали. Молебствие было благодарственное. Никого из наших не трогали, а сам Шелудяк при дворе у воеводы жил. Но меня, брат, не обманешь! Я еще зимой из Астрахани бежал с верными людьми, и ждем здесь… одного важного известия. А позавчера прискакал Максим Щербак: насилу из Астрахани ноги унес. Приехал в Астрахань новый воевода, князь Яшка Одоевский, Милославского сместил, нашим стал головы рубить, а Щербака за малым жизни не лишили, Федьку же Шелудяка повесили. Такая вот милость!
– Ну, а теперь чего делать думаете? – помолчав, спросил Мигулин.
– Тут недалеко в верхних городках много наших людей, из Астрахани, из Черного Яра. Подождем немного. Мы здесь летовать будем, на Донце. Ходят тут торговые людишки с Белогорода, с Оскола, с Маяка, и из иных украинных городов…
– Опять воровать будете?
– Ну уж и воровать! Наше дело – казачье. Да и ненадолго все это, – тут Миусский наклонился к слушающим его и вполголоса сказал. – Есть надежда, что поднимем скоро, как при Степане. И дело верное. Еще похлеще будет. Может, и ты с нами? А?
– Там видно будет, а пока я на службе. Везу вот красавицу…. – уклонился Мигулин.
– Вижу. Побаиваешься. Не трусь, дело верное, – наседал Миусский. – Никому не говорил, тебе скажу. Валом люди к нам повалят, потому как объявился у нас… – тут Миусский выпучил глаза и зловещим шепотом закончил, – царский сын Симеон Алексеевич…
– Кто? – так же шепотом переспросил Мигулин.
– Царевич Симеон!
Все притихли, испытующе уставившись на Миусского. Тот с важным видом покивал головой.
– И где же он?
Миусский встал, снова сел, потом сделал вид, что решился, махнул отчаянно рукой и шагнул к занавеске, отгораживающей дальний угол комнаты:
– На колени, казаки! Вот он, царевич Симеон Алексеевич, его царское высочество! – и он широким взмахом оборвал занавеску.
Молодой, лет пятнадцати-шестнадцати, человек сидел в креслице и грустно глядел на присутствующих. Казаки не упали на колени, а лишь приподнялись, во все глаза разглядывая предъявленного им царевича.
Был он хорош собой и тонок, долголиц, не темен и не рус, немного смугловат. Одет, невзирая на жару в зеленый, подшитый лисицами кафтан, из-под которого выглядывал китайковый кафтанец.
– Да это ж Матюшка, Стенькин кашевар… – громким шепотом сказал Мигулин Миусскому. – Эй! Здорово, Матвей!
Царевич еще больше пригорюнился и опустил глаза.
– Т-с-с… – прижал палец к губам Миусский. – Так надо было. Его царское высочество от врагов в том образе скрывался. А теперь в истинном образе объявился.
Казаки дивились, недоверчиво переглядывались.
– Ладно! Пошли на двор, – поднялся Миусский и, кланяясь царевичу в пояс, стал подталкивать гостей по одному к двери.
Ждавшие выхода атамана Щербак и Мерешка, обменялись с ним взглядами, и Анжелике показалось, что Миусский досадливо поджал губы. Но это продолжалось мгновение. Щербак и Мерешка захлопотали, приглашая приехавших садиться, раскинули на траве богатый персидский ковер, появилась водка, хозяйка зашныряла по двору, собирая что-нибудь закусить.
– А откуда ж тебе известно, что он истинный царевич? – спросил Миусского Мигулин, устраиваясь поудобнее.
– Сейчас, сейчас… – Миусский указал Мерешке взглядом на Анжелику, и тот сбегал в хату за пуховыми подушками. – Садитесь, милостивая государыня! Окажите честь бедным казакам!
Поддерживая Анжелику под локоть, Миусский усадил ее на подушки, алчно ухмыльнулся:
– И как только тебе, Мишаня, такую красавицу доверили. Ты ж обхождения не понимаешь.
– Ты про царевича давай, про его царское высочество.
– Сейчас, сейчас… Все дело в том, Мишаня, – наставительно сказал Миусский, – что есть на его высочестве природные царские знаки: царский венец, двоеглавый орел и месяц со звездою.
– Дэ ж воно? – вытаращив глаза, спросил один из запорожцев.
– На теле, на правом плече… Особые знаки!
Запорожцы слушали во все уши и смотрели во все глаза. Лишь Мигулин задумчиво крутил темный ус и смотрел в землю.
– Як же ж вин объявывся?
– Э-э, ребята! – и Иван Миусский, нагнетая таинственность зловещим шепотом, начал рассказ. – Жил он на Москве, в палатах царских, как царевичи живут, и пошел раз в палаты к деду своему, Илье Даниловичу Милославскому, а у деда немецкий посол сидит, об делах брешут. Немец предлагает: «Давайте у вас, на Москве, иноземные порядки заведем. Православная вера ваша…» В общем страшные слова говорил. А Милославский уж склоняется, поддакивает, падлюга старая. А царевич возьми и скажи: «Дедушка, не отдавай веру православную немцам на поругание». Но дед ни в какую, вот так невежливо рукой его отвел. Тогда пошел царевич наш в палаты к матери своей, к Марии Ильиничне и говорит: «Вот если б мне хотя бы три дня на царстве посидеть, я б мигом некоторых бояр перевел». А она и спрашивает: «Это кого ж?» – «Да деда моего, Илью Даниловича. Он православную веру немцам отдает». Да-а… А он, Илья Данилович-то, ей, царице, родный отец! Царица хвать за нож! Он – бечь… Она ему вслед кинула и в ногу попала…
– Кому?
– Да царевичу! Царица в царевича ножом кинула, за отца за своего за родного заступилась, который веру немцам отдает. Дошло до вас? Вот. Царевич занемог. Царь ничего не знает. Тогда она наказывает стряпчему Михайле Савостьянову царевича обкормить, чтоб помер. Но тот стряпчий обкормил другого юношу, певчего, который на царевича был похож лицом и в возрасте таком же, положил его на стол, одел в царские одежды. А царевича хранил в тайне три дня, а потом нанял двух человек нищих старцев, один без руки, другой кривой, дал им сто золотых червонных, и те старцы вывезли царевича из города на маленькой тележке под рогожею и отдали посадскому мужику, а мужик тот увез его к Архангельской пристани. И он, царевич, скитался там многое время и сбрел на Дон, к Стеньке Разину, но не открылся, был он со Стенькою на море, потом кашеваром, имя себе сказывал – Матюшка. А перед тем, как Стеньку взяли, он Стеньке под присягой открылся. Но уж поздно было. А уж после Стеньки приезжал на Дон от царя человек с казною, и царевич ему тоже под присягой открылся. «Ты, – говорит, – меня угадываешь?» Тот говорит: «Угадываю». Дал царевичу денег, а от него взял письмо и повез царю. Вот ждем ответа. Да боимся, что бояре того человека к царю с письмом не пустят.
– Да-а, о це дило! – переглянулись запорожцы.
– Что? Не верите? Пошли, сами у него спросите, – снова вскочил Миусский. – А понравитесь его царскому высочеству, он вам еще и знаки царские покажет.
И опять всей толпою пошли в хату, только теперь Миусский, как галантный кавалер, предложил Анжелике руку.
Царевич сидел в том же креслице, зевал и смотрел в окно. На стук двери он лениво обернулся, поправился в кресле и опустил глаза.
– Ну, ну… – подталкивал остановившихся у двери запорожцев Миусский. – Сами спросите.
Один из запорожцев, сам по происхождению донец, шагнул вперед и снял шапку:
– Кхм… Слышали мы тут от Ивана от Миусскова, что ты называешься царя, значит… кхм… сыном. Скажи, бога боясь, потому что зело молод, истинную правду, нашего ль великого государя Алексея Михайловича ты сын или иного, которые под его царского величества великодержавную рукою пребывают? Многие, понимаешь, тут плуты бывали, и боимся мы… кхм… в обман впасть.
Царевич встал, горестно покачал головой и, сняв шапку, заговорил, давясь слезами:
– Не надеялся я, чтоб вы, казаки, меня страшились, а вижу, что чинится такое. Бог мне свидетель, правдивый сын я вашего великого государя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великие и Малые, и Белые России самодержца, а не иного.
– У нас и знамя царское есть, – суетился Миусский. Он быстро сбегал в соседнюю комнату, вынес два знамени и поочередно развернул их.
Казаки разглядывали знамена, исписанные орлами и кривыми саблями, переглядывались, бросали косые взгляды на утирающего слезы царевича.
– Сомневаетесь? – спрашивал Миусский. – Ваше царское высочество, яви народу православному царские природные знаки…
Царевич плакал и отрицательно крутил головой.
– Ну, просите…
Запорожцы кланялись в пояс и в землю, смотрели жадно. Поплакав, царевич неохотно согласился, и, испуганно взглянув на Анжелику, пошел в соседнюю комнату показывать знаки. За ним толпой пошли казаки и, раскланявшись с Анжеликой, побежал Иван Миусский. Помедлив, пошел и Мигулин. Анжелика осталась, плохо представляя, что творится вокруг.
– Ну, видите? Теперь-то поверили? – слышалось из соседней комнаты.
Казаки вышли. Глубокая задумчивость читалась на их лицах. Они построились, держа в руках шапки, и разом поклонились вышедшему следом, застегивающему воротник царевичу.
– Великое дело! Правдивый царевич! – потирал руки довольный Миусский. – А теперь сядем казаки, выпьем и обсудим, как царевичу послужить. Царевич вас на трапезу приглашает.
Миусский подскочил к Анжелике, подхватил ее под руку и подвел к царевичу, тот робко протянул Анжелике свою руку и повел меж расступившимися казаками во двор, на ковер, чтобы продолжить пир.
– Вот хорошо-то, – радовался Миусский. – Царевич, сокол наш, и маркиза иноземная при нем, вроде как посол…
Расселись. Царевич пристроился на подушки, где раньше сидела Анжелика, сама она примостилась по правую руку от него, слева от царевича сел беспрестанно шепчущий ему что-то на ухо Иван Миусский, Мигулин полулежал рядом с Анжеликой, остальные сели по-татарски в кружок.
Царевич, хотя и был молод, пил вино и водку наравне со всеми, слушал жалобы казаков, обещал заступничество.
– Будет время, найду я верного человека, который отдаст письмо мое помимо бояр отцу моему в собственные руки; до того же времени содержите меня тайно и не объявляйте обо мне никому.
– Будет время и объявится его царское высочество у вас, в Войске Запорожском, – предупреждал запорожцев Миусский.
– Там уж есть один такой, – подал голос Мигулин.
– Кто таков? – насторожился Миусский.
– Да Вдовиченко, пророк и святой жизни человек, будущее угадывает. Самое вам компания.
Миусский сверкнул на Мигулина глазами, но промолчал.
Чаще поднимались кубки и чаши, бессвязнее становились речи.
– Как в родимый дом вернусь, и спрошу у государя для вас, Войска Запорожского, ежегодного жалования по десять аршин кармазинового сукна на три тысячи человек, а так же порох, свинец, струги, ядра и пушки, а также и мастеров, чтоб из тех пушек стрелять, – обещал царевич.
– Вот спасибо, государь, а то совсем уж… Оборвались мы, припасу нету, – жаловались подпившие запорожцы.
– Государь милостив к вам и к Войску Донскому – ласково сказал царевич. – Ежегодно приказывает большое жалование посылать, но бояре оное удерживают. Ну да погодите, я до них доберусь!..
– Этот юноша – сын русского царя? – спросила. Анжелика у Мигулина по-французски.
– Ага. Вроде меня, – по-русски ответил казак.
– Ты Мишка знаешь что-то? – склонился к нему с другой стороны запорожец, говоривший по-русски.
– Ничего я не знаю. Сами думайте, – буркнул Мигулин.
Громче звучали голоса, еще бессвязнее, жалобнее и хвастливее становились речи. Осоловевший царевич пытался приобнять Анжелику, но пугливо оглядывался на Миусского. А тот усердно обхаживал запорожцев, готов был с себя снять и отдать им последнее. Запорожцы опрокидывали в себя целые кубки, только крякали да усы поглаживали. Лишь один из них был задумчив, часто поглядывал на Мигулина, на царевича…
В сумерках он поднялся:
– Ехать бы нам пора обратно по вечерней прохладе.
– Оставайся, – вставая, тихо сказал ему Мигулин. – Завтра нас до следующего городка проводите.
Миусский, не уверенный что запорожцы все и до конца поверили ему и царевичу, тоже просил остаться.
Низкая красная луна выплыла из-за меловой горы. Стемнело. Миусский, обняв царевича за плечи, повел его почивать. Анжелике отвели комнату по соседству с его высочеством. Мигулин пристроился на полу у нее на пороге. Пьяные казаки уснули на ковре, там же, где и пили.
– Зачем вы ходили в ту комнату осматривать этого молодого человека? – спросила Анжелика Мигулина. – Это что, так важно?
– В этой стране очень важно, – медленно, с большим трудом подбирая слова, ответил из темноты Мигулин. – Считается, что на теле царя должны быть особые знаки.
– Какие?
– Не знаю.
– А что вы видели на теле этого человека?
– На груди его от плеча до плеча восемь белых пятен, будто кто ткнул пальцем. А на правом плече, – Мигулин запнулся, подбирал слова, – широко и бело, как после… лишая.