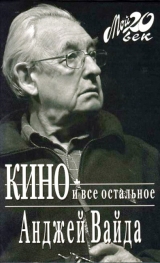
Текст книги "Кино и все остальное"
Автор книги: Анджей Вайда
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
В Польше этот фильм вызвал бурную полемику. Критиковали за измененный финал, утверждали, что только для Боровецкого я не нахожу смягчающих обстоятельств, в то время как других героев оправдываю их человеческими слабостями. В книге указаний для цензуры имеется такая заметка:
«19.3.1975. В материалах, касающихся фильма «Земля обетованная» А. Вайды, не следует допускать до публикации критических оценок, подобных тем, которые напечатал «Жолнеж Вольности» («Солдат свободы») от 18 февраля с.г. в фельетоне, озаглавленном «Обетованочка, цацаночка… кому радость, кому нет…» Рекомендация предназначена только к сведению цензоров».
(Аннулировано 10.6.1975)
Имеются и дальнейшие инструкции. Из них следует, что Главное управление контроля за прессой, изданиями и зрелищами не ограничивало свои полномочия изъятием из фильмов политически неправильных фрагментов. В его материалах мы находим пространный комментарий к напечатанному выше указанию:
«В дискуссии о фильме как печатной, так и ненапечатанной, появился элемент своеобразной «борьбы за Вайду». В ней принимают участие те, кто, помня о предыдущем творчестве Вайды, неодобрительно относятся к фильму и классовой декларации Вайды, усматривая в его по видимости правильной классовой позиции второе дно: антипольскость. Обеспокоены также сиониствующие элементы, так как они усмотрели в этом фильме нападки на исповедуемые ими ценности. Международная популярность Вайды увеличивает весомость его произведений. Таким образом, представляется, что следует использовать «Землю обетованную» для целей пропаганды в двух направлениях. Во-первых, в нашей кинематографии нечасто появляются фильмы, которые соединяли бы опыт исторического материализма с высоким художественным уровнем. А ведь Вайда нарисовал картину чудовищной эксплуатации рабочего класса, солидарность капитала, идеалы и посвящение делу борьбы представителей развивающегося рабочего движения (заметим, что в рабочих рядах Вайда не акцентирует национальные проблемы, разделяющие рабочих – пионеров классовой борьбы). Кроме того, для отечественного зрителя, для которого имя Вайды является веской рекомендацией, картина является хорошим уроком на тему о наших идеалах. Во-вторых, надо осторожно подчеркивать, что Вайда высказался с классовых позиций. Такой угол зрения на проблему, усиливая звучание произведения, может отдалить Вайду от группировок, пренебрежительно относящихся к ангажированному искусству, и приблизить его к нашим художественно-пропагандистским тылам. Представляется целесообразным постепенно приглушать споры вокруг фильма, не позволяя поднимать в дискуссии вторичных по существу национальных вопросов, а подчеркивать классовый первоэлемент и – возможно – художественный. Следует решительно избегать преувеличенных похвал в адрес Вайды. Хвалить надо произведение, а не автора».
* * *
Спустя годы те дискуссии обрели неожиданный эпилог. В январе 1992-го товарищ Касак, член Центрального комитета ПОРП, обратился ко мне через «Трибуну люду» с предложением ввиду нарастающей социальной несправедливости в городе Лодзи сделать продолжение «Земли обетованной». Я ответил письмом:
«Мне кажется, Вы попали пальцем в небо. Вы требуете фильма о Лодзи сегодня, наблюдая в этом городе крайнюю нищету пролетариата. Оценка правильная, но ведь это Вы, имея голос в Центральном комитете, являетесь одним из тех, кто руководил нашей страной, и, вместо того чтобы вносить поправки в романы Анджеевского и Брандыса, а также в мои фильмы, обязаны были внушать товарищам, что избранная партией политика эксплуатации в прядильной промышленности Лодзи довела дело до катастрофы. Вы со своей партией имели достаточно времени на то, чтобы исправить положение. Это Вы были в течение сорока лет эксплуататорами этих бедных женщин, принуждая их работать в унижающих человеческое достоинство условиях на машинах, сделанных в XIX веке.
Когда некоторое время назад я показал «Землю обетованную» в Голливуде, особый энтузиазм тамошних людей кино вызвали фабрики. Американские кинематографисты были уверены, что их построили специально для фильма. Какие же претензии к польскому правительству Вы имеете теперь? Что оно не может продать то, чего никто в Европе уже не покупает? Разумеется, трудности жизни и труда в Лодзи – это факт, недовольство – также, но дорога к социализму привела в тупик не только нас. Если бы Советская Армия не заняла Польшу, мы бы теперь жили, может быть, не так богато, как живут в Германии или Франции, но и не так нищенски, как теперь. <…>
Поэтому я не стану снимать фильм о несчастьях Лодзи. Я знаю, что в партии было много искренне заблуждавшихся людей, но теперь, после распада СССР, негоже продолжать изображать наивность. В конце концов это ведь Вы после выборов в Союзе польских кинематографистов, когда отдел культуры ЦК не желал мириться с фактом, что я стал председателем СПК, сказали: «Что же вы удивляетесь, товарищи? Если вы вообще прибегаете к выборам…»
Сегодня Польша решилась идти на выборы… и что бы ее ни ожидало, она идет правильной дорогой, а задача польского художника состоит в том, чтобы ей в этом помогать, а не мешать».
III. «Человек из мрамора»
Сделанная в 1961 году в Югославии «Уездная леди Макбет» остудила мой пыл снимать кино за границей. Без всякого сомнения, рассказ Лескова можно было ярче воссоздать на экране, но причина лежала где-то в другом месте. Я не знал и по сей день не могу ответить на вопрос, для какой публики я делал этот фильм и на какое восприятие рассчитывал. Наверное, поэтому, вернувшись в Варшаву в 1962 году, я начал думать о картине на современную тему, обращенной к польскому зрителю.
Разговоры с Ежи Ставинским, литературным руководителем, и Ежи Боссаком, художественным руководителем объединения «Камера», вывели меня на нужный сюжет. Началось с небольшой истории, вычитанной Боссаком в какой-то газете: в бюро по найму рабочей силы пришел каменщик, но для него не нашлось работы, потому что Новой Гуте требовались уже только сталевары. Одна из сотрудниц узнала его в лицо: это был известный передовик-строитель, звезда одного из минувших политических сезонов.
Ежи Боссак хорошо знал, кто из этой истории сможет сделать сценарий. Александр Сцибор-Рыльский написал соцреалистический роман «Уголь», который я даже не пытался читать; я не знал, что он писал также для так называемой «Библиотечки передовиков труда» очерки о нескольких известных каменщиках… И Боссак, и Сцибор в свое время были журналистами и знали жизнь как с официальной идеологической стороны, так и по-настоящему, по правде, из разговоров с рабочими, которые смотрели на «социалистическое соревнование» с большой осторожностью. Нужен был только повествовательный толчок, завязка будущего фильма. Сцибор как раз отправлялся в Закопане, я написал ему письмо, содержавшее попытки дополнить вычитанную Боссаком историю какими-то новыми элементами.
Передовик труда, каменщик, мужчина был героем пятидесятых годов. Я же искал темы для современного фильма, поэтому мне требовался медиум, через который можно было бы сегодня рассказать о событиях тех лет. Естественно, это должен быть кто-то молодой, для кого сталинизм был бы седым прошлым. В лодзинской Киношколе среди многих отмеченных талантом студентов училась тогда Агнешка Осецкая [55]55
Агнешка Осецкая(1936–1997) – журналист, поэт, автор текстов многих песенок для сатирических сцен. В московском театре «Современник» шла ее пьеса «Вкус черешни», песни к которой перевел Б. Окуджава.
[Закрыть]. Так родилась идея, чтобы загадку каменщика расследовала студентка ГВКШ Агнешка.
Прошло всего несколько недель, и сценарий был готов. Я читал его, как в лихорадке, ясно ощущая, что держу в руках золотое яблочко. Но, к сожалению, на этом в те годы моя инициатива кончалась: дальше все зависело от Сценарной комиссии, а на самом деле от отдела пропаганды ЦК, поскольку тема ударничества касалась самой уязвимой стороны экономики социализма – падающей год от года производительности труда. Текст сценария удалось протащить в печать: 4 августа 1963 года его опубликовала варшавская «Культура», и Сцибор считал, что один этап цензуры мы проскочили. К сожалению, мы не подумали о том, что таким образом с нашим замыслом ознакомится большое количество товарищей, жаждущих выказать свою партийную бдительность. Сценарий похоронили на долгие годы, о его кинематографических достоинствах никто даже не упоминал.
В чем нас обвиняли? Сценарий критиковал ударничество – краеугольный камень коммунизма. На разных уровнях партийного контроля меня вопрошали: «Что вы хотите дать людям, если отнимаете у них этос труда?»
Ho «Человек из мрамора» стал также своего рода алиби кинематографистов перед лицом политических властей. Как только в качестве привычного заклинания раздавались обвинения в недостаточной ангажированности творцов социалистической действительностью, всплывала судьба сценария Сцибора, который превратился в символ несбывшихся надежд снимать настоящее политическое кино.
Где принимались решения, кто их принимал и в каких условиях, я не знаю и сегодня. Все было окутано мраком и таинственностью – в точности по Достоевскому. Один из моих приятелей, часто ездивших в шестидесятые годы в Москву, описал мне сцену, в которую, по правде говоря, трудно поверить. Он проходил неподалеку от Министерства торговли, и как раз в этот момент к зданию подкатила черная «Волга» с затемненными стеклами. В ту же секунду отворились парадные двери, и по ступеньками сбежали с полтора десятка солдат, несших два полотна черной ткани. Встав друг против друга, они развернули полотнища, образовав тем самым коридор от машины до входных дверей, и этим коридором недоступный очам простых смертных в министерство прошествовал некто, по-видимому, бесконечно важный.
* * *
Прошло, как в сказках, четырнадцать лет. Ушел ненавистный Гомулка и вместе с ним культ пятидесятых годов. К власти пришли политики помоложе, бывшие члены Союза польской молодежи, с которыми можно было начать переговоры с нуля. Всю ответственность за фильм «Человек из мрамора» взял на себя тогдашний министр культуры Юзеф Тейхма, и только ему я обязан тем, что фильм не только был сделан, но и, это не менее важно, вышел на экраны.
В своем дневнике Тейхма записал:
«3 февраля. Передал Вайде позитивное решение о запуске фильма «Человек из мрамора». Ознакомил его с замечаниями, записанными раньше на листочке:
1. С удовлетворением принимаю инициативу создать фильм на тему новейшей истории. 2. В Вашем случае сценарий не способен мне сказать много, более того он может не значить ничего, потому что все зависит от наполнения его «режиссерским содержанием», от атмосферы, интонации. Поэтому я не буду говорить о сценарии. 3. Решение это очень важное и чревато риском как для Вас, так и для меня (еще большим). То, что Вас может увлечь, а именно история краха, нас может насторожить. 4. Для нас ключевыми являются две проблемы. Во-первых, в нашей истории был период больших надежд, инициатив, энтузиазма, период ошибок и поражений. Идея ударничества (дословно и метафорически) была попыткой подняться со дна Европы, создать символ польского подъема, а не только манипуляцией. Во-вторых, мы смотрим на ошибки как на драму, а не как на тупость. Мне лично биографически близка Новая Гута, это был символ действия. Самым существенным я считаю завершение фильма. Герой не холит своих обид и поражений, он находит место в жизни, становится зрелым человеком».
Какими бы ни были идеологические ожидания министра, сценарий так и так следовало обновить и осовременить. В 1962 году основное действие отделяли от периода сталинизма 12 лет, в 1974 между ними пролегли почти четверть века. В первой версии Матеуш Биркут готовился поступить в техникум; за 14 лет, прошедших со времени написания сценария, он мог успеть окончить все мыслимые университеты. Деваться было некуда, нужно был вносить изменения, потому что наша жизнь в реальном социализме развивалась и развивалась, поставляя нам все новые весьма замысловатые развязки.
* * *
Больше всего мне повезло с артистами. Этот фильм в первую очередь обязан Радзивиловичу и Янде. Они отдали ему всю искренность и отвагу молодости. И свою первую любовь к кино тоже. Для них сталинизм был сказкой о железном волке, поэтому, постепенно открывая для себя прошлое, они сумели так хорошо, так неравнодушно показать публике, что узнали сами о тех временах. Они покорили меня с первого взгляда.
Во время пробных съемок Ежи Радзивилович придумал биографию молодого крестьянина, пришедшего на стройку Новой Гуты из подкраковской деревни. Он сыграл свою сцену так искренне и правдиво, что материал пробных съемок вошел в готовый фильм. Такого не приключалось со мной за всю мою режиссерскую работу.
Кристина Янда без остатка отдалась образу Агнешки. Я с восхищением смотрел, как день ото дня она училась чему-то новому от всех нас, как входила в роль режиссера, который (как я сам) стремится любыми средствами достичь своей цели. На площадке я не сводил с нее глаз, что внушило ей уверенность, что она может пойти на многое. Некоторые в съемочной группе говорили, что Янда играет карикатурно. Я ни на минуту не соглашался с этим, я хотел иметь на экране современность не только в способе съемки и организации повествования, но прежде всего в реакциях и поведении героини. Ведь я знал, что молодые зрители будут ее глазами смотреть на извлеченную из-под спуда лет судьбу передовика производства.
Она сама это понимала:
«Никто не знал, какой должна быть эта девушка. Вайда привел меня в павильон к Агнешке Холланд, снимавшей тогда «Воскресных детей», и велел присматриваться к ней. Я очень внимательно разглядывала ее, но по-прежнему не знала, кого должна играть. Тогда мне припомнились шальные девицы из Лицея пластических искусств, и я подумала, что можно попробовать изобразить что-то похожее на них, только резче, с большим напряжением эмоций.
<…> Я выработала определенное представление об образе, слушая, что Вайда говорит о своем отношении к истории, политике, власти. Он мне очень помог двумя конкретными замечаниями. Первое по сути дела было шуткой. Он сказал так: американцы делают кино фактически только с мужчинами, так вот, спросил он, не могла бы я сыграть мужчину? Потом добавил, что я должна вести себя так, чтобы зрители либо полюбили меня, либо возненавидели. Одно или другое, все равно что, лишь бы не оставались равнодушными. <…>
Это я предложила жест, которым теперь открывается фильм. Группа пришла в замешательство, Вайда принял. В тот момент, когда я согнула руку в локте и поцеловала свой кулак, я уже знала, кто я; кого должна играть: я должна бороться в одиночку против всех».
Подозреваю, что за нашим фильмом внимательно следили спецслужбы, но быстрота, с какой мы перебирались с одного места съемок на другое, в особенности в случае сцен, которые могли бы вызвать нежелательные политические ассоциации, спасала нас от вмешательства, а точно выбранный сюжет и прекрасный сценарий стимулировали вкус к работе и сообщали веру в собственные силы. Очень выразительные и предметные съемки Эдварда Клосинского, музыка Анджея Кожинского сопровождали наших актеров, а они в свою очередь придали фильму живой, современный ритм. В процессе постановки драматургия сценария обрела пульс жизни, а образы – размах.
Трудно было ответить только на один вопрос: где, когда и в особенности как завершить действие. Классические каноны драматургии требуют, чтобы герой окончил жизнь, оставив после себя свое дело, которое уже ничто не способно изменить. Согласно этому принципу я начал искать ситуации прошлого, в которых Матеуш Биркут мог бы погибнуть, защищая рабочее дело. Тут выбор был очень простой, а образ существовал единственный – 1970 год, декабрь, Гдыня. Во главе колонны протестующих рабочих шестеро несут двери, на них убитый мужчина [56]56
Речь идет о волне рабочих протестов, прокатившихся в декабре 1970 г. по крупным предприятиям Побережья, в первую очередь верфям. Эти выступления были жестоко подавлены властями, что в значительной мере послужило причиной отставки Вл. Гомулки. На посту первого секретаря ЦК ПОРП его сменил Эдвард Герек.
[Закрыть].
Этот образ, знакомый сегодня по известной фотографии, тогда существовал только в повторявшихся шепотом рассказах. Такое завершение фильма говорило мне больше и сильнее всего остального, хотя я знал, что нет никаких шансов увидеть его на экране. Власти, ответственные за так называемые события на Побережье, затерли все следы, тайно, без свидетелей похоронив многих умерших от ран рабочих, чтобы уменьшить масштаб своего преступления. В этой ситуации следовало рассчитывать только на социальную память польской публики, поэтому я воспользовался образом, который мог служить прозрачной аллюзией декабрьской трагедии. В фильме Агнешка едет в Гданьск, куда, выйдя из тюрьмы, переехал Матеуш Биркут, и, не найдя его среди живых, ищет на кладбище. Могилы нет, в чугунное литье ворот она вставляет букет цветов как символ своего не завершенного фильма.
– Эту сцену надо вырезать, потому что не было ни жертв, ни, следовательно, их могил, – прозвучало решительное требование единственного защитника и союзника нашего фильма министра Тейхмы. Что было делать? Я вырезал сцену, свернул ее вместе с негативом и спрятал дома. С нее через несколько лет начнется «Человек из железа».
* * *
Неумолимо приближался момент столкновения с политическими властями. Фильм уже стал фактом, а примут ли его наверху, оставалось большим вопросом. Юзеф Тейхма отдавал себе в этом отчет:
« 2 ноября 1976-го.Передал Вайде свои замечания по фильму «Человек из мрамора». Я очень боялся этого разговора. Фильм мне кажется выдающимся. Он возбудит большие страсти и резкие возражения. <…>
Разговор состоялся – я предпочитаю проиграть с Вайдой, чем выиграть с Филипским [57]57
Ришард Филипский(род. 1934) – актер и режиссер театра и кино. Среди его наиболее известных работ роли в фильмах «Хубаль», «Потоп», «Государственный переворот» и др. В 70-е годы активно выступал на политической арене, был «лицом» националистического объединения «Грюнвальд».
[Закрыть].11 декабря 1976-го.План разговора с Вайдой. Фильм выйдет на экраны. Нужны новые переделки. Главное – убрать из финала кладбище в Гданьске, напоминание о декабрьских событиях 1970-го. <…>
Вайда и Сцибор спокойно приняли мои замечания, но заявили, что обязаны сохранить лицо перед кинематографической молодежью, которая знает и сценарий, и фильм. Если процесс сокращений затянется и результат окажется в противоречии с его совестью, на это режиссер свое согласие не даст.
Ярошевич позвонил в цензуру и устроил скандал за выпуск на экран «Человека из мрамора». Я сказал председателю цензурного комитета: «Независимо от того, какие распоряжения дал вам премьер, без моего ведома и согласия не предпринимать ничего нового в отношении фильма Вайды». В театры не ходят, книжек не читают, концерты не слушают, выставки не посещают, а так любят совать нос в культуру!
7 февраля 1977-го.Должен признать недюжинную смелость председателя цензуры, который не поддался давлению и не запретил «Человека из мрамора».
Сегодня он направил премьеру письмо, в котором заявляет, «что несогласие на выпуск фильма на экраны в нынешней политической обстановке чревато результатом, своим масштабом перерастающим рамки несогласия между цензурой и отдельным деятелем искусства».
11 марта 1977-го.После премьеры «Человека из мрамора» в кинотеатр «Варе» начали выстраиваться огромные очереди, возникали спонтанные комитеты, соблюдающие порядок в очередях. Слухи о якобы планирующемся снятии фильма с экрана раздували истерию. В мое отсутствие дело попало к Тереку, который дал согласие на показ картины в четырех кинотеатрах. Через несколько дней ситуация успокоилась, хотя возбуждение по-прежнему большое».
Несмотря на протесты, звучавшие с разных ступеней «лестницы решений», Юзеф Тейхма выпустил «Человека из мрамора» на экран. Зрители довершили остальное. Только об одном я не мог мечтать: чтобы мой фильм представлял польское кино на каком-либо фестивале. Но и здесь на выручку пришел случай. Парижский дистрибьютор моих фильмов Тони Мольер купил «Человека из мрамора» и получил копию для субтитрирования. Таким образом, директор Каннского фестиваля Жиль Жакоб смог увидеть в Париже «неразрешенный» фильм и ввести его во внеконкурсную программу в качестве фильма-сюрприза.
* * *
Важнее всего, однако, для меня были письма от зрителей; они содержали задания на будущее:
« Ясень, 31 марта 1977 г.
Дорогой пан Анджей!
Прошу простить мне такое обращение, оно вырвалось как-то само собой. Несколько дней назад я смотрел Ваш фильм «Человек из мрамора» в Зеленой Гуре в кинотеатре «Венус». Я благодарен Вам за этот фильм. Вы преодолели барьер, который до сих пор считался непреодолимым. Уже в который раз Вы доказали, что Ваши силы не исчерпаны, а деньги, потраченные на сделанные Вами фильмы, не выброшены на ветер. Вообразите себе, что на сеансе во время сцены в суде и после «неожиданного» признания Биркута зал встает и аплодирует, и я вместе со всеми. Совсем немного, и это так и было, и люди начали бы петь. <…> Несколько лет назад я организовал и вел студенческий театр-кабаре ТСВ – Товарищество социального воспитания. Теперь я самая нежелательная особа – в отношении работы – на всей Любуской земле. Представьте себе, если я получал место, к примеру, в Междуречье Подляском около Седльсе, то через месяц обязательно вынужден был увольняться и ехать дальше искать работу, потому что из Воеводского Комитета ПОРП поступала информация – «делал антисоветское кабаре». <…> Извините, что докучаю личными проблемами, но благодаря Вашему фильму я понял, что следует и нужно бороться, и это прекрасно. Еще раз спасибо.
С наивысшим уважением и симпатией
Бенедикт Нафальский».
« Люблин, 24 апреля 1977 г.
<…>Такого фильма, голой правды, по которой мы так стосковались, еще не было! Может, только режиссерша немного пережата, потому что так свободно, наверное, никто себя не ведет. Чересчур современно! Но ее игра – замечательная, потрясающая! Что меня так взволновало? Разумеется, правда. То, о чем говорят шепотом, и эти песни нашей молодости. Паскудной – но все же молодости. Столько было запала! И… ситуация, похожая на нынешнюю! И сегодня безопаснее всего черное называть белым, а белое черным. Валят с больной головы на здоровую (прошу прощения). <…> Я тихо плакала во время просмотра, плакала в троллейбусе, а дома дала себе волю и зарыдала в голос. Что же, выходит, я только и состою из одной чувствительности? На следующий день я чувствовала себя больной. Правда, правда. И… через неделю опять пошла, чтобы еще раз это пережить. <…> Что за точный подбор актеров! Почему мы их не видим? Какое лицо у Биркута! Это не актер, а человек из жизни, просто не верится, что это кино. Это сама жизнь, схваченная на лету. Что за лицо, и так прекрасно играет!
Шлю свои поздравления
бухгалтер, 44 года».
« Вроцлав, 29 мая 77
Многоуважаемый пан Анджей!
<…> Я знаю, что Вы большой друг молодежи и снимаете свое кино с мыслью о нас. Наилучшим примером этого является «Человек из мрамора». Официальной оценкой этого фильма занялись несколько критиков, которые обнаружили то ли полное отсутствие компетентности, то ли – что более правдоподобно – действовали по заказу определенной организации, которая так замечательно у нас в последние годы развивается. Мои родители тоже смотрели этот фильм и подтвердили, что так все и было. А своим родителям я доверяю больше, чем критикам. <…>
Идя по следам Матеуша Биркута (а, может, Агнешки), я обнаружил интересную вещь. Кажется, роман Александра Сцибора-Рыльского «Человек из мрамора», по которому Вы сняли фильм, напечатан в «Культуре» в 1963 году. В результате поисков во вроцлавском «Оссолинеуме» я узнал, что номеров «Культуры» за это время я не получу «по техническим причинам». Но я упорный и обязательно найду эти номера.
Прошу принять уверения в наивысшем уважении
Александр Плантос».
Я всегда верил в свою публику и потому постоянно жил под страхом, что мои фильмы не попадут к тем, кто лучше других знает правду о нашей стране.
IV. «Барышни из Вилько»
Я никогда не был маньяком политического кино. Я люблю кино, его стихия составляет смысл моей жизни. Поэтому я с удовольствием обращался также к темам, далеким от каких бы то ни было политических аллюзий, а рассказ Ярослава Ивашкевича давно преследовал меня.
Об экранизации «Барышень из Вилько» разговоры начались сразу после успеха «Березняка». Теперь это была еще и политическая необходимость. После «Человека из мрамора» я должен был хотя бы на время сбить со следа противника, притупить его бдительность, для чего следовало на время сойти со сцены политических страстей. Кинематографические власти вздохнули с облегчением, для меня же начался настоящий ад. Прежние фильмы я делал с энергией, которая отразилась в их языке и образности. А тонкая материя прозы Ивашкевича требовала чего-то совершенно другого. Мой внутренний ритм сопротивлялся медлительности «Барышень из Вилько», в особенности в первые недели съемок.
Красивый и очень гармоничный сценарий по этому рассказу написал Збигнев Каминский, один из режиссеров нашего Кинообъединения «X». Подбор актеров тоже оказался счастливым. Художник Аллан Старский завез меня довольно далеко от Варшавы, чтобы показать не слишком красивую, к тому же пребывающую в состоянии полнейшей запущенности усадебку. При этом он уверял, что там настоящий рай и там воплотятся все мои надежды.
После войны в Польше было разграблено и уничтожено сорок тысяч поместий. А когда последние сохранившиеся дома тоже начали рушиться, интерьер польского барского дома стал любимым местом съемок телевидения и кино. Выглядело это приблизительно так: на непременно белых стенах развешивались откопанные на студийных складах реквизиты, главным образом, сабли и пистолеты; покрытый химическим лаком пол сверкал, как поверхность зеркала. Такого примитивного образа Аллан и опасался, а потому искал для нашего фильма подлинные, аутентичные объекты. Будучи значительно моложе меня, он не мог ни видеть жизнь польской усадьбы, ни наблюдать ее обычаи и все же настоял снимать «Барышень» именно в Радахувке только потому, что в этом доме еще жили люди и теплилась какая-то жизнь, похожая на предвоенную, которую, как он полагал, мы могли бы реанимировать.
Вот так все и произошло, хотя экранизация потребовала огромного объема подготовительных работ. Нужно было достроить передний двор и врыть там скамейки, привести в порядок газон перед домом и оторвать доски, которыми был забит вход на веранду, смонтировать и прикрутить медные дверные ручки, свинченные и спрятанные от воров на чердаке еще во время Первой мировой войны, – и только после всего этого можно было садиться за стол на общий семейный ужин…
Лето было в зените, погода благоприятствовала, а я все не мог успокоить свои взвинченные политикой нервы. Все, что я видел перед камерой, казалось мне невыносимо подробным и медлительным. Первые две недели были настоящим кошмаром. Даниэль Ольбрыхский так это потом вспоминал:
«Ой, поначалу шло тяжко. Мы сидели и не очень знали, что сказать и с какой ноги начать сцену. Диалогов почти не было, все такое неопределенное… Анджей выглядел так, будто сам сомневался в том, что делает. Если бы продюсером бы кто-то другой, а не Бася Пец-Слесицкая, то этот кто-то имел бы все основания для беспокойства. Потому что группа проводила утренние часы за пустыми дискуссиями, которые кончались в полдень, а иногда затягивались до часу – двух… И до этого времени ни единого плана!»
Збышек Каминский с самого начала знал, как должен выглядеть этот фильм, я же, предполагая, что он должен быть гораздо энергичнее, содержать больше действия и отличаться большей выразительностью, толкал картину в сторону, которая расходилась с темой. Збышек, хотя и был только начинающим режиссером, знал то, чего я в этой картине не замечал. Вместо того чтобы в отчаянии выискивать события и конфликт, мой младший коллега справедливо требовал, чтобы я точно и конкретно ставил то, что написал Ивашкевич.
Моя жена Кристина, встревоженная состоянием моей нервной системы, втолковала мне, что я все еще живу в ритме «Человека из мрамора». Политическое кино по самой своей природе есть кино действия, в то время как мы делаем нечто совсем другое и намереваемся показать на экране потаенную внутреннюю жизнь барышень из барской усадьбы. Но вот с какого-то момента наша работа потекла в согласии с ритмом неторопливого существования обитательниц Вилько. А я, наконец, мог присмотреться к их лицам, к солнечным лучам, падающим сквозь листья на пол веранды, мягким очертаниям пейзажа, а также ассистировать при домашних хлопотах, например, при работах в кладовках, так замечательно сыгранных на экране Кристиной Захватович.
* * *
Когда я раздумываю над тем, о чем написаны «Барышни из Вилько», я говорю себе: они написаны о том, о сем и еще о чем-то другом. И это точный ответ на вопрос. Какая-то тоненькая нить соединяет нас с жизнью, изображенной Ивашкевичем, словно мы открываем в себе что-то давнее, что-то из детства, что-то в себе лучшее, свои драгоценные воспоминания о прекрасном. В «Барышнях из Вилько» сотворен мир ценностей. Эти женщины точно знают, чего им нельзя преступить. Звучит как вещь само собой разумеющаяся, но выразить это на экране не так-то легко.
Наблюдая за съемками, наш хозяин, владелец Радахувки, справедливо заметил, что режиссура кажется ему больше всего похожей на построение малышей в две шеренги…
Уже наступила зима, когда мне удалось уговорить Ярослава (Ивашкевича) сесть с нами в поезд и позволить его поснимать. За окнами вагона набегают снежные поля, лето сменяется зимой, великий писатель прощается с пейзажем своей молодости, а мы завершаем фильм.
Однако не все в семье Ивашкевичей были в восторге от идеи экранизировать этот рассказ. Анна Ивашкевич писала Ванде Вертенштейн [58]58
Анна Ивашкевич– жена Я. Ивашкевича, Ванда Вертенштейн(1917–2003) – журналист, критик, переводчик, друг А. Вайды.
[Закрыть]:
« Дорогая Ванда,
<…> Ты с энтузиазмом относишься к экранизации «Барышень из Вилько», а для меня это настоящий удар… Ты представляешь себе ту тончайшую, как бы засвеченную материю, из которой сделан этот рассказ, в руках даже самого лучшего кинорежиссера? Меня пробирает дрожь от одной мысли, что может произойти. Поначалу, когда Вайда приехал с этим предложением, я надеялась, что Ярослав не согласится, но… он соглашается всегда и на все, когда с его произведениями кто-то что-то хочет делать. Вайду, конечно, окрылил успех «Березняка» в Париже, и справедливость требует признать, что тот фильм прекрасен «сам по себе». Но когда я вспоминаю невероятную деликатность литературного «Березняка» с эротической стороны, а на экране вижу брутальность и грубость сцен Болеслава с Малиной (о которых в рассказе нет ни слова), меня обуревает настоящая злость… Теперь приходится вообразить, что той же техникой воспользуются в «Барышнях из Вилько»! Ты хорошо помнишь зал импрессионистов в Оранжери? Помнишь «Les coquelicots» Моне – по освещенному солнцем лугу идет, точнее, спускается, пологим склоном женщина в белом платье и с зонтиком, и это ее платье, и весь луг с цветами освещены так, что кажутся почти нереальными (несмотря на «реализм»). Именно это и есть «Барышни из Вилько». <…> Как подумаю, что в фильме наверняка окажется «смачная» эротическая сцена между Виктором и Юльчей, когда в рассказе автор всего одним словом (Виктор поглядывал за завтраком на «своих» женщин) только намекнул на это, мне хочется плакать…»
Может быть, поэтому Ярослав Ивашкевич написал мне позже:








