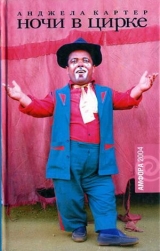
Текст книги "Ночи в цирке"
Автор книги: Анджела Картер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Молча, тайно, как никем не признанная осень за внешними стенами сменялась зимой, так тепло и свет наполняли исправительный дом, свет, настолько несвойственный времени года, что даже графиня почувствовала ощутимое изменение температуры. Но, как бы пристально она ни всматривалась, она не могла определить видимых изменений в раз и навсегда установленном ею механическом порядке, и несмотря на то что она совсем перестала спать и ее вращения приобрели характер истерической произвольности, от которой у нее иногда кружилась голова и ей приходилось останавливаться, судя по часам, почти на минуту, она не замечала ничего подозрительного.
Она не допускала и мысли, что надзирательницы могут восстать против нее: разве их контракты не хранятся у нее в железном сейфе? Разве она их не купила? Разве им не запрещено общаться с заключенными? Разве запретная вещь не является сама по себе запретом?
Ее белесые глаза покрылись красной сеткой сосудов, они были воспалены. Без устали вращаясь на стуле, она пальцами выбивала на подлокотнике нервную дробь.
Записки, рисунки, ласки, взгляды – во всем говорило «если бы…» и «как я хочу…». А часы отсчитывали время новой жизни и нового места над воротами, которые с каждым днем становились в их воображении все шире и шире, пока, наконец, часы и ворота, символизировавшие когда-то конец надежды, не стали твердить им только о надежде.
Против графини восстала армия любовниц и это случилось утром, когда клетки открылись для последней прогулки и не закрылись. Надзирательницы отбросили капюшоны, заключенные вышли из своих камер, и все они направили на графиню один обвинительный взор.
Графиня выхватила пистолет, который носила в кармане, и начала стрелять. Выстрелы грохотали, но их звук не отдавался, когда пули рикошетили от кирпичных стен и решеток камер, в которых не могло быть эха. Один из выстрелов достиг цели: он остановил часы, выбил из них время, разбил циферблат и навеки положил конец тиканью; отныне, глядя на эти часы, графиня всегда будет видеть час окончания своего времени, час их освобождения. Впрочем, попала в часы она случайно. Графиня была слишком изумлена, чтобы целиться точно, она никого не ранила и была без труда разоружена.
Ее заперли, а ключ выбросили в сугроб за воротами. Графиню оставили на ее наблюдательном пункте, с которого нечего было наблюдать, кроме ее собственного преступления, которое тут же вошло через открытые ворота, чтобы преследовать ее, вечно вращающуюся на стуле.
Поцелуи, объятия и первые взгляды доселе невидимых любящих лиц. Когда схлынула первая волна радости, женщины разработали план – пробираться к железной дороге (у них не было ни карт, ни компаса) и двигаться дальше по рельсам. Как только они поймут, где находятся, они смогут решить, куда им двигаться и захотят ли они, пусть даже в пароксизме вновь обретенной любви, пройти четыре-пять тысяч миль до деревни или города, где их матери по-прежнему присматривают за детьми, осиротевшими по велению закона, – независимо от того, что будет дальше, или же остаться здесь и отыскать в окружающих бескрайних равнинах примитивную Утопию, в которой никто никогда их не найдет.
Вера Андреевна знала, какое место в сердце Ольги Александровны занимает ее сынишка, которого та видела последний раз малышом.
У женщин было оружие, они были одеты в огромные шинели и валенки, набитые соломой. У них была еда. Окружающий их белоснежный мир был похож на чистый лист бумаги, на котором они могли нарисовать любое будущее.
Взявшись за руки, женщины направились в сторону бледного солнца, распевая от радости.
4
С наступлением сумерек женщины оказались в лесу и, боясь ночью заблудиться, решили разбить здесь лагерь. Расположившись, они заметили в небе над деревьями зарево со стороны железной дороги. Ольга Александровна и Вера Андреевна отправились на разведку и поползли вперед, прячась за каждым кустом, пока не увидели с косогора поразившую их картину: целый поезд, расчлененный, как детская игрушка, с вагонами, разлетевшимися во все стороны от взрыва, искорежившего рельсы так, что они стали похожи на клубок ниток, спутанный игривым котенком. Многие вагоны еще были охвачены пламенем, отбрасывающим зловещее сияние на деревья вдоль пути, хотя было заметно, что кто-то пытался его тушить.
Среди обломков, опрокинутые, словно гигантские кегли, валялись совершенно невероятные и неправдоподобные существа, которых Ольга Александровна когда-то очень давно, еще в детстве, видела в царском зверинце своего родного Санкт-Петербурга. Слоны! Столько мертвых слонов, что ими можно заполнить огромное кладбище; по движению среди остатков крушения женщины поняли, что один гигант еще жив и продолжает разгребать хоботом балки и сломанные колеса.
И вдруг послышались совсем уж неожиданные звуки музыки – скрипки и бубна, и Вера Андреевна потянула Ольгу Александровну за дерево, чтобы пропустить в высшей степени экстравагантную процессию. Разбойники, которые ее конвоировали, не заметили двух женщин, за что те возблагодарили Бога. Бандиты, увешанные оружием… Разбойники с заложниками: светловолосая девушка в слезах… молодой громила в крестьянской одежде, который утешал ее на нерусском языке… Коротышка в полосатых штанах, выкрикивавший, если бы женщины могли его понять, фразу: «Я требую встречи с американским консулом!» Бандиты тащили за собой две примитивные бесколесные повозки, на которых лежали две покрытые одеялами кучи, одна была безмолвна, а другая вырывалась и вопила во все горло. Маленькая седая насупленная женщина бормотала что-то на нерусском языке, но не на том, на котором говорили все остальные. Вот так неожиданность! За ними двигались еще разбойники…
Пестрая толпа, замыкавшая процессию, заставила женщин перекреститься: это были люди самых разных обликов и размеров, одни – маленькие, как карлики, другие – долговязые и худые, как вешалки; их было человек десять, одетых в рваные остатки того, что когда-то было яркой одеждой самого невообразимого покроя. У кого были нацеплены красные носы, у кого – намалеваны большие черные кольца вокруг глаз, но краска на их лицах шелушилась, и они выглядели пегими. Двое из них, старые и морщинистые, скорее карлики, чем гиганты, и были источником музыки: скрипка у одного была совсем крохотной, словно съежившейся а у другого кроме бубна за спиной висел металлический треугольник, который звенел с каждым его шагом. Оба с напускной бравадой наигрывали мелодию, которая тронула бы души Веры Андреевны и Ольги Александровны, если бы они ее знали: «Правь, Британия!»
Несколько безудержно тявкающих собачонок таких же разнообразных пород, как и весь этот человеческий зоопарк, носились взад и вперед, крутились под ногами, то и дело получая пинки от разбойников.
Беглянки искоса наблюдали за выдающимися образчиками того мира, от которого в исправит тельном доме они были отрезаны.
Как только разбойники с пленниками скрылись, женщины поспешили к своим подругам, чтобы обсудить план действий. Решение созрело почти сразу: у них не было ни желания, ни сил нападать на бандитов, так что придется оставить их пленников на произвол судьбы, зато они обязательно подойдут к разбитому поезду, чтобы оказать помощь раненым и умирающим, даже если туда подоспеет спасательная команда и арестует их там.
Снег под усыпанным звездами небом отливал потусторонней, ослепительной, сияющей голубизной, будто излучал трупное свечение. Несмотря на то что огонь уже погас, света было достаточно, и женщины увидели, что помощь их здесь бесполезна.
Когда они приблизились, последний живой слон, собравшись с силами, высоко поднял хоботом разбитый кухонный шкаф и швырнул его в сторону леса, где он разлетелся градом солонок, перечниц и склянок с уксусом. Потом с душераздирающим ревом, на мгновение заполнившим великую глушь, повалился на бок, но не сразу, а постепенным, сокрушающим толчком подмяв собой тающий снег. Воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь треском догоравшего кустарника.
Ольга Александровна споткнулась о чье-то тело и сначала подумала, что это труп, но, увидев зажатую в кулаке бутылку, поняла, что человек еще жив, и принялась толкать его и тормошить. Человек не шевелился. Как вскоре выяснилось, вся обслуга поезда – вусмерть пьяные проводники, официанты, повара – распластались на его обломках, словно в последний день крестьянской свадьбы. Жар горящих бревен не дал им замерзнуть. Похоже, что это были все, кто выжил. Женщины решили оставить их как они есть: было очевидно, что их здоровью ничто не угрожает.
Привлеченная ярким цветом, – она так соскучилась по разнообразным цветам, – Ольга Александровна вытащила из сугроба стеганое одеяло, сшитое из вязаных разноцветных лоскутков.
– Настоящий склад полезных вещей, каким-то чудом оставленных в этой глуши специально для нас! – сказала она. Она была женщиной практичной.
Подкрепившись хлебом и колбасой, которые они прихватили с собой и поджарили в огне лесного пожара, женщины принялись спасать оставшееся имущество.
Первое, что нашла Ольга Александровна, был позолоченная фигурка старика с косой, которая явно выпала из разбитой коробки с пружинами и медными колесиками. Вера Андреевна предположила, что это фигура Сатурна, Отца времени.
– Куда бы мы ни пошли, отцы нам больше не понадобятся, – произнесла она. И они выбросили коробку.
С этого момента Вера умоляла подругу не называть ее по отчеству, и об этом же в свою очередь попросила ее Ольга.
Очередной находкой Ольги под грудой сломанных подсвечников и рваной мебельной обивкой был осколок зеркала с какими-то странными коричневыми полосами на оранжевом фоне. Дотронувшись до осколка, Ольга обожглась и уронила его. Осколок разлетелся на мелкие части, оставив, к ее ужасу, на снегу полоску дымящейся жидкости. Ольгой овладел суеверный страх.
– Давай уйдем отсюда, – сказала она Вере.
– Но куда нам идти, милая?
Под сверкающими звездами рельсы бежали от охваченного огнем края назад, назад, на многие тысячи миль назад, в Санкт-Петербург, туда, где в тесной квартире ее старая мать склонилась над углями самовара в бесконечном повторении своих ежедневных обязанностей, где маленький, уже забывший ее мальчик играл в переулке в какие-то неизвестные ей игры. Вера стояла, потупившись, как раньше, до того, как их пальцы коснулись друг друга. Она понимала, что смотреть значит принуждать, и в этот момент они были свободны выбирать из всего, что приберегла для них судьба.
Ольга в смятении присела на килу столового белья, выброшенного натиском последнего слона из последнего шкафа. Судя по окружавшим их разбитым остаткам столов, ваз, бутылок и столовых приборов, это был вагон-ресторан. Другие женщины рылись среди разбросанных рядом обломков кухни, откладывая в сторону все, что могло пригодиться: блюдца, чайники, котелки, ножи.
Они выносили запасы провианта, мешки с мукой, сахаром и бобами, но оставили специи, которых на кухне было более чем достаточно. В плетеной металлической корзинке сохранилось немало яиц, которым, по необъяснимому капризу взрыва, удалось избежать гибели.
Среди громких возгласов: «Клубничное варенье!», «Смотрите, шоколад!», «Милая, ты не поверишь! Здесь целое ведро мороженого!» – по-тюремному отточенный Ольгин слух уловил чуть слышный стон, который мог издавать больной или испуганный ребенок, и стон этот доносился как раз оттуда, где она сидела. Ольга вскочила и стала раскидывать во все стороны скатерти и салфетки.
Вскоре они откопали розовощекого светловолосого юношу в коротких белых штанишках, крепко спящего, словно на перине под белыми простынями. Алкоголем от него не пахло. На лбу у него виднелась огромная шишка.
– Как его разбудить?
– Если верить старинным сказкам, лучшее лекарство для спящих красавиц – поцелуй, – с легкой иронией отозвалась Вера.
Материнское сердце Ольги иронии не уловило. Она коснулась губами лба юноши, его веки чуть дрогнули, медленно распахнулись, он приподнял руки и обхватил ее за шею.
– Мама, – проговорил он. Безотказное слово. Улыбаясь, Ольга покачала головой. Она видела, что Уолсер еще не в состоянии спросить «Где я?». Как и окружающий пейзаж, он был абсолютно пуст.
Женщины подняли его на ноги, чтобы проверить, может ли он ходить. После нескольких попыток и усилий он вспомнил, как это делается, и вскоре с восторгом и громким смехом все увереннее ковылял от протянутых рук Ольги к менее радушным – Веры, пока наконец не научился держаться на ногах без посторонней помощи. Понемногу он обнаруживал в себе какие-то ощущения. Круговыми движениями ладони он потер себе живот, пытаясь что-то вспомнить, но так ничего и не сказав, продолжал тереть себе живот.
Ольга нашла в кухне банку с молоком, накрошила в него хлеба, налила немного этой смеси себе в ладони, и протянула ему, потому что он забыл, как пользоваться ложкой. Он радовался всему с ним происходящему и что-то ворковал, поводя из стороны в сторону вытаращенными глазами. Покончив с тюрей, он снова потер живот в ожидании следующегоблюда.
Ольга подняла металлическую корзинку с яйцами.
– Может, он хочет яичко?
При виде яиц в его мозгу что-то шевельнулось. Он встал на цыпочки и замахал руками, словно крыльями:
– Ку-ка-ре-ку-у-у-шки!
– Бедняга, – сказала Ольга. – Свихнулся, да поможет ему Господь.
Резкий свист пронзил ночь, и где-то вдали они разглядели искры и смутное сияние паровоза, медленно двигавшегося в Р., различили силуэты людей с факелами, фонарями, веревками и топорами, которые шли по насыпи рядом с ним. Мелькнул белый передник медсестры, высунувшейся из окна, чтобы разглядеть лежащий перед ними путь. Ольга приняла для себя решение; все принялись вязать в узлы полезные инструменты и кухонную утварь и устремились в лес, навстречу лучистой неизвестности любви и свободы.
Ольга торопливо воткнула в яйцо иглу и протянула его Уолсеру выпить, что он с удовольствием и сделал.
– Ку-ка-ре-ку-у-у-у!
– Его нельзя здесь оставлять, – сказала Ольга Вере.
– Он мужчина, пусть даже и сумасшедший, – ответила Вера. – Обойдемся без него.
Ольга медлила, словно раздумывая о том, какая же от этого молодого человека может быть польза… но времени не оставалось. Поцеловав на прощание Уолсера, она поцеловала своего собственного сына и все свое прошлое. Женщины исчезли.
Уолсер присел перед корзинкой с яйцами и вскоре понял, что они легко бьются. Он с силой пнул корзину и с радостью стал наблюдать, как крутятся яйца, оставшиеся целыми. Невзирая на критичность положения, спасатели приближались неторопливым шагом, сравнимым разве что с замедленной поступью обитателей богадельни. Уолсер еще немного попрыгал и потоптал катящиеся яйца, но вскоре его интерес к ним исчез. Он снова замахал руками:
– Ку-ка-ре-ку-у-у-у! Ку-ка-ре-ку-у-у-шки!
Когда Уолсер наконец понял, что добрые женщины ушли, из егоглаз безудержным потоком хлынули слезы. Крича петухом, размахивая, как крыльями, руками, он побежал было за ними, но вскоре, очарованный видом звезды, отражающейся на снегу многократными кругами света, позабыл, куда и зачем бежит.
5
Как только мы повернулись к поезду спиной, он прекратил свое существование; мы были перенесены в иной мир, брошены в средоточие лимба, карты которого у нас не было.
Нас уводили все дальше в лес, внутрь этого неторопливого обжоры, который проглатывал нас, пребывая в первозданном спокойствии и безмятежности. Мне потребовалось немало времени, чтобы успокоиться; мы удалились уже в такую непролазную глушь, что напоминали Иону в чреве кита, передвигаясь почти в темноте из-за плотных ветвей хвойных деревьев, закрывавших небо и изредка ронявших нам на головы снег, напоминавший помет каких-то крупных птиц. На опушках виднелось красное зарево оставленного позади пожара, окрашивающего ночные облака в цвет крови.
Казалось, что нашим похитителям, чьи намерения с каждой минутой пугали меня все больше, свет был не нужен. Они знали лес как свои пять пальцев, уверенно шли по невидимой тропе между деревьями и не разговаривали ни с нами, ни между собой. Должна признаться, что воняло от этих людей просто ужасно!
Очнувшись распластанная на подергивающихся носилках, я принялась колотить своих носильщиков по спинам, пока меня наконец не отпустили. Как всегда, рядом оказалась Лиз. и я поцеловала ее в первую попавшуюся часть тела, оказавшуюся носом.
– Ну что. довольна, что идешь ногами? – приветствовала меня старая ведьма. – Этот способ перемещения больше подходит для здешних мест, правда?
Должна заметить, что, когда я называю Лиз «ведьмой», не стоит воспринимать это всерьез, поскольку я – существо рациональное, более того – впитавшее свой рационализм с ее молоком, и можно сказать, что этого рационализма, обеспеченного ее не совсем незаслуженной репутацией, иногда слишком много, поскольку дважды два для нее нередко равно пяти, ибо она соображает гораздо быстрее многих. Как в ней уживаются ее принципы поведения и своеобразные причуды? Только не спрашивайте об этом меня! Спросите лучше ее семейку анархистов-бомбометателей! Кто подложил бомбу в bombe surpriseна свадьбе Дженни? Работы для нашего Джанни – на полминуты, несмотря на его слабые легкие; да и кому бы пришло в голову искать динамит в кафе-мороженом, среди милых ребятишек?
А ведь именно сейчас дома, в Бэттерси, наши дети наверняка спрашивают: «А где наша тетя Лиз? Где Феверс?», но ни Феверс, ни Лиз им на этот вопрос не ответят! Вспоминая о детях, я пытаюсь нащупать на груди «фиалки удачи», подаренные мне моей любимой Виолеттой на прошлое Рождество, но, увы, их там нет, они потерялись где-то в Сибири.
Услышан, что я всхлипнула, Лиз спрашивает вполголоса:
– Как твое крыло?
– Очень плохо.
Она сжимает мне руку.
– Кроме того я потеряла свои счастливые фиалки, – добавляю я.
Лиз резко бросает мою руку; сантименты не для нее.
– Плевать на твои счастливые фиалки, где бы они ни были, – говорит она. – Готовься к худшему, девочка. Мы потеряли чертовы часы, да? Наверняка сгорели при крушении. Сначала твой стилет, потом мои часы. Скоро совсем потеряем ход времени, что тогда будем делать? Часы Нельсон. Потеряли. И это еще не все. Мой саквояж. Его тоже нет.
Вот это действительно катастрофа, и такая ужасная, что я не решилась даже подумать о грозящих нам последствиях.
Мы двигались все дальше вглубь неизведанной земли, которая вызывала одновременно чувство клаустрофобии (из-за скрывающих нас деревьев) и агорафобии (из-за огромного пространства, занимаемого этими деревьями). Мы ставили одну невыразимо уставшую ногу перед столь же уставшей другой, и все было тоскливо и необъяснимо, как дождливое воскресенье, пока наконец мы не выбрались на заваленную грязным снегом поляну, на которой за частоколом были беспорядочно разбросаны разные жилища; одни из них напоминали вигвамы, другие – армейские палатки. Там же стояло несколько сараев из неотесанных бревен с замазанными глиной щелями, что свидетельствовало об их крайне поспешном возведении. Разбойники зажгли шипящие сосновые факелы, я видела все до мелочей, и мои подозрения о том, что среди них нет ни одной женщины, с лихвой оправдались. Не скажу, что это открытие придало мне в них веры.
Все мужики сгрудились вокруг меня, глазели на меня, что-то бормотали и восклицали; на Принцессу же и на Миньону не обращали никакого внимания. У меня сложилось впечатление, что я оказалась для них «гвоздем» программы, хотя, поверьте, очень плотно куталась в свое одеяло.
Однако обошлись с нами по-доброму. Нас угостили чаем, обжигающей горло водкой и холодным мясом, кажется лосятиной, но кусок не лез мне в горло, я разрыдалась, как дурочка; Лиз потом сказала, что это последствия нервного потрясения, и еще она сказала, что впервые, с тех пор как я была ребенком, она всерьез и по-настоящему озаботилась отсутствием у меня аппетита.
В ту ночь разбойники даже выказали некое подобие заботы: не стали нас допрашивать и все такое, потому что мы были слишком напуганными и усталыми, а поместили в просторный сарай с лежанками, покрытыми медвежьими шкурами, судя по запаху, плохо выделанными. Они оставили нас, бедных, сбившихся в кучу циркачей Полковника, который что-то возмущенно бормотал, поскольку, не считая всех выпавших на нашу долю унижений, терпеть не мог водку, которой нас гостеприимно потчевали, и безмерно страдал по утраченному бурбону, как рано отнятый от груди младенец, жалобно бубня, что появление американского консула было бы, как он сказал, «з-зымечательно». «Чертовски з-зымечательно».
Снаружи послышался металлический лязг. О чем-то горячо споря, мужики заперли нас на засов. Как и мы, они не были уроженцами здешних мест Местные «лесные жители» – низкорослые, желтолицые; иногда мы видели на станциях как они грузили горой наваленные на сани шкуры в багажные вагоны: они носили необычные треугольные шапки и позвякивали оловянными украшениями. Эти же были здоровые, крепкие мужики, хотя мы и находились очень далеко от того района, где обитали их предки – крестьяне, высланные в Сибирь несколько столетий назад. Так что, полагаю, все вокруг было им так же незнакомо, как и нам.
В сарае горел костер, его дым уходил в отверстие в крыше. Разбойники приставили к нам мальчишку, который должен был просидеть всю ночь у огня, подбрасывая в него дрова. Собаки клоунов прыгали, заглядывая парнишке в лицо, в надежде поиграть с ним, но когда одна черная пуделиха с остатками красного атласного банта в кудрях напрыгнула на него с исключительно дружескими намерениями, этот общительный малый ловко ухватил ее и одним аккуратным движением своих длиннопалых рук свернул ей шею. Клоуны оцепенели от ужаса, я же перестала питать последние иллюзии относительно доброжелательности наших новых хозяев.
Взгляды, которые костровой бросал на свинку Сивиллу, напоминали мне взгляды беспризорников на Квинстаун-роуд, когда они поглядывали на Джанни, выкрикивавшего: «Мороженое, мороженое, самое вкусное мороженое!» Из чего я сделала вывод, что Сивилла – не жилица на этом свете; да она и сама все понимала и, изредка всхлипывая, старалась поглубже зарыться в полковничью жилетку.
Как бы то ни было, я упросила мальчишку разрубить полено так, чтобы Лиз наложила на мое сломанное крыло шину и закрепила ее разорванными на полоски бельем, после чего почувствовала себя лучше. Но нам некуда было от него спрятаться, и когда он увидел, чем мы заняты, его глаза буквально полезли на лоб. Бог мой, как он таращился! И, верите ли, стал креститься!
Наконец Принцесса пришла в себя и нарушила свое многолетнее молчание мстительными выкриками, не относящимися ни к кому, ибо это явно была истерика с бессмысленным бормотанием. Ее не могла успокоить даже Миньона. Ясно было: Принцесса поняла, что «мавр может уходить». Ее руки словно ей уже не принадлежали, как будто отныне ей больше не суждено было использовать их как руки, а бедные пальцы не гнулись и напоминали шляпные крючки в прихожей.
Она так страшно кричала, так стенала о гибели своего рояля и любимых тигров, что клоуны рассвирепели и стали требовать, чтобы мальчишка вышвырнул ее на мороз, но тут Лиззи отыскала в своей сумке колоду карт, и, возмущенные, но притихшие, они расселись играть, а горе Принцессы тем временем иссякло, и она тихо прикорнула в объятиях Миньоны, лишь изредка испуская истерические всхлипы.
Лиз обняла меня, поцеловала и, несмотря на скрывающиеся за ее внешним спокойствием переживания, тут же, на моих глазах заснула под вонючими медвежьими шкурами. Я же была так потрясена случившимся, что никак не могла сомкнуть глаз, хотя давно уже спали клоуны, сжимая в руках карты и стаканы, крепко спал Полковник, медленно погружались в сон Миньона и Принцесса.
Лесную тишину нарушал только волчий вой – леденящие кровь звуки, совершенно не похожие на человеческие: они напоминали мне о моем одиночестве и о том, что в наступившей ночи нет ничего, что могло бы утолить нескончаемую скорбь этих Богом забытых мест.
Я лежала, уткнувшись лицом в руки, как вдруг услышала едва различимые на земляном полу шаги, а потом прикосновение – легчайшее, нежнейшее прикосновение, какое только можно себе представить, – к моей спине. Я резко подпрыгнула, но не смогла его поймать, потому что мальчишка уже как ни в чем не бывало сидел, скрестив ноги по-турецки, у костра и поигрывал малиновым пером.
Упрекнуть его у меня не хватило духу.
Мое движение потревожило Полковника; он перевернулся на спину и вскоре захрапел на пару со своей свиньей. Их дуэт, вероятно, меня и убаюкал, потому что следующее, что я помню, был грохот отпираемой двери.
Получилось так, что атаману разбойников захотелось встретиться со мной наедине, и за мной пришли, чтобы проводить в его хижину. Меня усадили на грубо сколоченный табурет перед столом, на котором я увидела простоквашу, черный хлеб и чай. Сон меня освежил, я подумала: «Пока живу надеюсь» и, несмотря на все свои страдания, обмакнула кусочек хлеба в простоквашу и заставила себя проглотить. Все это время атаман теребил свои длинные усы, свисающие с верхней губы к кадыку, и испытующе поглядывал на меня близко посаженными, но незлыми глазами.
Должно быть, я действительно выглядела нелепо в остатках кружевного вечернего платья, купленного по случаю в «Свон и Эдгарс»,[98] которое не шло мне даже новое. К тому же я была без нижней юбки, да еще укутана, словно тогой, одеялом. Манеры его, впрочем, сохраняли все черты высокомерной обходительности нищего; он ни разу не попросил меня показать крылья, видимо, полагая это бестактностью, хотя ему, конечно же, очень хотелось посмотреть.
– Вы – в Забайкалье, где реки промерзают до дна и рыбы застывают во льду, как мошки в янтаре, – объявил он. Как вам известно, у меня талант к языкам, я хватаю их на лету, как блох, и, хотя его русский и не был петербургского выговора, я все равно все понимала.
– Я это уже поняла, – сказала я.
– Добро пожаловать в братство свободных людей!
– «Братство», вот как? Но я не довожусь вам братом! – Его братское приветствие было совсем не к месту, и я презрительно усмехнулась, на что он не обратил никакого внимания и продолжал:
– Мы не заключенные, не изгои и не поселенцы, сударыня, хотя братство наше возникло именно из этих сословий; мы живем вне закона, не знающего к нам пощады, и своей жизнью и поступками доказываем, что жизнь в лесу может принести свободу, равенство и братство тем, кто готов платить за них бездомностью, опасностями и даже жизнью. Отныне, как говорится, наши сестры – сабли остры; наши жены – ружья заряжены, с которыми мы каждую ночь делим свои лежаки и – ревнивые – никогда не спускаем с них глаз. Мы идем на смерть с той же радостью, с какой идут под венец.
Не думайте, что я не прониклась духом его разглагольствований, хотя, как мне казалось, они должны были подчиняться определенному смыслу. «Сестры – сабли, жены – ружья» – что это такое, в самом деле! Что за разговор? Пойти с кем-нибудь из них под венец былоравносильно приглашению на эшафот, не иначе. Этот малый мешает метафоры, как пьяница – выпивку, и, смею заметить, пьянеет от них примерно так же. Более того, мне кажется, что его речь отлично легла бы на музыку, на духовые с барабаном, а в некоторых местах не помешал бы и мужской хор. И однако же, хоть он и был нашим похитителем, в тот момент я была настроена скорее в его пользу, чем против.
– Только катастрофа, – говорил он, – способна завести мужчину в такую глушь.
Но не я ли – живое доказательство того, что и женщины появляются здесь отнюдь не по собственной воле? Чтобы скрыть свое раздражение, я попросила у него еще стакан чая. Мою просьбу он любезно исполнил под звон и бряцанье оружия, поскольку, помимо прислоненного близ него к козлам ружья, на поясе у атамана болтались два пистолета, а его армяк был накрест перепоясан патронташем. Кроме того, у него имелась сабля с широким клинком, похожая на турецкую. Таково было снаряжение этого дикаря, украшенного свирепейшими усами. Его одежда напоминала одеяние бандитов из комических опер, только подражал не он, а ему,а от деревянного приклада его ружья, которое наверняка участвовало в крымской кампании, почти ничего не осталось.
– Каждый из нас, включая последнего мальчишку, скрывается здесь от закона, который готов нас покарать за месть мелким чиновникам, армейским офицерам, помещикам и им подобным негодяям, некогда насильно обесчестившим наших сестер, жен и возлюбленных, которые теперь далеко, далеко от нас…
Так вот где в либретто появляются женские партии! Подруги, которых с нами нет!
– Что вы имеете в виду под словом «обесчестившим»? – спросила я, с отвращением вылавливая из чая дохлую муху, но поскольку для мух здесь слишком холодно, оказалось, что это всего лишь чаинка. Я еще раз прощупала его на предмет «бесчестья».
– Атаман, а где вообще находится женская честь? В п… или в душе?
Мой лаконичный софизм, положенный на музыку, тоже прозвучал бы неплохо. То ли мой вопрос егорасстроил, то ли произнесенное вслух неприличное слово моментально охладило его пыл. Не привыкший к тому, что его мнение оспаривают, он всосал усы в рот и яростно их пожевал.
– Лично я считаю, – добавила я, – что девушка должна пристрелить своих насильников самостоятельно.
И так выразительно посмотрела на его ружье, что даже если бы у него что-то и было на уме, он немедленно бы передумал.
– Это мои люди, – сказал он, очевидно не желая обсуждать со мной эту тему, – взорвали железную дорогу.
– Прекрасно! – произнесла я иронично. – Вот это дело! Взорвать цирковой поезд! Интересная задумка.
И тут, Боже мой, у этого огромного, непорочного, великодушного мужика глаза потекли жирными слезами, он отшвырнул козлы, в ярости опрокинул остатки моего недоеденного завтрака и, упав передо мной на колени, приступил к своей главной арии.
– Удивительная госпожа из-за гор и далекого моря! Если бы царь-батюшка знал обо всем происходящем в его государстве, он никогда бы не допустил, чтобы таких честных крестьян, как мы, отлучили от сохи и, словно зверей, послали жить вдали от дома и вне закона, потому что мы не сделали ничего такого, чего не сделал бы он сам, если бы царице-матушке или его бесценным дочерям угрожало бесчестье.
Когда мы в последний раз ограбили железнодорожный разъезд в Р., мы взяли там газеты, чтобы посмотреть, что о нас пишут, и прочитали, что вы, знаменитая воздушная гимнастка, крылатое чудо, британский ангел, приближенная к английской королевской семье…
(Черт бы побрал Полковника с его рекламными штучками!)
…поедете через Забайкалье к Великому океану, через который переправитесь в Страну Летящего Дракона, чтобы встретиться там еще с одним Императором. Мы взорвали железную дорогу, милая барыня, только для того, чтобы захватив вас, иметь возможность обратиться к вам, умолять вас, бить, так сказать, челом – «ибо дела его не расходятся со словами», – чтобы вы ходатайствовали перед вашей будущей свекровью, королевой Англии…








