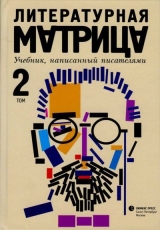
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Автор книги: Андрей Рубанов
Соавторы: Людмила Петрушевская,Дмитрий Быков,Роман Сенчин,Максим Кантор,Александр Кабаков,Павел Крусанов,Ольга Славникова,Александр Етоев,Герман Садулаев,Мария Степанова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
Набоков знал, о чем писал. Изучая бабочек, он особенно интересовался эволюционными изменениями их дивных узоров – и с этой целью не ленился считать под микроскопом чешуйки на бабочкиных крыльях. Набоков утверждал, что мимикрия в мире бабочек (например, подражание сухому листу) полна избыточных подробностей, которые просто не воспринимаются органами чувств потенциального пожирателя. Таким образом, эволюция и – шире – сотворение мира суть игра высших артистических сил. Поэтому – внимание! – художественное творчество человека со-природно той силе, которая, играючи, сотворила Вселенную. Поэтому – теперь сугубое внимание! – писатель важен потому, что совпадает с мировым творческим законом и выражает его собой наиболее полно – насколько это вообще доступно для человека. А то, насколько хорошо продается тираж, вовсе не имеет значения (у Годунова-Чердынцева первая книга стихов разошлась в количестве пятидесяти одного экземпляра, при тираже в пятьсот).
Таким образом, искусство и действительность не противоположны друг другу, но изначально состоят из одного и того же вещества – цветного, переменчивого, игрового, избыточного. Давая «обзор» первой стихотворной книги главного героя (это Годунов-Чердынцев мысленно перебирает свои стихи, связанные с детством), Набоков пишет: «Между тем воздух стихов потеплел, и мы собираемся назад в деревню, куда до моего поступления в школу (…)мы переезжали иногда уже в апреле». Обратите внимание: теплеет воздух стихов, то есть между стихами и действительностью есть прямое сообщение, дверь распахнута, воздух общий.
Дать картину творчества изнутри, «из головы» творящего – одна из самых сложных и благодарных задач, какие могут стоять перед автором романа. Вот как, по версии Набокова, поэт пишет стихи: «Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висело по млечно-белому фонарю; под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось „Благодарю тебя, отчизна…“, и тотчас обратной волной: „за злую даль благодарю…“. И снова полетело за ответом: „…тобой не признан…“ Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели; ногами управляло местное сознание, а главный, и, в сущности, единственно важный, Федор Константинович уже заглядывал во вторую качавшуюся, за несколько саженей, строфу, которая должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией». Здесь колебание рождающегося на наших глазах стихотворения связано с колебанием света от фонаря, с ритмом шагов Годунова-Чердынцева, как связана качка судна с морскими волнами. Обратите внимание: вторая строфа качается «в нескольких саженях» от поэта – то есть строфа присутствует в реальном, материальном мире, поэту до нее осталось несколько шагов. Разумеется, описать, как возникают стихи, можно только художественными средствами, при помощи той же поэзии, которая насквозь пропитывает прозу Набокова. И все-таки процесс стихотворчества, зафиксированный автором «Дара», куда реальнее, чем те мозговые импульсы, которые могли бы зарегистрировать объективные приборы, будь на голове у Годунова-Чердынцева колпак с проводками.
Враг поэта и поэзии – пошлость. Владимир Набоков во многих своих романах пытается вскрыть, описать и обезвредить это ядовитое явление. Пошлость – это ложная красота, ложная поэтичность, плоская картинка, которой упиваются люди недалекие, совершенно неспособные воспринять подлинную поэзию и красоту. Пошлость надо определить через что-то: Набоков с этой целью предъявляет рекламу – отдельный мир, существующий по своим гнусным законам. «За круглым столом при свете лампы семейка: мальчик в невозможной, с красным галстуком, матроске, девочка в красных зашнурованных сапожках; оба с выражением чувственного упоения нанизывают на соломинки разноцветные бусы, делая из них корзиночки, клетки, коробки; и с увлечением неменьшим в этом же занятии участвуют их полоумные родители – отец с премированной растительностью на довольном лице, мать с державным бюстом; собака тоже смотрит на стол, а на заднем плане видна в креслах завистливая бабушка. Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах: он, с блеском на маслянисто-загорелых щеках, сладострастно затягивается папиросой или держит в богатырской руке, плотоядно осклабясь, бутерброд с чем-то красным („ешьте больше мяса!“), она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот; и со временем они обратятся в бодрых, румяных, обжорливых стариков, – а там и черная инфернальная красота дубовых гробов среди пальм в витрине…» Знал бы Набоков, во что превратилась реклама сегодня! Господствующий жанр, неотъемлемая часть нашей жизни и нашего сознания. Именно реклама занимается тем, за что прежде отвечали мораль, искусство и философия: реклама формирует идеалы. Не всем виден «тайный изъян» дивного рекламного мира. Набоков считал, что реклама лжет, даже когда сообщает правду. Вещь, которую рекламируют, может быть действительно хороша и полезна, но приобретение ее не дает счастья – как бы ни внушала нам обратное реклама всей своей глянцевой эстетикой. Реклама – антипод и антагонист поэзии. Реклама, самая профессиональная и остроумная, суть концентрат пошлости.
Одна из важнейших тем в романе «Дар» – тема отца. Отец главного героя – знаменитый путешественник, ученый-энтомолог, исследователь Тибета, Монголии, Дальнего Востока. Волей автора этот вымышленный герой стоит в ряду таких русских ученых, как Николай Пржевальский и Григорий Грумм-Гржимайло. Отец в романе с огромной любовью списан с отца самого писателя. Владимир Дмитриевич Набоков был, как мы помним, не ученый, а политик, – но именно он ввел сына в мир энтомологии, именно его поблекшие коллекции послужили первотолчком к увлечению Владимира Набокова. Особый драматизм тема отца приобретает потому, что 28 марта 1922 года Владимир Дмитриевич был застрелен на публичной лекции своего товарища по партии, кадета Милюкова: заслонил лектора от пули террориста. Мать писателя, Елена Ивановна, так и не оправилась от удара: ее печальное вдовство в Праге, где ей в память о муже была назначена крошечная пенсия, рвало Набокову сердце. Писатель силой искусства воскрешает в романе погибшего отца: «Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором; когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз… (…) Причиной его гнева мог быть чей-нибудь промах, просчет управляющего (отец хорошо разбирался в хозяйстве), легкомысленное суждение о близком ему человеке, политическая пошлость в базарно-патриотическом духе, развиваемая незадачливым гостем, и наконец – какой-нибудь мой проступок. Он, перебивший на своем веку тьму-тьмущую птиц, он, привезший однажды только что женившемуся ботанику Бергу целиком весь растительный покров горной разноцветной лужайки величиною с площадь комнаты (я его и представил себе так – свернутым в ящике, как персидский ковер), найденный где-то на страшной высоте, среди голых скал и снегов, – он не мог мне простить лешинского воробья, зря подстреленного из „монте-кристо“, или шашкой изрубленную мною осинку на берегу пруда. Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и притворного, – и я уверен, что уличи он меня в физической трусости, то меня бы он проклял».
Это все характер Владимира Дмитриевича Набокова: его независимость, цельность, высокая человеческая требовательность к себе и другим. Счастлив сын, который может так гордиться своим отцом, – а Владимир Набоков, несмотря на все пришедшиеся на его долю жизненные трудности, был счастливым человеком. Он смог стать счастливым – и это всегда большая заслуга человека перед собственной судьбой. Но вернемся к роману. Детские воспоминания Годунова-Чердынцева об отце – уроки энтомологии, отъезды отца в дальние экспедиции, возвращения его домой – принадлежат к лучшим страницам «Дара». Трагическая перекличка романа с действительностью заключается в том, что у Годунова-Чердынцева отец тоже погибает: не возвращается из последней экспедиции, как раз перед Октябрьским переворотом. Причем семья не знает наверняка, действительно ли отец погиб: слухи о его смерти недостоверны и разноречивы. Уже в эмиграции семья все ждет его возвращения – и чем больше проходит времени, чем сложнее становится объяснить естественными земными причинами столь долгое отсутствие любимого человека, тем пронзительнее и опаснее для сердца делается мечта.
Годунов-Чердынцев (как это произошло и с самим Набоковым) эволюционирует от стихов к прозе. Он задумывает книгу об отце. Федор Константинович как бы ставит перед собой метафизическую задачу: в воображении, в прозе пройти по следам отца, с надеждой, что проза подскажет – что же случилось с отцом на самом деле, жив он или нет. Годунова-Чердынцева ведут литературный талант и любовь – и приводят в такие местности, где ни Годунов-Чердынцев, ни сам Набоков никогда не бывали. Набоков передает отцу Годунова-Чердынцева не только свою страсть к бабочкам (одно из самых дорогих своих душевных сокровищ), но и мечту о большой энтомологической экспедиции в Центральную Азию, которую писатель лелеял юношей, которую планировал осуществить, когда семья Набоковых жила в Крыму. Мечта об экспедиции не сбылась. Но тем не менее: «От гула воды в ущелье человек обалдевал; каким-то электрическим волнением наполнялась грудь и голова; вода мчалась со страшной силой, гладкая, однако, как раскаленный свинец, но вдруг чудовищно надувалась, достигнув порога, громоздя разноцветные волны, с бешеным ревом падая через блестящие лбы камней, и с трех сажаней высоты, из-под радуг рухнув во мрак, бежала дальше уже по-другому: клокоча, вся сизая и снежная от пены, и так ударялась то в одну, то в другую сторону конгломератового каньона, что казалось, не выдержит гудящая крепь горы, по скатам которой меж тем в блаженной тишине цвели ирисы…» Или вот, как вам это: «Далее шли тихие гобийские пески, проходил бархан за барханом, как волны, открывая короткие охряные горизонты, и только слышалось среди бархатного воздуха тяжелое, учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап». Можно ли поверить, что автор этих строк никогда не бывал ни в памирском ущелье, ни в пустыне Гоби? И однако же, это правда. Так работает писательский дар, что сами собой, из ниоткуда, возникают живые подробности. Почему-то Набоков знает, что горная река в Азии похожа на раскаленный свинец (а так и есть, я видела сама), знает, с каким звуком идет по пустыне верблюд. Это загадка, тайна, перед которой можно только замереть в удивлении.
Герой романа не закончил книгу про отца. Наброски не срослись в целое. Почему? Одно из объяснений: Годунова-Чердынцева обескуражило отсутствие у него тех глубоких и конкретных знаний, которыми обладают путешественники-натуралисты. Он не захотел «разбавлять все это собой». Но мне кажется, что есть и другая причина: Годунов-Чердынцев в своем творческом путешествии так и не обнаружил места, времени, обстоятельств гибели отца. Художественная логика его туда не довела; художественной логике не хватило сведений. Кто не верит, что прозаик может дописаться до разгадки настоящей, реальной тайны, пусть почитает другой роман Набокова – «Отчаяние». Там преступник, вообразивший себя вдобавок литератором, понимает, в чем был прокол совершенного им убийства, когда перечитывает собственную рукопись.
С темой отца в романе связана тема Пушкина. Выше цитировалось «оживление» Пушкина при помощи воображения и сухонького старичка, случайно оказавшегося в соседней с героем театральной ложе. Отец Году-нова-Чердынцева был по складу человек «пушкинский»: глубокий, ясный, светлый. Годунов-Чердынцев вспоминает: «Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что эхо „Пророка“ еще до сих пор дрожит в каком-нибудь гулко-переимчивом азиатском ущелье». Годунов-Чердынцев начинает писать книгу об отце, вдохновленный ритмом пушкинского «Путешествия в Арзрум». Открою секрет: почти у каждого писателя, когда он работает над чем-то большим и трудным, есть «дух-покровитель» – из классиков ли, из современников – словом, другой писатель, чьи книги помогают работающему верить в возможности литературы. Это не подражательство, это именно помощь, в которой пишущий нуждается и которую находит. Именно этот феномен фиксирует Набоков, когда показывает, как Годунов-Чердынцев растет при помощи Пушкина: «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную, руку, пахнувшую утренним калачом»; «В течение всей весны продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. (…) Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами „Пугачева“, выученными наизусть». Пушкин в «Даре» и вообще у Набокова – предельный случай творческой свободы, идеальный поэт.
У Пушкина в романе «Дар» есть антипод. Ему посвящена знаменитая четвертая глава. Помню, когда «Дар» готовился к публикации в журнале «Урал», в редакции то и дело раздавались звонки: «Вы печатаете роман с четвертой главой? Неужели с четвертой главой?» Да, отвечали мы с гордостью; собственно, публикация четвертой главы уже ничем редакции не грозила, цензура умирала, но еще держался вокруг бывших подцензурных тем грозовой озон. Тем не менее, вопрос о четвертой главе был не праздным. Достаточно сказать, что ведущий эмигрантский литературный журнал «Современные записки», где должен был печататься, по мере написания, роман «Дар», категорически отказался поместить четвертую главу. При том, что журнал «Современные записки» был известен своим либерализмом, широтой взглядов – и уж точно не подвергался никакой государственной цензуре! Таким образом, роман «Дар» первоначально вышел с зияющей дырой – и таким оставался еще пятнадцать лет. Полностью роман был опубликован только в 1952 году, в Нью-Йорке, в издательстве имени Чехова. Так получилось, что два ключевых произведения Набокова – «Дар» и «Лолита» – первоначально подверглись запретам. Может, запрет, репрессии и есть своего рода «знак качества», который ставят на художественном произведении поборники нормативности – причем любой нормативности, от идеологической до филологической.
Кто же он, тот грозный антигерой? Николай Гаврилович Чернышевский. Пламенный «шестидесятник» (ХIХ-го, а не XX века), властитель дум, кумир русской прогрессивной интеллигенции, любимый писатель В. И. Ленина. Набоков от этого кумира оставил мокрое место.
Четвертая глава в романе – это книга, написанная Годуновым-Чердынцевым и вызвавшая в пятой главе романа литературный скандал. Но именно в очерке о Чернышевском главный герой «Дара», как нигде, близок самому Набокову: может, потому, что здесь Набоков одолжил герою не только важные части своей биографии, но и перо. Чернышевский, призывавший поставить искусство на службу общественной пользе (что роковым образом предопределило главные убожества «социалистического реализма»), антипатичен Набокову, понимавшему искусство, литературу прежде всего как область человеческой свободы. «Прогрессивность» может быть такой же тоталитарной, как и реакционность, – и Чернышевский становится тому примером.
Чернышевский, как известно, ратовал за материализм, честность, дельность, практическую пользу – и боролся с «чистым искусством». Набоков пишет, что «Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном (т. е. в антиискусстве), с которым и воевал – поражая пустоту». А воевал Чернышевский ровно с тем, что сейчас называется «глянцем» и «гламуром». «И действительно: как же не предпочесть всему этому вздору честное описание современного быта, гражданскую горечь, задушевные стишки?»
Казалось бы, Чернышевский не последний писатель, автор знаменитого романа «Что делать?», оказавшего громадное влияние на русские умы. Набоков видит коренной порок Чернышевского в его литературном стиле: громоздком, неуклюжем. Чернышевский лишен дара описания, «схватывания» вещи в словах, и потому все, о чем он пишет, застревает в тексте, буквально валится у автора из рук. Набоков подмечает пристрастие Чернышевского к планам помещений, где происходит действие его прозы, к мучительному определению взаимного расположения героев и предметов обстановки. Этот косный стиль суть точный слепок мышления Чернышевского – мышления материалистического, при том, что Чернышевский на самом деле не видел в упор роскошного разнообразия материального мира. «Чернышевский объяснял: „Мы видим дерево; другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь такое же. Итак, мы все видим предметы как они действительно существуют“. Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у „материалистов“ апеллирование к дереву особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности деревья. Тот осязаемый предмет, который „действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем“ (…), им просто неведом».
Не забудем, что сам Набоков в своей прозе всегда опирался на точное знание – не только мира бабочек, но на знание естественнонаучное, на знание вообще всей окружающей человека предметности: у него не было «вообще деревьев», «вообще домов», «вообще автомобилей». Именно зрячесть Набокова, противоположная слепоте Чернышевского, позволяла ему добираться до метафизических глубин бытия.
Чернышевский у Набокова не только литературный инвалид, но и пошляк. Чего стоят сцены изучения в витринах Невского проспекта «женских головок» – «глянцевых» картинок, которые молодой Чернышевский сравнивал с красотой Надежды Егоровны Лободовской, предмета своей сложно-рассудочной влюбленности! Разумеется, реальность виделась Чернышевскому лучше и милее «искусства»! «Смело можно сказать, что в те минуты, когда он льнул к витрине, полностью создалась его нехитрая магистерская диссертация „Эстетические отношения искусства к действительности“», – пишет Набоков, сам понимавший эти отношения как со-природность и со-творчество (см. выше). Показательно, что Набоков определяет взгляды Чернышевского через ту же рекламу – и не промахивается: «Такие средства познания, как диалектический материализм, необыкновенно напоминают недобросовестные рекламы патентованных снадобий, врачующих все болезни».
Однако, как это всегда случается с большими писателями, Набоков в прозе заходит дальше, чем, возможно, собирался изначально. Чернышевский, будучи по дерзкому замыслу фигурой комической, постепенно становится фигурой трагикомической, а затем и трагической: «…такова уж была судьба Чернышевского, что все обращалось против него: к какому бы предмету он ни прикасался, и – исподволь, с язвительнейшей небрежностью, вскрывалось нечто совершенно противное его понятию о нем. Он, скажем, за синтез, за силу тяготения, за живую связь (читая роман, в слезах целует страницу, где к читателю воззвал автор), а вот готовится ему ответ: распад, одиночество, отчуждение. Он проповедует основательность, толковость во всем, – а точно по чьему-то издевательскому зазыву, его судьбу облепляют оболтусы, сумасброды, безумцы. За все ему воздается „отрицательной сторицей“, по удачному слову Страннолюбского, за все его лягает собственная диалектика, за все мстят ему боги…» И вот уже Чернышевский летит по Петербургу «аллюром бедных гоголевских героев», вот он уже напоминает читателю Евгения из пушкинского «Медного всадника». Арест, заключение в Алексеевский равелин, гражданская казнь, каторга; сам мозг Чернышевского превращается в «каторжный завод». И получается так, что Набоков принужден высшей художественной логикой признать масштабность личности Чернышевского: «Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий почерк (…) – и давно не испытанное, чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас».
Еще одна тема «Дара» и важнейшая тема всей прозы и всей жизни Набокова – шахматы. В Монтре, в отеле «Палас», Набоков жил в номере 64 – по числу клеток на шахматной доске. Главный роман Набокова, посвященный шахматам, шахматному мышлению, называется «Защита Лужина». Там шахматы воплощают поступь рока, силы судьбы. В «Даре» Годунов-Чердынцев занимается, как бы на полях своей основной жизни, шахматной композицией. «Начиналось с того, что, вдали от доски (как в другой области – вдали от бумаги) и при горизонтальном положении тела на диване (т. е. когда тело становится далекой синей линией, горизонтом себя самого), вдруг, от внутреннего толчка, неотличимого от вдохновения поэтического, ему является диковинный способ осуществления той или иной изощренной задач-ной идеи (…). Некоторое время он с закрытыми глазами наслаждался отвлеченной чистотой лишь в провидении воплощенного замысла; потом стремительно раскрывал сафьяновую доску и ящичек с полновесными фигурами, расставлял их начерно, с разбега, и сразу выяснялось, что идея, осуществленная так чисто в мозгу, тут, на доске, требует – для своего очищения от толстой резной скорлупы – неимоверного труда, предельного напряжения мысли, бесконечных испытаний и забот, а главное – той последовательной находчивости, из которой, в шахматном смысле, складывается истина. Соображая варианты, так и этак исключая громоздкие построения, кляксы и бельма подспорных пешек, борясь с побочными решениями, он добивался крайней точности выражения, крайней экономии гармонических сил».
Вот столь же образная и точная картина шахматного творчества, какой была картина поэтического творчества в приведенной выше цитате. По Набокову, шахматы и поэзия связаны между собой – это, на самом деле, два пути развития одних и тех же способностей. Любопытно, что в детстве Набоков обладал и ярко выраженными способностями к математике – внезапно утраченными во время болезни. Можно вообразить, что, не случись той болезни, мы бы имели сейчас художественную картину творчества математического – растущего из того же корня, что поэзия и шахматное композиторство.
Какой же роман без любви? «Дар» особенно драгоценен тем, что в нем зафиксирована, близко к тексту жизни, история встречи Владимира Набокова и Веры Слоним. В романе будущая жена писателя носит имя Зины Мерц. «Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их».
Брак Владимира и Веры Набоковых был для писателя защитой, крепостью. Женившись на Вере, Набоков словно бы освободился от житейской суеты для творческого рывка. То же самое произошло и с Годуновым-Чердынцевым: встретив Зину, он по-настоящему «расписался» – пошли новые стихи, стала возможна книга о Чернышевском. И это при том, что отношения Годунова-Чердынцева и Зины долгое время (собственно, до конца романа) ограничивались тайными ночными прогулками. Зина была дочерью квартирной хозяйки Годунова-Чердынцева, вышедшей, после смерти первого мужа, Оскара Мерца, за пошляка и антисемита Щеголева; атмосфера в этом семействе была такова, что любое сближение жильца с хозяйской дочкой на территории квартиры превращалось в «шашни». Требовалось сложное стечение обстоятельств (получение Щеголевым представительства в Копенгагене, отъезд его с супругой, невозможность для Зины сразу уехать с семьей), чтобы счастье влюбленных наконец осуществилось.
Странная особенность «Дара» заключается в том, что главная героиня – Зина Мерц – появляется чуть ли не в середине романа. На самом деле Зина появилась гораздо раньше – как и Вера Слоним появилась в судьбе Набокова прежде, чем писатель встретил ее на благотворительном балу. Вера Слоним, подобно комете, несколько раз проходила близко от Набокова, их встреча могла состояться гораздо раньше: будто сама судьба разными способами устраивала свидание, но всякий раз что-то срывалось. То же самое происходило и у Зины Мерц с Годуновым-Чердынцевым. Буквально на первых страницах «Дара» появляется чета Лоренц, вселяющаяся в тот же пансион, куда и Годунов-Чердынцев недавно переехал: главный герой видит, как разгружают их мебель. «Идея была грубая: через жену Лоренца познакомить меня с тобой, – а для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но тут-то судьба и дала маху: посредник был взят неудачный, неприятный мне, – и получилось как раз обратное: из-за него я стал избегать знакомства с Лоренцами, – так что все это громоздкое построение пошло к чорту, судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились». Во второй раз Годунову-Чердынцеву предложили помочь незнакомой барышне с переводом документов – а эта барышня и была Зина. Но опять не вышло: Годунов-Чердынцев, хоть и нуждался в деньгах, ненавидел заниматься переводами на немецкий. Тогда судьба «решила бить наверняка»: прямо вселить героя в квартиру, где жила Зина. Но случилось так, что Зины в момент осмотра сдаваемой комнаты не было дома, а был как раз пошляк Щеголев, во всей красе. Но судьба нашла выход из неловкого положения: «У дальнего окна, где стояли бамбуковый столик и высокое кресло, вольно и воздушно лежало поперек его подлокотников голубоватое газовое платье, очень короткое, как носили тогда на балах, а на столике блестел серебристый цветок рядом с ножницами». Именно это платье – знак присутствия Зины – и побудило героя все-таки снять комнату. Потом оказалось, что платье принадлежало не Зине, а ее двоюродной сестре. Таким образом, судьба «…начала с ухарь-купеческого размаха, а кончила тончайшим штрихом».
Художественная работа судьбы, ее прихотливые узоры привлекают Набокова и его героя. В конце «Дара» Годунов-Чердынцев задумывает роман, который в реальности становится «Даром» Набокова. Таким образом, конец превращается в начало. «Продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка», – так, онегинской строфой, завершается роман.
Всякий роман есть сложное сплетение сюжетных и тематических линий. Автор плетет эту «косу», забирая самые разные «пряди», казалось бы, далекие одна от другой, – но в результате получается слитное целое, и задним числом умный читатель понимает, что финал обогащает начало. «Дар» Владимира Набокова, как и все другие его книги, надо не просто читать, но перечитывать. С каждым разом отдача от книги становится все больше. Не надо бояться длинных предложений, других стилистических сложностей: стоит адаптироваться, настроить слух и глаз, как все сложности растворяются, и остается чистое удовольствие от этой по-настоящему большой литературы.
«Раз художник использовал воображение при создании книги, то и ее читатель должен пустить в ход свое – так будет и правильно, и честно», – утверждал Набоков в своих лекциях, которые он читал американским студентам и которые были опубликованы уже после смерти писателя. Воспримем эти слова Набокова как руководство к действию, как «инструкцию по применению» его стиля и его книг.








