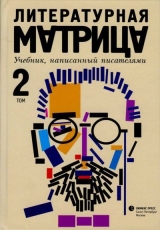
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Автор книги: Андрей Рубанов
Соавторы: Людмила Петрушевская,Дмитрий Быков,Роман Сенчин,Максим Кантор,Александр Кабаков,Павел Крусанов,Ольга Славникова,Александр Етоев,Герман Садулаев,Мария Степанова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц)
А большевиков он выбрал лишь потому, что их программа переустройства мира была наиболее безжалостной и радикальной – вплоть до буквальной «переплавки» человеческого «материала» (их термины!) из социально опасной в социально полезную субстанцию. Разумеется, представления о целях этой переплавки у романтика-идеалиста, стихийного ницшеанца Горького и у прагматиков-большевиков расходились радикально, но в отрицании существующего порядка вещей и в мысли о необходимости коренной переделки самого человека они с Лениным, Дзержинским и Троцким сходились вполне. Ведь и сама по себе русская революция – отбросим ложные представления о ней – далеко не сводилась к социальному переустройству: с этим справилась бы и Парижская коммуна, если б ей повезло чуть больше. Целью революции утверждалось создание нового человека, лишенного социального эгоизма, собственнического инстинкта, религиозного чувства в его архаическом, трусливо-рабском варианте. Сверхчеловек – вот истинная цель мирового экономического и социального переустройства; Горький пришел к этой идее еще до того, как прочел и полюбил Ницше, поскольку идея носилась в воздухе.
Конец XIX века обозначил предел традиционной морали и классических представлений о мире. Перед человечеством распахнулись небывалые горизонты: физики заговорили об «исчезновении материи», Эйнштейн корректировал ньютонову механику, утверждая кривизну пространства и относительность времени, эволюционная теория ставила во главу угла «борьбу за существование», марксизм обосновывал обреченность буржуазного уклада, христианская картина мира трещала по швам, декаденты кричали об усталости и кризисе европейской культуры – все трепетало на пороге великих перемен, обещавших, как сказано в Апокалипсисе, «новое небо и новую землю». Чем все это обернулось, потомки знают, но для конца Золотого века, как назовут потом XIX столетие, тезис о смерти Бога и рождении сверхчеловека был актуальнее прочих. Горький и казался провозвестником этого нового человека, и именно с этим была связана его всемирная слава. Его литература воспринималась как обещание сверхчеловечности – именно это, а не банальный социальный пафос, сделало его пророком общеевропейского, а затем и мирового значения. Именно это и предопределило закат его славы сегодня.
Что, в сущности, произошло? Обещанный сверхчеловек явился – сначала в коммунистическом, затем в фашистском варианте; произошла их схватка, одному, к счастью, стоившая жизни, а другого высоко вознесшая, но и серьезно надломившая. Один сверхчеловек – коммунистический – был выведен модернистами, отрицавшими все имманентности [56]56
Имманентность (лат.immanens (immanentis) – свойственный, присущий) – здесв:то, что является непременным, обязательным. – Прим. ред.
[Закрыть]вроде Родины, нации, даже и пола; другой – фашистский – адептами архаики, превыше всего ставившими эти самые имманентности, «кровь и почву». Оба погибли, и весь XX век в истории оказался скомпрометирован, ибо ушел на демонстрацию гибельности ложных посылок. Но значит ли это, что мечта о новом человеке – о выведении нового биологического типа, о преодолении самой человеческой природы, мечта Горького и Ницше, Уайльда и Жида, Гамсуна и Стриндберга, Блока и Маяковского, Твена и Хемингуэя – должна забыться, как страшный сон? Да нет, разумеется; исчерпанность прежнего мироустройства была очевидна уже современникам молодого Горького, иначе он не стал бы первым писателем в России, а ведь всего лишь заговорил об этой исчерпанности громче и радикальнее Толстого. (Строго говоря, все идеи горьковского богостроительства – о чем ниже – уже содержатся в проповеди Толстого, и не зря совсем юный Горький в 1889 году пришел к Толстому за «землей и правдой», да не застал – Толстой как раз пешком ушел из Тулы в Москву; Толстой потому и недолюбливал Горького, что увидел в нем прямой результат собственной проповеди – и этого результата испугался. Он все-таки не доходил до отрицания самой человеческой природы, а тут перед ним был Другой Человек, готовый начать мир с нуля. Между тем почти все взгляды Горького – особенно беспощадное отрицание государства в его нынешнем виде – вполне совпадают с тем, что поздний Толстой проповедовал как само собой разумеющееся).
Ситуацию конца XX века честнее всех отрефлексировал и обозначил великий христианский мыслитель Сергей Аверинцев, сказавший: «Двадцатый век скомпрометировал ответы, но не снял вопросы». Будут ли предприниматься новые попытки перерасти человеческую природу? Разумеется, будут, как же без этого. Будет ли человек стремиться к сверхчеловечности как новой эволюционной ступени? Куда же денется, он для того и задуман. «Трудно стать богом», но другого выхода нет – иначе станешь скотиной, и история человечества доказала это с предельной наглядностью. Можно сколько угодно стращать человека результатами фашистского и коммунистического экспериментов, можно даже ставить их на одну доску – что не только аморально, но и антинаучно, поскольку генезис их диаметрально противоположен, да и сходство результатов весьма относительно; но пафос пересоздания человека, его преодоления («Человек есть то, что должно быть преодолено», по Ницше), неизменно будет сопутствовать человечеству, если оно не откажется от самой идеи развития. И Горький будет его спутником на этом пути, ибо благородная горьковская ненависть к страданию и вера в высокое предназначение самой человеческой природы, бесстыдно искажаемой взаимным мучительством, достойны благодарной памяти вне зависимости от того, что случилось с миром в XX столетии.
2
Философский замах, как видим, серьезен – посмотрим, насколько он подкреплен художественным результатом; иными словами – в какой степени амуниции соответствуют амбициям.
Фабульная схема большинства горьковских новелл несложна, но оригинальна. Горький и Чехов, разделенные всего восьмилетней разницей в возрасте, демонстрируют два разных подхода к классическим сюжетам и архетипам русской – да и мировой – литературы; заметим, что подходы эти близки, отсюда и неизменная благожелательность Чехова к Горькому (отдельные желчные отзывы о его манерах – не в счет), и преклонение Горького перед старшим коллегой. Чехов отчасти напоминает своего Лопахина, сына крепостного (как и он сам), который скупил вишневый сад русской литературы лишь для того, чтобы его вырубить. Почти все русские сюжетные схемы он выворачивает наизнанку. Фабула дочехов-ских текстов русской литературы обычно сводится либо к стремлению и достижению, либо к стремлению и катастрофе, либо, наконец, к стремлению, достижению и потере (так Акакий Акакиевич потерял свою шинель). Чехов придумал новый метасюжет: стремился, мучился, достиг – а толку? Чиновник мечтал заиметь крыжовник – и заимел, но на этом пути потерял себя, уморил жену, да вдобавок, когда принесли ему тарелку ягод, оказалось «жестко и кисло». Анна из «Анны на шее» получила заслуженное счастье – успех, всеобщее обожание и власть над мужем, – но утратила все человеческое и предала старика отца. «Попрыгунья» Оленька мечтала не зависеть от мужа и свободно предаваться любви, искусству, прочим богемным радостям – и пожалуйста, Дымов умер, да только сама она никому даром не нужна. Все герои Чехова получают желаемое – но в таком виде, что лучше бы не;со счастьем в процессе его достижения что-то успевает произойти. И сама русская жизнь так выродилась, что при попытке воспроизвести собственные сюжеты неизбежно сворачивает на пародию, как дуэль фон Корена и Лаевского в «Дуэли» (интересно, что здесь в пародируемую дуэль Базарова с Павлом Кирсановым вмешался новый персонаж – дьякон; вот на кого была у Чехова надежда). Поистине, даже Лопахин, ставший наконец владельцем вожделенного вишневого сада, может сделать с ним только одно – уничтожить. С русской реальностью – да и словесностью – Чехов обошелся жестоко, а нового человека, который бы на месте русской пошлости выстроил другой мир, без унижения и праздности, не видел, в чем многократно признавался. Даже чистый студент из «Припадка» вряд ли годится на эту роль – что уж говорить о чахоточном и чересчур занудливом Саше из «Невесты»?
Горький этого нового человека видел, хотя искал его, прямо скажем, в непривычной среде – среди босяков. Интерес его к «бывшим людям» диктовался, конечно, не только знанием «низов» – он и «верхи» знал прилич но, поскольку потерся и среди купечества, а впоследствии и среди аристократии, однако изображать предпочитал либо «придонный слой», либо людей, выпавших из своей социальной страты [57]57
Страта (лат.stratum – слой) – слой, группа людей, выделяемая по какому-либо общему признаку (имущественному, профессиональному, религиозному и т. п.). – Прим. ред.
[Закрыть], как возненавидевший купечество богатый наследник Фома Гордеев. «Бывшие» или «выпавшие» – те, кто не вписался в существующую иерархию, а значит – именно они люди будущего. Кстати, этот же материал для буквальной «перековки» и «переплавки» Горький надеялся увидеть – и думал, что увидел, – на Соловках, в Куряжской коммуне Макаренко, на Беломорканале; отсюда же его многократно осмеянные – и действительно смешные и отвратительные – слезы умиления при виде чекистов-«перевоспитателей». «Бывшие» – те, из кого возникнет будущее; не отверженные, но отвергнувшие. Вот почему горьковские босяки так победительны и триумфальны, вот почему в уста опустившегося Сатина вложен пылкий монолог о лжи («религия рабов и хозяев») и правде («бог свободного человека»). Тут срабатывает замечательный драматургический контраст, яркий театральный прием, тем более действенный, что нащупанный стихийно: в театре всегда хорошо, когда падшие воспаряют, а неправедно возвысившиеся низвергаются; но штука в том, что Горький-то все это писал всерьез, без расчета на внешние эффекты. Ему не смешно и не грустно, когда босяк Сатин, бывший телеграфист, а ныне алкоголик и ночлежный завсегдатай, произносит филиппики [58]58
Филиппика– гневная обличительная речь, выступление против кого– или чего-либо. (От названия резких политических речей древнегреческого оратора Демосфена против царя Филиппа Македонского.) – Прим. ред.
[Закрыть]в адpec утешителей и провозглашает заповеди нового мира. Для него это нормально – кому же еще и говорить о будущем, как не человеку, который отверг мир и опустился на дно, где все, по крайней мере, честно и законы устанавливаются стихийно? Горький искал свободного человека – и нашел его в одесском порту, в ночлежке, в бесклассовом обществе вольных бродяг, философов и пьяниц. Они у него умнее, радикальнее и привлекательнее социал-демократов, студентов, книжных людей – которые народа не знают, а главное, слишком зависят от собственных предрассудков. Начинать – так с нуля; пересоздавать мир – так с босяка.
Отсюда же и горьковская сюжетная схема: он не выворачивает традицию наизнанку, а просто идет чуть дальше, продолжает там, где предшественник ставит точку. Возьмем для наглядности малоизвестный, но яркий рассказ «Как поймали Семагу», из ранних, самарского периода (1894), но уже мастеровитый. Вор Семага бежит от облавы, новдруг находит в снегу жалобно пищащего подкидыша. Дите замерзает, требует еды, и в отчаянной надежде спасти его Семага приходит в участок – вот, берите меня, только спасите ребенка. Сентиментальный народник или иной дежурный автор святочной беллетристики тут бы и остановился, но Горький идет дальше – и потому он Горький, а не рядовой самарский журналист: пока Семага нес ребенка в участок, дите задохлось. Он его в буквальном смысле задушил в объятиях. То есть и подвиг его был напрасен, и – здесь возникает подспудный, особенно важный второй смысл рассказа – есть люди, решительно не рожденные делать добро: оно у них не получается. Попытки злодея «исправить карму» приводят лишь к гибели самого злодея (этот второй смысл породил множество удачных, хоть и не бесспорных художественных высказываний, вплоть до фильма Иствуда «Непрощенный»). Горький не выворачивает, а «доворачивает» сюжет – впрочем, на «повороте винта» и держится все искусство XX века. Возьмем «Челкаша» – рассказ, с которого Горького стали знать и печатать в столицах: там вообще несколько финалов. У портового босяка и вора Челкаша, собиравшегося ночью в обход таможни переправить на берег кое-какую контрабанду, – беда с напарником: он сломал ногу, а одному трудно управляться с лодкой. Он берет в напарники простого крестьянского парня Гаврилу, совершенного теленка, который во время «дела» страшно робеет, едва не запарывает всю операцию, но все заканчивается благополучно благодаря ловкости и опытности Челкаша. Герои делят выручку. (Заметим отличное описание фосфоресцирующего августовского моря, данного глазами двух героев: Челкаш любит эту «бескрайнюю, темную и мощную» стихию с ее фосфорическим блеском – Гаврила панически боится и бескрайности, и таинственного свечения.)Далее Тавриланостальгически вспоминает деревню, Челкаш разжалоблен этим и дает ему больше, чем обещал. Гаврила на радостях признается, что хотел ночью вообще порешить Челкаша, чтобы отобрать у него все: ведь он – не крестьянин, не труженик, без земли, ни к чему не привязан, «сам себе человек»… Взбешенный Челкаш принимается душить Гаврилу и отнимает у него все: первый финал. Гаврилу жалко – распустил губы, связался младенец с чертом; Челкаш предстает жестоким и циничным преступником. Видя, однако, как убивается Гаврила за отнятые деньги, Челкаш бросает ему всю выручку: нешто можно за деньги, за бумажки так себя терзать?! Он поворачивается и уходит. Раздавленный и оскорбленный Гаврила вслед ему бросает тяжелый камень, попадает в голову (рана, судя по описанию, серьезная). Челкаш приходит в себя от того, что его лихорадочно трясет раскаявшийся Гаврила: он умоляет о прощении, кается, что из-за денег чуть не пошел на убийство… Третий финал. Четвертый, однако, еще сильнее: не забудем, что в сцене участвуют три героя – Гаврила, Челкаш и выручка. Деньги ни на минуту не ускользают от авторского внимания: Челкаш берет себе одну радужную бумажку (четвертной), прочее же всучивает Гавриле. И Гаврила, раскаявшийся, – берет, а Челкаш презрительно уходит, и набухающая кровью повязка на его голове похожа на турецкую феску.
Горький последовательно проходит мимо трех мелодраматических финалов, подводя читателя к четвертому – более прозаическому, но и неожиданному, и достоверному; за обоими героями сохраняется правота, каждый использовал свой шанс на благородство, однако моральная победа, безусловно, за Челкашом: он ни к чему не привязан, ничего не боится, а потому свободен. Что образцом морали оказывается именно вор – позиция принципиальная: его нравственность выше законопослушности («или по крайней мере совсем иное дело», по-пушкински говоря). Отметим важную черту Горького: он вообще недолюбливает «людей труда» и терпеть не может физический труд как таковой – скучный, нетворческий; не потому, кстати, что не умеет работать, – умеет, всякое дело у него ладилось, а физической силой он был наделен такой, что до десяти раз неспешно крестился пудовой гирей; попробуйте, это трудно. Горький считал физический труд проклятием человека и называл лицемерием любую попытку опоэтизировать его (как и страдание): ни на одной работе, кроме журналистской, он не задержался. К крестьянству, занятому этим непосильным трудом постоянно, он относился недоверчиво, не без оснований считал крестьянский быт зверским, крестьянскую мораль – бесчеловечной, а Россию как страну преимущественно сельскую всегда подозревал в избыточной жестокости. Его статья «О русском крестьянстве» полностью была издана в России лишь в 2008 году – до того выходила только в 1923 году в Берлине.
Если ранний Горький пытался найти выход в открытой войне с обществом или, по крайней мере, в том, чтобы с ним порвать и вести маргинальное, «внезакон-ное» существование, – поздний, разбогатевший и несколько остепенившийся, видел панацею исключительно в культуре, и этот подход к формированию нового человека не в пример более реалистичен. Меняются и горь-ковские фабулы, хотя главный принцип сюжетострое-ния – «довернуть» винт там, где предшественники Горького остановились бы, – остается неизменен. Правда, новелл у Горького в это время все меньше: между тем он прежде всего отличный рассказчик, новеллист по призванию, в этом бы жанре ему работать и работать, – но вернулся он кновелле только в эмиграции, выпустив первоклассный сборник «Рассказы 1922–1924 гг.», в котором он, по собственному признанию, заново учился писать, чтобы приступить к главным книгам («Делу Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина»). Повести Горького малоудачны в большинстве своем, поскольку представляют собою цепь хаотически нанизанных эпизодов, без внятного сквозного сюжета: иногда, если вещь остается в рамках этнографического очерка, ее спасает знание материала, эмигрантская тоска по русскому быту, опоэтизированному, скажем, в «Городке Окурове» (Чуковский вообще считал его лучшей вещью Горького); но чаще – как в «Лете», «Троих», «Жизни Матвея Кожемякина» – доминирующей читательской эмоцией остается скука. Людей много, от них тесно, и все они здесь – непонятно зачем. Единственные герои, которые взрывают эту скуку и приносят в жизнь свет и смысл, – не революционеры, как может подумать читатель, испорченный советскими штампами, а прежде всего люди искусства либо стихийные светочи народной веры, сектанты.
К сектантам Горький относился с глубоким интересом и, пожалуй, с любовью: не любя официозного православия, он искренне верил в то, что новую народную веру еще предстоит создать, и сам предпринимал определенные усилия на этом пути. Одна из лучших его повестей – «Исповедь» (1908), в которой – не без лесковского влияния, справедливо отмеченного Святополк-Мирским в трезвом, хоть и чересчур язвительном очерке о Горьком, – обосновывается богостроительская идея. Бога еще нет, но он должен быть; люди создадут его коллективным усилием, ибо Бог, по определению Горького, – «идея ограничения животного эгоизма». Такой Бог, хотя бы и рукотворный, вызвал бешенство Ленина, который ненавидел религию глубокой личной ненавистью последовательного материалиста, верящего только в классовую мораль и идеологические закономерности; это нормальная ненависть плоскости к объему. Каприйская школа Горького, развивавшая идеи рукотворной религии и «социализма с человеческим лицом», была раздавлена Лениным – большинство рабочих-активистов он переманил к себе в Лонжюмо, где тоже учил, но уже без всякой религии; религия у него была одна – борьба, и Горький в десятые годы с ним из-за этого крепко ссорился, но никогда не рвал до конца. Они были друг другу необходимы: Ленин понимал, что поддержка Горького, который был крупнейшим моральным авторитетом в России и Европе, способна придать большевикам необходимый вес, – а Горький интуитивно чувствовал, что из всех политических сил России будущее есть, пожалуй, только у большевиков, поскольку в стране, где закон никогда не работает, побеждают те, у кого меньше моральных ограничений.
В рамках этой сугубо религиозной, богостроительс-кой парадигмы следует рассматривать и поднятый на щит советским литературоведением, но совершенно забытый ныне роман «Мать» – книгу о том, как жестокого к людям, несправедливого, безнадежно постаревшего Бога-отца должно сменить новое божество, женственное, милосердное. Ниловна и Вечная Женственность Гете и Соловьева – вовсе не столь далекие понятия, как может показаться поверхностному читателю; Бог-отец забыл о мире, Бог-сын предан на смерть (Павел Власов идет на каторгу) – остается Мать, страдалица, искупи-тельница, прозревшая продолжательница сыновнего дела. «Мать» – не только попытка нового Евангелия, как отмечалось многими постсоветскими интерпретаторами; это прежде всего эскиз новой картины мира, в котором женщина, носительница сострадания, нежности, но и особенно безоглядной смелости, редко свойственной мужчинам, – становится главной опорой мира, залогом его спасения. «Душу воскресшую – не убьют!» – этот финал книги, кажется, не вызовет возражений и у того, кто терпеть не может Горького-писателя: в новом мире должны жить воскресшие души, прошедшие через очистительное пламя борьбы, отчаяния, безнадежного протеста: иначе никакой новизны не будет. Популярность «Матери» в рабочей среде проистекала именно от того, что Горький работал с родными, хорошо усвоенными религиозными архетипами; «Мать» – утопия нового мира, хотя и написанная с тем выспренним пафосом, который и в «Сказках об Италии», и в прозаических поэмах вроде «Человека» никогда Горькому не удавался. Как изобразитель кошмарного и отталкивающего он не в пример сильнее – трудно найти во всей его прозе хоть один яркий портрет красивой женщины, зато уродств – сколько влезет. Правда, иногда удается ему пейзаж – но чаще бурный и мрачный, нежели идиллический: ночное море в «Челкаше» убедительнее знаменитого смеющегося моря в «Мальве».
Любовь к сектантам и сектантству – творческой, артистической, народной вере – сохранилась у Горького до старости: обаятельного учителя народной веры вывел он в «Отшельнике», открывающем щикл поздних новелл (в последней новелле цикла, «Рассказ о необыкновенном», классический большевик, радикальный упроститель мира, этого отшельника убьет – и замысел заколь-цуется). В «Жизни Клима Самгина» среди противопоставленных Самгину героев не последнее место занимает хлыстовская богородица Марина Зотова – описывая радение, Горький не столько ужасается, сколько любуется. Однако истинной панацеей от зверства и скуки жизни он считал в зрелости главным образом культуру, которую обожествлял не только в духовных, но и в материальных проявлениях: коллекционировал китайские вазы, отлично знал книгоиздание и собирал редкие книги, обожал изделия экзотических промыслов. Эта черта – любовь к материальной культуре, сбережение ее – отличает интеллигентов в первом поколении и порой выглядит отталкивающей, но в случае Горького оказалась спасительной для множества усадеб, дворцов и прочих культурных памятников, которые он защищал от варварского разорения. И при советской власти, после возвращения из эмиграции, он многое сделал для того, чтобы большевистская культура постепенно отбросила классовый подход и научилась ценить богатства мирового духа вне зависимости от того, процветал или бедствовал их творец. Создавая бесчисленные издательства и книжные серии, Горький своего добился: Советская Россия была страной жестокой, несвободной, во множестве отношений нерациональной и попросту непригодной для жизни – но культурной, этого не отнимешь. Культура – единственный путь к сверхчеловечности, как понимал ее Горький в конце жизни; она же казалась ему и альтернативой фашизации Европы, ибо в фашизме он – не без оснований – видел главную угрозу столетия.
Что до его собственно художественных способностей – в их оценке критики традиционно расходятся, причем значительный диапазон наблюдается иногда в писаниях одного и того же автора: Чуковский то издевался над Горьким, замечая, что все его тексты словно разграфлены на две половины (слева «ужи», справа «соколы»), то восхищался точностью и богатством деталей, скупостью и выпуклостью письма. Гиппиус то хоронила Горького, то – после «Исповеди» – провозглашала далеко еще не исписавшимся и многообещающим; Ленин то негодовал, то восхищался – и дело тут далеко не только в политике: был у него и художественный вкус, хоть и узковатый, и он справедливо замечал, что герои «На дне» говорят и думают не так, как реальные ночлежники, а уж артисты МХТа и вовсе не похожи на людей дна. Несколько вещей, однако, остаются бесспорными: Горький – мастер динамичного сюжета, замечательный портретист, способный несколькими штрихами изобразить героя точнее и убедительнее, чем умели в большинстве своем его современники. Всех видно. Сложнее обстоит дело с диалогом – речь большинства героев Горького похожа на его авторскую, с изобилием тире и сильных, пафосных выражений; даже Толстой у него смахивает на Горького, хотя слышен за авторским баском и суховатый, дробный, язвительный толстовский говорок. Горький – превосходный сатирик, автор исключительно смешного цикла «Русские сказки», да и в рассказах его (особенно в устных, записанных мемуаристами) много жестокого, черного, иногда абсурдного юмора. Чернее всего он в замечательной книге «Заметки из дневника. Воспоминания», где перед глазами читателя проходит галерея безумцев, фанатиков, идиотов – но и святых, и мечтателей, и самородных гениев. Публицистика Горького почти всегда удачна и во многом сохранила актуальность – это касается не только «Несвоевременных мыслей», в которых Горький вполне адекватно оценивает февральскую революцию как торжество энтропии [59]59
Энтропия (греч.en – «в, внутрь» + thrope – «поворот, превращение») – здесь:такое состояние системы, которое характеризуется неупорядоченностью, хаотичностью ее частиц, вследствие чего все процессы в ней протекают самопроизвольно. – Прим. ред.
[Закрыть], но и очеркового цикла «По Союзу Советов», и весьма интересной статьи «Две души» (о европейском и азиатском началах русской ментальности), и даже пресловутых заметок «О мещанстве» и «О черте», где автор обрушивается на обывателя с истинно челкашьей злостью. Все это не означает, что идеи Горького следует принимать как руководство к действию. Их надо принимать к сведению – и особенно во времена, когда скотское состояние объявляется единственно достойным, а любая попытка переустройства мира, по мнению большинства, приводит к колючей проволоке. Горький-публицист – отличный писатель для тех, кто утратил смысл жизни и боится назвать вещи своими именами. На его идеях радикального переустройства жизни выросли отнюдь не последние русские писатели, одинаково далекие и от христианской, и от атеистической традиции: это, в первую очередь, Варлам Шаламов, унаследовавший у Горького многие взгляды (например, о физическом труде как проклятии, о культуре как единственной альтернативе зверству), а отчасти и Леонид Леонов, в «Пирамиде» прямо говорящий о необходимости пересоздать и общество, и самого человека.
3
Что стоит читать у Горького?
Условимся, что речь у нас не о программе, а о самообразовании, выборе для личного пользования; Горький – писатель полезный, в том смысле, что учит – как всегда и мечтал – деятельному отношению к жизни. Проповедь терпения он яростно отвергал как вредную в российских условиях. Горький мастерски вызывает отвращение, презрение, здоровую злобу – разумеется, у читателя, который вообще способен выдержать такую концентрацию ужасного. Это писатель не для слабонервных, но тем, кто через него прорвется, он способен дать мощный заряд силы, да, пожалуй что, и надежды: все по его любимцу Ницше – «что меня не убивает, делает меня сильнее».
Из раннего, пожалуй, стоит читать почти все, за исключением весьма наивных аллегорий и так называемых романтических рассказов вроде «Старухи Изергиль». Впрочем, я посоветовал бы и ее – не ради легенд о Дан-ко и Ларре, а ради исповеди самой старухи, парадоксально сочетающей в себе и гордыню Ларры, и альтруизм Данко. «Однажды осенью», «Супруги Орловы», «Двадцать шесть и одна» – хороши безоговорочно. Горьковская крупная проза – до «Самгина», о чем речь отдельная, – лишена всего того, что делает роман романом: лейтмотивов, музыкальных повторов и чередований, композиционных «сводов» и «замков», которыми так гордился в «Карениной» лучший русский романист Толстой. Лишен Горький и толстовского дара параллельного развертывания нескольких сюжетов – сюжет всегда один, прямой, как дерево, и крутится вокруг протагониста [60]60
Протагонист (греч.protagonistes; protos – «первый» и agonistis – «актер») —здесь:главный герой произведения. – Прим. ред.
[Закрыть]. Если «Мать» – так уж все глазами матери, если «Фома Гордеев» – то все через Фому, и даже если «Трое», то из всех троих автора интересует один Илья Лунев. Это делает романы Горького плоскими, монотонными, механистичными – не сказать, чтобы он не пытался с этим бороться, сочиняя, допустим, «Городок Окуров», где вместо истории очередной неудавшейся жизни предпринята попытка панорамы выдуманного среднерусского города с его ремеслами, поверьями и хроникой, несколько напоминающей щедринскую; критика приветствовала эту попытку отойти от шаблона, но «Окуров» остался в горьковском творчестве отрадным исключением. Лучший его роман – «Жизнь Клима Самгина» – написан точнее, экономнее, чище, в лучших его страницах чувствуется новая, европейская выучка, отход от неряшливого, одышливого многословия русской беллетристики, всегда говорящей словно сквозь бороду или с полным ртом; однако композиционный механизм этой прозы остается удивительно примитивным – протагонист никуда не девается, мы так и смотрим на мир его глазами, и внутренний мир прочих героев – Лютова, Макарова, Туробоева, Варвары, прелестной Лидии Варавки – остается нам недоступен, в лучшем случае он реконструирован недобрым умом Самгина. Что-то есть удивительное в неспособности Горького построить нормальный по-лифоничный роман, в котором слышалось бы несколько голосов сразу; допустим, все герои Достоевского разговаривают одинаково, словно в горячечном бреду, но бред, по крайней мере, у каждого свой, и «Преступление и наказание» – не «Жизнь Родиона Раскольникова», как непременно получилось бы у Горького, а крепкая фабульная конструкция, увиденная с нескольких возможных точек зрения. Горькому до такого многоголосия далеко – он прирожденный новеллист, и потому романы его стоит читать лишь тому, кто прицельно интересуется историей русской литературы или особенностями провинциальной (как правило, приволжской) русской жизни рубежа веков. «Самгина», однако, читать нужно любому, кому интересна русская жизнь (идейная, политическая, религиозная) первых двадцати лет XX века; заклейменный в романе тип интеллигента, чей вечный лозунг «Мы говорили» (цитата из совместной пародийной пьесы Горького и Андреева) безусловно актуален и, пожалуй, бессмертен (почему Горький и не мог закончить роман: Самгин никак не убивался). Вероятно, «Жизнь Клима Самгина» – лучший, самый исчерпывающий в русской литературе текст об этом бесплодном типаже, вечно критикующем всех – исключительно из самодовольства, а не для дела, – но категорически неспособном ничего предложить самостоятельно. Сегодня – время Самгиных, как всегда в эпоху упадка, и чтение этой книги способно сильно утешить читателя; разговоры о скучности и монотонности романа ведутся давно, но слухиэти преувеличены – для подростка «Самгин» вообще кладезь ярких эротических впечатлений, поскольку здесь Горький откровенен как никогда. Вероятно, самая сексуальная героиня русской прозы – Лидия, хотя недурна и Алина Телепнева.
Отдельно стоит сказать о драме «На дне». В русской литературе есть два бесспорных шедевра, вдохновленных не столько даже полемикой с Толстым, сколько личным раздражением против него (при том, что оба автора, и Горький, и Чехов, ставили его как художника бесконечно выше всех – и уж явно выше себя, – а смерти его боялись, как утраты отца, а может, и как утраты Бога, о чем прямо говорили). Речь о «Палате номер шесть» и о пресловутой «ночлежной» пьесе Горького, которая была, пожалуй, даже актом личной мести: первый эскиз пьесы – в которой еще не было никакого Луки, а просто люди дна сначала мучили друг друга в ночлежке, а потом с первым днем весны расцветали и умилялись, – вызвал у Толстого раздражение и непонимание. Зачем на этом фиксироваться, на это смотреть?! Тогда Горький ввел в пьесу «утешителя» – опытного, хитрого старичка, странника Луку, который, по собственному его определению, «утешает, чтобы не тревожили покоя ко всему притерпевшейся холодной души». Такой – холодной и всезнающей – считал Горький душу Толстого, и проповедь его – не столько утешительскую, сколько примирявшую с жизнью – объявлял рабской по сути, лживой, отвлекающей человека от истины и борьбы. В Луке есть толстовские черты – афористичность, лукавство (отсюда и имя), убедительность проповеди, даже, пожалуй, и человечность, ибо ему жалко и Актера, и больную Анну; Лука отважно и весело унижает власть, бесстрашно спорит с нею («Земля-то не вся в твоем участке поместилась, осталось маленько и опричь его») – и вообще он, как и Толстой в изображении Горького, похож не то на хитроватого селянина, не то на древнее языческое божество, маленькое, кроткое с виду, но сильное. Однако проповедь Луки, по мысли Горького, никуда не годится, и он противопоставляет ему Сатина – падшего ангела, просвещенного Челкаша. Сама эта схема сегодня мало кого волнует, но она продуцирует несколько сильных драматургических ходов; мастерство Горького-драматурга здесь особенно очевидно – между Лукой и Сатиным происходит в пьесе всего один незначащий обмен репликами; главные оппоненты не разговаривают, не спорят, практически не пересекаются, спор их – заочный. Удачны тут и прочие персонажи – особенно Бубнов с его отчаянной (и рушащейся в финале) надеждой покинуть «дно». Что до прочих пьес Горького, среди них особенно удачен «Старик» – мрачная, с элементами готики история запоздалого мстителя: тут ярко выведен ненавистный Горькому тип человека, носящегося со своим страданием, уважающего себя именно за него, – сам он отнюдь не думал, что страдания следует носить как медаль, и скорее стыдился негативного опыта, хотя, думается, и себя подчас ловил на преувеличении собственных бедствий и в образе Старика, одержимого местью, отчасти сводил счеты с собой. Эта пьеса увлекательна и остра, есть в ней напряжение и копящийся ужас, но тут как раз не оказалось спасительного «доворота» – фабула разрешается искусственно и преждевременно; думается, он бы еще вернулся к этой идее. Хорош также «Егор Булычов и другие» – сильная пьеса об умирании, об одинокой и трагически мощной фигуре, отважно не желающей мириться с общей участью. Вчитывать в эту вещь классовые мотивы – насчет обреченности российского уклада, насчет революционных перемен и т. д. – не стоит: это попытка свести счеты с собственной смертью. Не зря Горькому незадолго до смерти представлялось, что он «спорит с Богом». О том, насколько плодотворен этот спор, – можно дискутировать, но стоит помнить фразу Ренана о хуле мыслителя, которая угоднее Богу, чем корыстная молитва пошляка.








