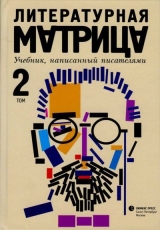
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Автор книги: Андрей Рубанов
Соавторы: Людмила Петрушевская,Дмитрий Быков,Роман Сенчин,Максим Кантор,Александр Кабаков,Павел Крусанов,Ольга Славникова,Александр Етоев,Герман Садулаев,Мария Степанова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
В эпоху, практически современную Маяковскому (плюс-минус десять-пятнадцать лет – срок не принципиальный), появились три произведения, трактующих апостольскую и евангельскую тему весьма серьезно. Это «Двенадцать» Блока, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Доктор Живаго» Пастернака [114]114
Поэма А. Блока «Двенадцать» написана в 1918 г., первая редакция романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» создана в 1934-м, роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» создавался в первое послевоенное десятилетие (1945–1955). – Прим. ред.
[Закрыть].
Великая поэма «Двенадцать» просто объявила случившееся с Россией – Божьим промыслом. Так ясно не написал никто. Блок пишет апостолов Нового времени, персонажей столь же пестрых биографий, как и их исторические прототипы, кои были мытарями и рыбаками. Он пишет их с истовой верой в подлинного Христа и его божественное влияние, то есть в возможность освобождения и преображения для тех, кто сегодня является «падшим». Суть поэмы в том, что святость и служение возникают вдруг – неведомо откуда, когда появляется в них нужда; носителями света могут стать и мытари, и бандиты; собственно говоря, сам апостол Павел до своего обращения был Савлом, гонителем христиан. В дикой холодной России Блок рисует идущего сквозь метель мессию, а бывшие каторжники и бродяги шагают за ним. В сущности, это же, сказал и Маяковский: «мы, / каторжане города-лепрозория, / (…) мы чище венецианского лазорья, / морями и солнцами омытого сразу!» [115]115
24 Из поэмы «Облако в штанах».
[Закрыть]. Но у Блока сказано растерянно-смиренно, а у Маяковского – напористо и грозно.
Булгаков случившееся с Россией Божьим промыслом не считал – совсем напротив. Булгаков просто написал очередное евангелие, противопоставив Завет – окружающей нечисти. «Мастер и Маргарита» есть жизнеописание апостола в условиях советской власти. Евангелист Левий Матвей, евангелист Мастер, как и евангелист Булгаков, демонстрируют крайнюю степень гордого стоицизма; такой евангелист противостоит миру сознательно, не принимает ничего из явленного действительностью и, что бы мир ни сделал с ним, остается верен своей морали. Вокруг мелкие бесы социализма, проныры и прохвосты, но Мастер продолжает работать – он должен выполнить свое предназначение. В пакостной большевистской России Мастер упорно пишет свидетельство о Боге Живом – хотя это уже никому решительно не интересно. Такой апостол с миром не связан непосредственно, влиять на события не может и людей за собой не ведет, но ведь и Иоанн Богослов удалился на остров Патмос, чтобы в одиночестве писать свое Откровение.
Противоположную трактовку образа апостола явил Пастернак. Роман «Доктор Живаго» – это роман о растворении человека в других, это роман о том, как отдельная судьба исчезает, слившись со многими, через сострадание ко многим осознавая и себя, и свой смысл. Герой романа (фамилия Живаго звучит почти как реплика «се человек» [116]116
Се человек (лат.Ессе homo) – этими словами, согласно Евангелию от Иоанна (гл. 19: «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат:се, Человек!»), прокуратор иудеи Понтий Пилат желал возбудить у толпы сочувствие к осужденному. Выражение употребляется как похвала чьим-либо высоким духовным или нравственным качествам. Фамилия Живаго является церковнославянской формой родительного падежа прилагательного «живой» – «сын живого». Сыном Бога Живаго именуют в православных молитвах Иисуса Христа: «Ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго». – Прим. ред.
[Закрыть], как церковное именование Бога Живаго) соединяется с действительностью через любовь – к природе, женщине, ремеслу, долгу, народу. Любовь у Пастернака – это одновременно и скрепа бытия, и едкая субстанция, разъедающая предмет – до полного слияния с окружающим пространством. Личности (тем более Сверхчеловека), дарующей себя людям в качестве жертвы и подвига, – такой личности Пастернак не признавал. Его герой не отдает себя, большого, маленьким людям – напротив, он становится собой, собирает себя в цельный образ только тогда, когда растворяется в других. Так понял служение людям Пастернак и апостола своего написал таким, что сквозь его прозрачную плоть виден пейзаж родного серого края.
Говорить, будто Маяковский провозгласил себя апостолом, а до него и рядом с ним этого никто не делал – недостоверно. Он провозгласил себя апостолом точно так же, как и другие. Просто его апостольство – отличается от пастернаковского или булгаковского. Но не было двух схожих апостолов, и те апостолы, что окружали Христа, не совпадали в своих характерах. Общим для апостолов было лишь одно свойство – бесстрашие. Это свойство действительно достаточно редкое, среди интеллигенции – особенно редкое.
10
Художники XX века, как правило, были воодушевлены испугом. Именно страх за себя и осознание хрупкости своей уникальной личности перед безжалостным Молохом истории – именно этот страх породил Кафку [117]117
Кафка,Франц (1883–1924) – австрийский писатель, главным героем которого является человек, беспредельно одинокий во враждебном ему мире. – Прим. ред.
[Закрыть], Мандельштама и подавляющее большинство авторов. Барственное «я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был» [118]118
Финальные строки стихотворения А. А. Ахматовой «Так не зря мы вместе бедовали…» (1961), ставшие позднее эпиграфом поэмы «Реквием».
[Закрыть]– той же природы. Когда современные исследователи той эпохи употребляют выражение «принял революцию – не принял революцию», они употребляют его как эвфемизм «испачкался – не испачкался», «спрятался – не спрятался». Однако невозможно принять или не принять историю: она, собственно говоря, просто есть – и все. Революция – не кошмарный сон, но историческое событие. Трудно не заметить (или «не принять») тот простой факт, что миллионы людей отказались жить так, как им рекомендовало начальство. Ошиблись ли они, введены ли были во искушение злодеями, но целые массы людей – причем во многих странах сразу – восстали против своего существования, сочтя его гибельным. Первая мировая война убила девять миллионов человек – и люди не особенно понимали, за что их убивают, люди обиделись.
Капиталистическое устройство мира делает одних очень богатыми, а других очень бедными, и люди решили, что это несправедливо. Случилась революция – трудно считать это недоразумением. Можно, конечно, допустить, что интернационалы и коммунистические партии придумал злокозненный Маркс, и постараться не замечать этого безобразия. Но параллельно с коммунистическими стали возникать фашистские партии, в 1920-е годы их уже было много: сперва появились в Англии, затем в Италии, затем в Германии – и далее по всей Европе. Мир пришел в движение, но не потому, что «в Европе холодно», а «в Италии темно» [119]119
См. стихотворение О. Мандельштама «Ариост» (1935): «В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна, как руки брадобрея». – Прим. ред.
[Закрыть], то есть не потому, что сгустились сумерки либерализма, но потому что либерализм оказался инструментом безжалостного начальства, народ в нею не верит, требуется объяснить так называемому «народу» – как жить дальше. Не принять революцию – значит ли это предложить иной выход из сложившейся истории или просто не одобрить случившиеся беспорядки? Разумеется, никакого рецепта по устройству жизни осатаневшей толпы ни один из испуганных поэтов не имел – оставалось лишь спасти себя, сохранить свое существо, не уступить хаосу. Собственно говоря, в те годы литераторам был задан вопрос: «Что есть гуманизм?» И растерялись – не знали, что ответить.
Ответ как-то соткался сам собой. Гуманизм есть защита того лучшего и гуманного, что представлено во мне самом институтом искусства. Приватная позиция даже стала мерой гуманизма – и неучастие в хаосе сделалось обязательным для поэта. Очевидно, что привилегии поэта были укоренены в прежнем порядке вещей, а новый порядок их отрицал или видоизменял. «Напрасно в дни великого совета, / Где высшей страсти отданы места, / Оставлена вакансия поэта: / Она опасна, если не пуста» – так, по слову Пастернака, и происходило. Удержание позиции поэта – в том положении, в каком она существовала в прежние времена – сделалось миссией многих интеллигентов. Эта позиция ничем не плоха, она лишь не предполагает в иных людях – боль и душу, исключает сострадание. Впрочем, трусость и эгоизм, как известно, присущи поэзии. Как говорила Цветаева, «шум времени Мандельштама – оглядка, ослышка труса», однако именно эта вдохновенная позиция испуганного человека внутренне присуща поэтическому дару. Дар бояться – великий дар.
Профессионалами-поэтами ни «Двенадцать», ни «Доктор Живаго» – одобрены не были – прежде всего, из-за предательства профессии. Приводились иные аргументы (о «Докторе Живаго», например, говорили, что это слабый роман, соглашательство с большевиками; что стихи Пастернака лучше, чем проза), но имелось в виду одно – в обоих произведениях устранен иммунитет искусства, привилегии интеллигента отсутствуют. Предлагается разделить жизнь со всеми – а это дико. Принять эти высказывания интеллигентный человек не мог. Роман Булгакова избежал подобной критики, поскольку был напечатан через тридцать лет после написания. А если бы напечатали вовремя, нетрудно вообразить реакцию собратьев по цеху, описанных в виде членов МАССОЛИТа весьма подробно. Герой Булгакова – он даже и не писатель, он – «Мастер», поскольку профессиональное писательство опаскудилось. Причем опаскудилось все – без исключения. Был бы какой-то один хороший поэт, Булгаков описал бы этого хорошего. Так ведь никого нет. Нетрудно предположить, что коллегам данный подход к литературе не близок.
Еще суровее осужден коллегами «певец революции» Маяковский, который раньше «пел Летучим голландцем» [120]120
Из стихотворения Б. Пастернака «Маяковскому» (1922): «Вы заняты нашим балансом, / Трагедией ВСНХ, / Вы, певший Летучим голландцем / Над краем любого стиха». – Прим. ред.
[Закрыть], а нынче «с прописями о нефти». Этот вообще приравнен к комиссарам, ему вменили оправдание жестокостей времени. Маяковский действительно считал, что ради счастья миллионов многим можно пожертвовать – данную посылку принято осуждать: именно так рассуждали палачи в лагерях. Маяковский действительно исходил из того, что объектом сочувствия является вся масса людей сразу, а каждый в толпе, безымянный, он просто «силы частица» – и этой массе следует приносить жертву. Нет-нет, любой человек заслуживает сочувствия – но время такое, что приходится сочувствие прятать. В упоении этой мужественной позицией он пишет такое, что и читать-то стыдно: «Плюнем в лицо / той белой слякоти, / сюсюкающей / о жертвах Чека!» [121]121
25 Из поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924).
[Закрыть], – и многое, многое иное, столь же безобразное. Следует произнести вещь неприятную, но, увы, правдивую: в истории литературы нет другого поэта, который столь же страстно призывает к насилию и насилие оправдывает. «В гущу бегущим / грянь, парабеллум!» [122]122
26 Из поэмы «150 000000».
[Закрыть]– это написано той же рукой, которая писала про хорошее отношение к лошадям, тем же человеком, который мечтает о всеобщем воскресении. И если читатель поверит в эти маниловские басни о воскресении человечества, то он должен будет спросить: «А правда ли всех воскресят?» Даже тех, по кому грянет парабеллум?
Так может быть, и не стоило их тогда убивать, не стоило палить по бегущим? Пусть бы еще пожили, тем более что мы их собираемся воскресить. И что за этика такая странная – стрелять в спину тем, кто убегает, кто повержен? Что за призыв такой – добить? Гуманно ли? Но все это как-то легко и страстно пишется, насилие и произвол вроде бы не отменяют общего гуманистического пафоса. А как еще, спрашивается, «рваться вперед, чтоб брюки трещали в шагу»? Нет другого рецепта. Справедливости ради, отметим, что Маяковский пожертвовал только собой и своей поэзией – он никого не сдал в ЧК и если и уничтожил кого, то одного лишь себя.
Увидев связь коммунистической утопии с христианством (насколько справедливо – ему суждено было это проверить самому), Маяковский придумал для себя особенную трактовку происходящего с Россией. Такой трактовки не было ни у Пастернака, ни у Булгакова, ни у Блока, однако оторвать Маяковского от традиции (она была представлена в начале века самозваным апостольством, визионерством, кликушеством, шаманством, пророчеством и пр.) невозможно и не нужно. Маяковский – самопровозглашенный апостол в той же степени, что и Филонов, и Пастернак, и Блок, и Булгаков, и Бекман, и Петров-Водкин. Ему присущ общий набор свойств, возникающий при обращении к евангельской теме, – исследователю не стоит отвергать общих черт, возвеличивать одного в ущерб другим. Надо лишь уточнить, чем апостольство Маяковского отличалось от апостольства его коллег.
11
Отличие в следующем.
Маяковский ясно сформулировал для себя, что для служения людям потребны не слова, но дела. Или такие слова, которые являются делом. Проповеди Христа были бы менее достоверны, если бы Христос, в подтверждение слов, не исцелял больных, не спасал блудниц, не воскрешал из мертвых, не утешал падших. Одним словом, он не просто обещал нечто в будущем – но кое-что также делал сегодня. И его дела – часто опровергающие словесные и законодательные регламенты, как, например, исцеление в субботу, – и есть то главное, что он принес людям. Собственно, выражение «суббота для человека, а не человек для субботы» [123]123
Цитата из Евангелия от Марка (гл. 2, ст. 23–27). Рассказанная здесь притча гласит, что в субботу, когда еврейский закон запрещал какую бы то ни было работу, Иисус с учениками проходил полем, и его ученики стали срывать колосья. Фарисеи, увидев это, сказали Иисусу: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» На что Иисус ответил: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Иносказательно выражение это употребляется в значении «Не следует быть рабом закона, обычая, правил, особенно тогда, когда они действуют во вред человеку». – Прим. ред.
[Закрыть]означает одно – не слова нужны, но дела. Даже если принять толстовскую трактовку Христа и лишить его божественной природы, останется человек, наделенный такой упорной волей, которая способна облегчать страдания и утешать скорбь и боль. Возможно, он был одаренный врач. Возможно, его утешения были столь искренними и страстными, что пробуждали в людях их внутренние силы. Очевидно, он столь истово старался отдать свою энергию людям, что эта энергия передавалась многим – и делала их более стойкими. Именно этой энергией он спас женщину от побиения камнями – то есть взял и спас от смерти. Это не декларация, это совершенное действие.
Данную энергию можно определить как любовь – так ее определяет христианская традиция. Так же определял ее и Маяковский, который рассматривал любовь мужчины к женщине как частность общей, общечеловеческой энергии любви. Это совершенно в духе христианской доктрины – именно так, то есть отдавая свое тепло другим, намерен был жить поэт Маяковский.
Очевидно, что сочинения стихов о собственном душевном состоянии или о своем неприятии толпы – для такого служения недостаточно. Мнить, что люди станут счастливее или здоровее оттого, что узнают, какой ты гордый и непонятый, – нелепо. Так же нелепо предполагать, что принесенная тобой в мир красота (если принять, что искусство – это красота) сделает здоровее больных и согреет замерзших. Когда вокруг много горя – искусства недостаточно. Требуются конкретные дела, такие очевидные поступки, как, например, работа Альберта Швейцера [124]124
Швейцер,Альберт (1875–1965) – немецкий теолог, философ, музыковед и врач. Будучи уже известнейшим ученым, в 1913 году отправился в Африку (Габон), где основал больницу, которой и отдал остальные годы жизни. – Прим. ред.
[Закрыть]врачом в черной Африке.
Поэт на такой подвиг не способен – просто в силу специфики своей профессии. Очевидно, что должность поэта ставит человека вне нормальных социальных условий, он – существо уникальное, этим и интересен. Даже если он страдает, то страдает как-то по-особенному, не как прочие смертные. Собственно, этим и отличались все без исключения современники Маяковского, за это и претерпели от безжалостного режима. Они были обижены и оскорблены обществом, их исключительность была уязвлена. В награду за муки, их признали потомки – в числе прочего им простили растерянность, страх, непоследовательность, неряшливую жизнь. Здесь властвует тот самый закон поэтического иммунитета, той привилегии, от которой Маяковский решил отказаться. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою», – говорит апостол Павел [125]125
Послание к Филиппинцам (гл. 3, ст. 7). – Прим. ред.
[Закрыть], и Маяковский поступил по его слову.
Ранний Маяковский очень много обещал – но совершенно не представлял себе, как эти абстрактные обещания выполнить. Понятно, что он всем хочет счастья, готов призреть сирых, обличает богатых – но положения вещей это не меняет, это лишь описывает его гордую душу поэта. Чуда не происходит. Чудо случилось, когда он от поэзии отказался.
В качестве декламатора громких речений он был наравне со своими современниками, но когда он от данных декламаций отказался, он выполнил свое предназначение – и сделался отступником в поэтическом цехе.
Ничего подобного он не смог бы совершить, если бы не революция. Именно революция наполнила его абстрактные пророчества («желаю, чтобы все!») конкретным волевым содержанием. Не умилительное сочувствие романтическим проституткам и одиноким клоунам – но обоснованная, обдуманная солидарность с пролетариатом, движущей силой истории. Не прекраснодушное желание общей любви – но тяжелая работа вместе со всеми. Когда он стал делать «Окна РОСТА» [126]126
«Окна РОСТА»,точнее – «Окна сатиры РОСТА» – сатирические плакаты с краткими, легко запоминающимися стихотворными текстами, создававшиеся в 1919–1921 годах советскими художниками и поэтами, которые работали в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА). Разоблачали врагов Советской республики, освещали злободневные события, иллюстрировали телеграммы, передававшиеся агентством в газеты. – Прим. ред.
[Закрыть], писать агитки и рекламу – он стал по-настоящему велик. Так он написал самые значительные свои вещи, в которых описал устройство идеального общества; это уже не поэзия – но программа строительства утопического социума. В этом он оказался равен не своим современникам-поэтам, но Томасу Мору и Кампанелле. Он сформулировал в стихах программу строительства мира более последовательную, нежели та, что содержится в призывах компартии, «…чтобы в мире / без России, / без Латвии, / жить единым / человечьим общежитьем» [127]127
27 Из стихотворения «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» (1926).
[Закрыть]– эти строчки невозможно рассматривать как искусство, просто потому, что правда важнее искусства и философия жизни выше поэзии. Его наиболее последовательная поэма «Хорошо!» представляет план общественного строительства, от мелочей – до главного. Есть лишь одна поэма в русской поэзии такого же строительного масштаба, столь же претенциозная в описании устройства российского общества и роли человека в строительстве – это «Медный всадник» Пушкина. Очевидно, что безжалостная формула Пушкина и патетическая формула Маяковского во многом совпадают, следует сделать поправку на принципиальное различие понятий «Российская империя» и «Российская революция».
И в том и в другом случае, отдельный человек обречен – ради строительства общего большого здания. Однако разница все-таки есть – и принципиальная, поскольку российское здание, ради строительства которого гибнут единицы, поэты представляли различно. Пушкин констатирует как хронист: так произошло не случайно, так здесь нарочно устроено, что ради величия государственности Россия жертвовала и будет жертвовать своим народом, каждым человеком в отдельности. Маяковский утверждает, что порядок может быть переломлен. Наводнения не избежать, стихия – это сама история, само время и его страсти; правда, Маяковский уже изображал не наводнение, но потоп. Каждый должен принести жертву добровольно, миллионы Евгениев соединят свои воли, чтобы изменить ход российской истории, чтобы жить не ради государственности, но ради общего – разного для всех – счастья свободы. Такая страна, «где с пулей встань, / с винтовкой ложись, / где каплей / льешься с массами» [128]128
28 Из поэмы «Хорошо!» (1927).
[Закрыть], – такая страна величественна не своей архитектурой, не Петропавловскими шпилями, не тем, что принимает послов всех стран. Страна величественна единением воль, общей судьбой для всех, «с такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть».
Это наша земля, земля каждого, этот потоп мы остановим сами – своими руками. «…Землю, / которую / завоевал / и полуживую / вынянчил» [129]129
29 Там же.
[Закрыть], – такую землю не отдают, на ней строят город-сад. Это вам не барственное описание случившейся неприятности: знаете, голубушка, «я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». А где ж тебе и быть, как не с народом? Ты что – от других отличаешься, потому что в рифму говоришь? У тебя что, иные права на свет и воздух, на смерть и на пенсию? Это что, особый подвиг – разделить свою жизнь с другими? Разве это не самое что ни на есть естественное, такое, чем гордиться зазорно?
Российская история такова, что проверяет людей на шкурность постоянно: на войне, в тюремной очереди, в лагере, в революции. Одна беда сменяет другую, или, точнее, одна историческая глава вытекает из другой – и расчленять процесс поглощения людей исторической мясорубкой на отдельные эпизоды трудно. Тех, что воевали с кайзером, а после взялись за винтовки, чтобы делать революцию, – потом их же погнали в лагеря, где они досидели до второй, еще более страшной войны, в которой их уже убивали всерьез, – и трудно сказать, кому было тяжелее: тому, кого давили танками подо Ржевом; или тем, кто был на лесоповале в Сибири; или тем, кто тонул в болотах обреченного Брусиловского прорыва; или тем, кто рвался по трупам товарищей к Берлину. Тот, кто был жлобом и жадиной в период революционной разрухи, скорее всего оказался трусом подо Ржевом – хотя идеологические составляющие этих событий различны. Однако в России речь всегда идет об ином, и лишь по видимости об идеологии. Говорится: «коммунисты», «капиталисты» – но имеется в виду простое, самое существенное: умение принять чужое горе как свое, решимость не прятаться за чркие спины. Можешь – ну, тогда ты чего-то стоишь, а за красных ты при этом или за белых – потом разберемся. Хрен с ней, с идеологией, речь совсем о другом – годишься ли ты в товарищи по несчастью? Тот, кто «две морковинки» [130]130
30 «Не домой, не на суп, / А к любимой в гости / Две морко– винки несу / За зеленый хвостик» – строки из поэмы Маяковско– го «Хорошо!».
[Закрыть]нес за зеленый хвостик и мог ими поделиться с голодными, он потом и на Курской дуге неплохо себя вел. Те, кто достойно вел себя на пересылках, они потом и в окопах вели себя как подобает. А те, кто исправно писал передовицы в советских журналах, а после победы капитализма гвоздил давно покойных большевиков – ох, не хотелось бы с ними попасть в один окоп. Вот их, шкурников, соглашателей – их как раз Маяковский и называл мещанами. Беда в том, что именно такими людьми и пишется наша история – нет у нас других летописцев. Это они сначала гнали народ на Первую мировую – а потом обсмеяли ее нелепицу; сперва прославили Октябрьскую революцию за свободолюбие – а потом поругали ту же революцию за кровожадность; сперва воспели Великую Отечественную за патриотизм – а потом раскритиковали за напрасные жертвы и дурное командование. Сейчас они служат капиталистическому начальству и пишут о новой цивилизации и прогрессе – придет время, и они будут так же искренне ругать ворюг. Именно они и вышли победителями в российской истории – а революционеров, поэтов и солдат давно уже закопали в могилы.
Поразительно, но все наши рассуждения о двух мировых войнах, лагерях и революции описывают отрезок времени, равный одной – одной! не двум! – человеческой жизни. И уж внутри этой одной биографии мы можем вполне спокойно посмотреть, как человек рос, что делал, где прятался, где не прятался. Это была история всего лишь тридцати российских лет, только тридцати лет! Это единая история, цельная и страшная – и вынуть фрагмент из нее невозможно, не погрешив против фактов. История одна, она ни хороша и ни плоха – это наша жизнь, другой нет. И главное, что можно из этой истории извлечь, – это урок, урок не идеологический (с кем был Маяковский, в какой партии состоял, кому он, собственно, был попутчиком), но урок человеческого достоинства. Защищать слабых, не лебезить перед сильными – и это самое главное, чему учит Маяковский. Его «Про это» – как раз про это. Так он понимал любовь и человеческие отношения.
«Я / белому / руку, пожалуй, дам, / пожму, не побрезговав ею. / Я лишь усмехнусь: / – А здорово вам / наши / намылили шею! (…) Но если / скравший / этот вот рубль / ладонью / ладонь мою тронет, / я, руку помыв, / кирпичом ототру / поганую кожу с ладони» [131]131
31 Из стихотворения «Взяточники» (1926).
[Закрыть]. В стране победившего капитализма не вполне понятно, как можно так писать о спекулянтах, то есть о людях предприимчивых и уважаемых. Но в глазах Маяковского спекулянт был подонком, предпринимательство поэт не уважал, прибыль не поощрял, руку успешному спекулянту подать брезговал – а ценил равенство и бескорыстие, непонятные сегодня ценности.
Вот об этом и писал М-.яковский. О том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». В конце концов, он предложил очень простые и доступные определения для измерения нашего бытия. Не в идеологии дело. Не в контактах с цивилизацией, культурой, пролетариатом, историей. А надо – просто, по-человечески. Надо вести себя хорошо и не надо плохо. Надо не прятаться, надо идти во весь рост, защищать маленьких. Рядом с поэмой «Хорошо!» стоит другое великое стихотворение, написанное им для детей, – «Что такое хорошо и что такое плохо?». Эти простые, очень доступные правила жизни следует выучить, прежде чем рассуждать об истории и цивилизации. «Этот вот кричит: / – Не трожь / тех, / кто меньше ростом! – / Этот мальчик / так хорош, / загляденье просто!»
Об этом вообще вся поэзия Маяковского. Не трожь тех, кто меньше ростом! Это самое главное, что Маяковский сказал. В развернутом виде это можно сформулировать иначе. Вопрос прост: чем заниматься поэту в российской мясорубке? На что оставлена эта пресловутая вакансия поэта? В какой, простите, очереди место надо занимать – и кому потом про свою очередь и свою печаль поведать? Что же любить прикажете в подлунном мире, если единение с людьми надо считать экстраординарным подвигом? Про что стихи-то слагать? Ради чего? Маяковский решил это сразу, твердо и определенно. «Я с теми, / кто вышел / строить / и месть / в сплошной / лихорадке / буден» [132]132
32 Из поэмы «Хорошо!».
[Закрыть]. Маяковский писал ради нового города, такого, где люди будут не пищей для вещей, а хозяевами вешей – в том числе хозяевами своей истории. А что придется попотеть – ну да, придется: зато дело того стоит, оно общее, это дело. «Нашим товарищам / наши дрова / нужны: / товарищи мерзнут» [133]133
33 Там же.
[Закрыть]. И ничего нельзя отменить – ни истории, ни боли другого, ни правоты бедности. В истории просто невозможно не участвовать: стоит одному отказаться – и пропало общее дело. «Мы будем работать, / все стерпя, / чтоб жизнь, / колеса дней торопя, / бежала / в железном марше / в наших вагонах, / по нашим степям, / в города / промерзшие /наш и» [134]134
34 Там же.
[Закрыть].
Характерно отношение Маяковского к предметному миру, к материи вообще. Для него вещь (будь то продукт производства или государство, то есть продукт социальных отношений) не представляет ценности сама по себе. Если вещи (предмет, государство) полезны – ими следует пользоваться, но вещи вне функции не существует. Но если вещь плохая, ее следует переделать. «Красуйся, град Петров, и стой / неколебимо, как Россия» [135]135
Из поэмы Пушкина «Медный всадник». – Прим. ред.
[Закрыть], – сказал поэт свободы и империи. А поэт свободы и революции с ним не согласился. Ответил он примерно так: почему же надо граду красоваться, если это неправедный град? Что хорошего в такой красоте? Вот будет город праведным, тогда красота к нему сама приложится. «Надо / жизнь / сначала переделать, / переделав – / можно воспевать» [136]136
3535 Из стихотворения «Сергею Есенину» (1926).
[Закрыть].
Не существует, таким образом, красоты (стихосложения или даже природы) отдельно от общего проекта человеческого счастья. Всё – эстетику, искусство, пристрастия, связи – всё должно принести в общий план строительства. Это весьма безжалостная программа – по отношению к привычным ценностям. Оправдана она разве что тем, что в результате строительства образуется такое общее вещество (по Маяковскому – любовь), растворяясь в котором вещи как бы заново рождаются, обретают высший смысл и исполняют высшее предназначение. А во время этого строительства – всем следует пожертвовать. «Если / даже / Казбек помешает – / срыть! / Все равно / не видать / в тумане» [137]137
3636 Из стихотворения «Владикавказ – Тифлис» (1924).
[Закрыть]. Важно то, что в числе прочего в жертву приносится и любовь, обычное чувство мужчины к женщине. Согласно Маяковскому, любовь возможна только всемирная, всеобщая – всякое частное чувство должно быть растворено в этой всеобщей любви, чтобы впоследствии сделаться еще выше и чище. До известной степени это положение совпадает с проектами Платона и Кампанеллы – они также не предполагали в идеальном государстве наличия интимных отношений пары, жены и дети должны были стать общими. Основания (у Маяковского и Платона) следующие: интимное чувство становится преградой между человеком и общественным долгом. Любовь между двумя гражданами не может вместить в себя общих представлений о свободе, справедливости, благе, и значит – мешает добиться общей свободы и справедливости. Следует внедрить в общество такую генеральную программу счастья, чтобы она растворила частное чувство внутри себя. Эта программа уже не вполне соответствует христианскому догмату, или, точнее сказать, она напоминает крайние формы христианского фанатизма – например, катаров [138]138
Катары —еретическая секта в христианстве Западной Европы, существовавшая в XI–XIV вв. Согласно их учению, духовный мир создал Бог, а материальный – дьявол. Осуждение всего земного, плотского вело к крайнему аскетизму – например, к полному отвержению брака. – Прим. ред.
[Закрыть]. Данный манифест мало чего стоил бы вне личного примера. Маяковский показательно принес жертву, отказавшись от поэзии, превратив свою личную жизнь в пытку. Сделано это было сознательно – ради той работы, которую он считал необходимой. Много лет подряд он выполнял необходимую работу: писал стихи на злобу дня, так называемые агитки, воспитывал, убеждал, доказывал, не чураясь ни мелочей, ни грязи. Предсмертные строки – «Потомки, / словарей проверьте поплавки: / из Леты / выплывут / остатки слов таких, / как „проституция“, / „туберкулез“, / „блокада“. / Для вас, / которые / здоровы и ловки, / поэт / вылизывал / чахоткины плевки / шершавым языком плаката» [139]139
37 Из поэмы «Во весь голос» (1929–1930).
[Закрыть]– потрясают. Так на русском языке не писали. Эти слова не похожи на ранние декламации о проститутках и карточных шулерах. Это говорит усталый взрослый мужчина, которому надо было сделать работу, – и он сделал. Это было очень хорошо сделано.
12
Однако это не конец истории Маяковского.
Довольно быстро выяснилось, что конкретное содержание, которым Маяковский наполнил свои абстрактные пророчества, отнюдь не прямо соответствует объявленной евангельской цели. Для апостола – общество людей едино, все равны перед словом Божьим, но для агитатора общество – машина, в которой надо умело регулировать программы, отличать важные от неважных. Иными словами, его не-поэтическая деятельность попала в ту же зависимость от расслоения общества, что и поэтическая. Нет толпы, обуянной религиозным экстазом, – но есть управляющие, которые данный экстаз дозируют. Он отказался от стихов, поскольку стихи не могли служить сразу всем людям, а агитки – могли. Но выяснилось, что агитки, как и стихи, принадлежат отнюдь не всем, но лишь тем, кто данным обществом управляет, кто данными призывами манипулирует. Он отказался от общества поэтов, но попал в окружение чекистов. Его собеседниками стали не снобы и кривляки (от тех он отвернулся давно), но чудовища и живодеры. Один адрес, по которому проживал поэт, чего стоит! Для человека, последовательно «делающего» свою жизнь, это поистине феноменальная оплошность – соединить свое имя с Лубянкой. Не требовалось слишком усердного анализа событий, чтобы понять: он вооружил своими афоризмами – палачей, наделил речью – подонков. Не требовалось проницательности гения, чтобы увидеть, как проект мировой любви реализуется в строительстве лагеря. И делалось это при его участии. Мысль о том, что его руками создается идеологическая машина, была невыносима. Некогда он переживал, что стихами его могут пользоваться люди, которые любят «баб да блюда» – они будут пользоваться его стихами на том основании, что поэзия принадлежит красоте, а красота обслуживает богатых. Случилось так, что его некрасивыми стихами тоже стали пользоваться, причем совсем не отверженные, но власть имущие.
Но и это еще не все. Хуже всего то, что Маяковский был вынужден врать – и случилось так естественным ходом событий. Для того, кто назвался апостолом, чьим рабочим инструментом является не поэтическая эстетика, но социальная правда, для такого человека стать лжецом – нестерпимо. Все творчество – это (по заявленной программе) обнаженная правда, это крик истины. А вышло так, что пришлось врать. Он, не спускавший бюрократам, мещанам и буржуям ни малейшей провинности, реагировавший на любую неточность интонации, каждую новость в газете провожавший язвительной частушкой, – он умудрился ни строчкой, ни полусловом не отреагировать на расстрел Гумилева. Вот, убили храброго человека, большого поэта – расстреляли в подвале. Где же ты, трибун, умеющий переживать за «миноносцы и миноносочки» [140]140
38 Из стихотворения «Военно-морская любовь» (1915): «По мо– рям, играя, носится / с миноносцем миноносица. / Льнет, как будто к меду осочка, / к миноносцу миноносочка».
[Закрыть], за товарища Нетте, который «тянет след героя, светел и кровав»? Разве не этот же самый Маяковский некогда писал: «Слышите! / Каждый, / ненужный даже, / должен жить; / нельзя, / нельзя ж его / в могилы траншей и блиндажей / вкопать заживо – / убийцы!» [141]141
39 Из поэмы «Война и Mip» (1915–1916).
[Закрыть]Отчего же этих, конкретных убийц он не заклеймил? Что Шаляпин уехал в эмиграцию – заметил, что Горький отсиживается на Капри – разглядел и в стихах немедленно отразил. А что Гумилева расстреляли – не заметил, не отразил. Вот, началась кампания против Троцкого, Лев Давыдович отныне в изгнании, он стал врагом революции, а еще вчера был ее символом – позвольте, так ведь этот самый Троцкий в поэме «Хорошо!» упомянут, и что ж теперь, надо проглотить новость? Или, может быть, надо обсудить событие в стихотворной форме, задать вопрос «товарищу правительству»? Ведь задает же поэт колкие вопросы фининспектору, отчего бы «товарищам из Губчека» не задать вопрос? Особенность творчества состоит в том, что умолчаний оно не переносит – умолчание немедленно делается враньем. Не сказал про расстрел Гумилева сегодня, не сказал завтра, не сказал послезавтра – и уже трудно именоваться самым честным, самым отчаянно искренним.








