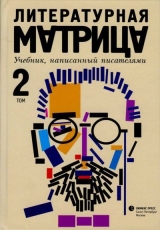
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Автор книги: Андрей Рубанов
Соавторы: Людмила Петрушевская,Дмитрий Быков,Роман Сенчин,Максим Кантор,Александр Кабаков,Павел Крусанов,Ольга Славникова,Александр Етоев,Герман Садулаев,Мария Степанова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
Что дальше? Резкий жизненный поворот, внутренний и внешний. Всеми душевными силами Цветаева оборачивается к Эфрону – как из горящего дома или с тонущего корабля: в его нравственной доброкачественности она не сомневается: в их отношениях именно ему отводилась роль правою —этического компаса, указывающего верный путь. То, что в ее стихах и воспоминаниях его образ становится все более стилизованным (Лебедь, Воин, святой Георгий-доброволец), здесь тоже существенно – но уверенность в том, что «черной полночью, за последней помощью» [214]214
19 Из стихотворения «Я пришла к тебе черной полночью» (1916).
[Закрыть]можно прийти только к нему, давняя: цитируемые стихи написаны в 1916-м. Сейчас Цветаева не знает даже, жив ли Эфрон; и то, что она готова пообещать ему и себе, вполне сказочно и крайне насущно: она хотела бы ему родите богатыря.«Если Вы живы – я спасена. (…) У нас будет сын, я знаю, что это будет, – чудесный героический сын, ибо мы оба герои» [215]215
20 Из записных книжек 1920–1921 гг.
[Закрыть]. Внезапная, отчаянная мечта о сыне – среди первых ее реакций на смерть Ирины; возможно, она увидела тут шанс символически отбирать назадэту смерть, от-работать, за-служить, стать настоящей («правильной») матерью, с пеленками вместо стихов. В свой час ей это удалось, и даже слишком: ее третье (хочется сказать – итоговое), страстное, тяжкое материнство было именно таким – тяжелой службой, ежедневной работой, источником сотни тревог и страхов, самым давним из которых был, возможно, давний страх еще раз не справиться.
В 1921-м Цветаева узнает, что Эфрон жив и их встреча возможна, и это действует на нее как отмена приговоpa. Уезжая из России, она запирает ее за собой, оставляет за спиной, как и собственную память о прошлом – во имя новой, выпрямленнойжизни. Ее стихи, написанные за границей, выйдут книгой под названием «После России».
* * *
Стихи книги «Ремесло» написаны еще в Москве, в 1921—1922-м (изданы в Берлине в 1923-м), – но поются, как в русской сказке, новым, перекованным горлом: произошла резкая и уже окончательная смена письма. Дело тут не в том, что «старый стиль» перестал ей нравиться: в тетради 1929 года она добрым словом вспомнит 1920-й, «когда уже хорошописала!». Переменить ей хотелось не манеру, а участь; новые стихи отрицают (отрясают) старый способ думать и жить. Множественность речевых масок, словесная пена, необыкновенная, щегольская все-возможность цветаевской лирики разом идет на убыль. Место десяти поэтов (в письмах она называет и другое число – семь) заступает один-единственный. Способ виденья, усвоенный Цветаевой в юношеских стихах, – приукрашивающий взгляд любования, многократно увеличивающий в размерах избранный объект, – замещается другим. Степень увеличения та же, но освещение куда жестче: перед нами недремлющее, незакрывающееся рентгеново око жестокого, расчленяющего знания о себе и мире, проницающее поверхность в поисках структуры. Современная Цветаевой критика приняла этот поворот правильно: в штыки. «Нет здесь живых картин и ярких образов, зримый и ощутимый мир словно исчезает, и мы погружаемся в нечто нематериальное и почти бесформенное», – пишет о «Ремесле» в «Воле России» Евгений Зноско-Боровский [216]216
Зноско-Боровский,Евгений Александрович (1884–1954) – русский шахматист, шахматный теоретик и литератор; драматург, критик. Его рецензия на книгу Цветаевой опубликована в пражском журнале «Воля России». 1924. № 3, февраль. – Прим. ред.
[Закрыть](сознательно выбираю один из наиболее простодушных, то есть прямо и просто понимающих происходящее, отзывов). Поворот-переворот, пережитый цветаевским творческим механизмом, стал окончательным, а позиция, выбранная ею, – видеть любую вещь последнимиглазами, при свете страшного суда, посмертной этической прямоты – обрела финальную неподвижность. Позиция эта оказывается крайне неуютной и для автора, и для его читателей; эта особенность за ней сохраняется до сих пор.
Представим себе классического скандалиста: неприятного человека, который в переполненном автобусе громко жалуется на давку, в очереди – на ее длину, а на солнце – на его жар. Его требовательность не вызывает сочувствия, кажется бестактной или безосновательной. Чем он отличается от молчащего большинства? Знанием, истинным или ложным, того, «как вещь долженствовала быть». Уверенностью в своем прирожденном праве на это «как должно». Решимостью сделать несправедливость гласной. То, что мы считаем его виной или бедой, для этого человека – высшая добродетель: это нежелание применяться к обстоятельствам; это роковая невозможность притерпеться к несправедливости; это вера в жалобную книгу – «Страшный суд слова» [217]217
«…Если существует Страшный Суд Слова – я на нем буду оправдана» (из письма Р. Н. Ломоносовой 3 апреля 1930 г.). Ср. заключительные слова эссе «Искусство при свете совести»: «Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста». – Прим. ред.
[Закрыть]. Неприязнь, которую вызывает у многих Цветаева, – схожего рода.
Все это слишком легко понимать в границах анекдота: «Ишь ты, какие мы нежные!» В начале прошлого века требование особых условий и заново созданных этических шкал было для людей искусства ходовой монетой: поэтам, по слову Ахматовой, «вообще не пристали грехи» [218]218
Цитата из «Поэмы без героя» А. Ахматовой. – Прим. ред.
[Закрыть]. В этом смысле случай Цветаевой, не умеющей и не желающей справляться с навалившейся на нее тяжестью дней, становится общим, показательным: она – солдат армии, оставшейся неизвестной; за ее спиной – сотни и тысячи людей, не сумевших примениться к новой реальности и не имевших голоса для того, чтобы сделать свое «нет» слышным. Нам, как правило, приходится иметь дело с историей, написанной теми, кто справился:кто приветствовал пришествие нового (как Нина Берберова [219]219
Берберова,Нина Николаевна (1901–1993) – русская писательница. В июне 1922 г. вместе с В. Ф. Ходасевичем, вскоре ставшим ее мужем, уехала из советской России. В автобиографической книге «Курсив мой» Берберова так оценивала события 1917 г.: «Все, или почти все, было ново для меня, как и для большинства, ново и радостно, потому что рушилось то, что не только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд, стыд за подлость и глупость старого режима, стыд за гниение его на глазах у всего мира…» – Прим. ред.
[Закрыть]; кто считал нужным «быть как все» и «заодно с правопорядком» [220]220
«Всю жизнь я быть хотел как все…» – строка поэмы Б. Пастернака «Высокая болезнь» (1923). «А сила прежняя в соблазне / В надежде славы и добра / (…) Хотеть в отличье от хлыща / В его сущсствованьи кратком, / Труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком» – строки стихотворения Б. Пастернака «Столетье с лишним – не вчера…» (1931). – Прим. ред.
[Закрыть](как Пастернак); кто выбрал место в стороне и прожил достаточно долго, чтобы оно стало местом силы(как Ахматова). Но толпы, выпавшие в прорехи сверхновою времени,не имеют ни права голоса, ни заступника. Им против собственной воли стала Марина Цветаева, всю жизнь настаивавшая на исключительности собственного случая, пока он не стал почти всеобщим.
Поэтому ее судьба до такой степени наэлектризована посмертным читательским интересом, а разговор о ней почти неминуемо ведется в модусе товарищеского суда. Любые биографические извивы Пастернака, Кузмина, Хармса все же держат читателя на расстоянии, в полной мере оставаясь частным делом автора. Говоря о Цветаевой, мы говорим о себе – и не только потому, что ее жизнь несет печать той античной ужасности, о существовании которой мы знаем по собственным худшим опасениям. Ее история – важная глава в невидимой книге коллективного опыта; и, в отличие от прочих, тут мы получаем информацию из первых рук. В этой семейной хроникевсе подробнейшим образом документировано; ход (и исход) этой жизни можно восстановить по дням и неделям – фиксируется и разбирается каждое душевное движение; в письмах и записных книжках ведется подробный перечень бед и обид. Здесь приходится снова вспомнить о механике реалити-шоу – и, несмотря на то, что мы знаем, чем оно кончилось, оно захватывает, словно речь идет о нашей собственной судьбе. Дело ведь не в (всегда реальном и всегда фиктивном) конфликте исключения и нормы, поэта и толпы – просто в том, о чем говорит и на чем настаивает Цветаева, поэтом (страдающим исключением из всякого правила) является каждый, из какой бы густой толпы он ни выглядывал. Этот голос, детский голос чистой богооставленности, последнего отчаяния, вовеки попранного права, знаком каждому – потому что он наш общий. На той глубине, где каждый человек – Иов, предъявляющий Богу свой одинокий счет, он говорит голосом Цветаевой; и эта речь все еще оскорбляет воображение и слух, как «вопль тоски великой» в «Осени» Баратынского [221]221
Из стихотворения Е. А. Баратынского (1800–1844) «Осень» (1837): «Но если бы негодованья крик, / Но если б вопль тоски великой / Из глубины серечныя возник, / Вполне торжественной и дикой, – / Костями бы среди твоих забав / Содроглась ветреная младость…» – Прим. ред.
[Закрыть].
Стоять лицом к стене собственной смертной камеры – дело довольно мучительное. Естественнее предпочитать поэзию, которая помогает нам отвернуться, а лучше бы – забыть о существовании камеры. Есть авторы, предлагающие нам выглянуть в окно («какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» [222]222
Строки из стихотворения Б. Л. Пастернака «Про эти стихи» (1919), ставшие крылатым выражением. – Прим. ред.
[Закрыть]) или рассмотреть движущиеся картинки. Цветаева – в другом ряду, среди тех, кто представляет здесь «память смертную» [223]223
Память смертная —в православной традиции: спасительные и полезные для всякого христианина размышления о грядущей смерти. «Даждь ми, Господи… память смертную» (из вечерней молитвы свт. Иоанна Златоуста). – Прим. ред.
[Закрыть]и ничего, кроме. Таких немного, потому ее свидетельство – на вес золота.
Эмиграция означала для нее необходимость в первый раз за жизнь стать профессиональным литератором, то есть добывать свой хлеб литературным трудом. Если раньше она существовала вне рядов и контекстов, публикуясь и не публикуясь по собственной воле, сейчас ей приходилось встраиватьсяв уже обжитые всеми прочими обстоятельства, сделать свой природный режим неучастия и неприсоединения из внешнего – внутренним, но от этого не менее очевидным всем и каждому. Середина 1920-х годов – время, когда казалось, что ей это удалось и она стала одним из авторов, находящихся по отношению к времени в сильной позиции.На короткий срок она непреднамеренно оказалась тем, чего всегда чуралась: выразителем чаяний эпохи, знаменем определенного поколения (вернее, одним из двух знамен: вторым был Борис Пастернак). Они (как раз в эти годы радостно осваивавшие возможности и диапазон своей зарифмованности,обоими признанного внутреннего родства) представляли в читательском сознании свежайшую современность (слово и понятие, глубоко чуждые Цветаевой, которую интересовали только вещи нестареющие – или уж раз и навсегда устаревшие). И Цветаева, и Пастернак, несмотря на то, что первые их книги были изданы до революции, вошли в широкий читательский обиход только в начале 1920-х – и их поэзия новою образца,не замутненная политической ангажированностью, как это было в случае Маяковского, и не казавшаяся современникам архаичной, музейной, как это было тогда со стихами Мандельштама, предлагала возможность новой литературы: несоветской, неэмигрантской, другой: прочищающей горло [224]224
Ср. со словами О. Мандельштама о поэзии Б. Пастернака: «Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие» («Заметки о поэзии», 1923 г.). – Прим. ред.
[Закрыть]и зрение. Это длилось недолго. По мере того, как цветаевская поэтика менялась от (сравнительной) консервативности и общепонятности в сторону очевидной утрудненности, ее новизна стала приобретать в глазах литературной среды отчетливо отрицательную окраску; да и сама эта среда становилась все более разреженной, а возможность «рукопись продать» – все менее реальной.
Одной из точек расхождения с современностью было принципиальное для Цветаевой (и довольно редкое в тогдашней поэзии с ее культом качества, да и в нынешней, во многом существующей в заданных Бродским координатах, где язык представляется саморегулируемой машиной, по собственной воле рекрутирующей авторов для выполнения определенного типа работ [225]225
Ставшие крылатыми слова Иосифа Бродского «Не язык – орудие поэта, а поэт – орудие языка» по-разному формулировалась им в различных текстах: «Поэт – это продукт языка, орудие, оружие языка… Именно язык диктует поэзию» («Идеальный собеседник поэту – не человек, а ангел». Интервью с Джованни Бутта-фава, журнал «L'Expresso», 6 декабря 1987 г.); «…поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего существования» (Нобелевская лекция, 1987). – Прим. ред.
[Закрыть]) утилитарное и даже снисходительное отношение к языку: как к послушному инструменту – или части собственного тела, с которой не миндальничают. Язык используется или преодолевается как материал: внешняя оболочка единственно важной сути. Пренебрегать внешностьюво имя смысла было для Цветаевой настолько естественным, что она была неизменно озадачена критическими статьями, где о ее стихах говорили как об игрушках, выполненных в том или ином стиле, описывая поверхность и не добираясь до внутренней задачи.Внеязыковая, круговая порука смысла объясняет усилия, прилагавшиеся Цветаевой для того, чтобы ее стихи могли быть прочитаны по-французски. Титанический труд – перевод собственной поэмы «Молодец», так и не нашедший отклика, был попыткой дать вещи заново осуществиться на одном из родных для нее языков («…русского родней немецкий / Мне, всех ангельский родней!..» [226]226
21 Из стихотворения «Новогоднее» (1927).
[Закрыть]). В эмигрантской литературе, одержимой идеей сохранения русского языка как общей охранной грамоты, России в дорожном мешке [227]227
Аллюзия на стихотворение В. Ф. Ходасевича «Я родился в Москве. Я дыма…» (1923): «Но: восемь томиков, не больше– / И в них вся родина моя. / Вам – под ярмо ль подставить выю, / Иль жить в изгнании, в тоске. / А я с собой свою Россию / В дорожном уношу мешке». – Прим. ред.
[Закрыть], эта позиция («Для поэта нет родного языка. Писать стихи и значит перелагать» [228]228
22 Из письма Р. М. Рильке. 6 июля 1926 г.
[Закрыть]) была уникальной – и глубоко чужой.
Отношения с Пастернаком для Цветаевой – главная жизненная ставка этого времени. Их внутреннее обязательство «дожить друг до друга» было руслом, по которому годами шла цветаевская мысль, затопляя подводные камни неизбежных романов и увлечений, своей мелкостью и конечностью только подтверждавших правильность большого выбора. Но каким конечным оказался и этот выбор! Их переписка, начавшаяся в 1922 году – сразу с высочайшей ноты, – имела в виду сразу же стать чем-то куда большим любой литературной дружбы: встречей равных (Зигфрида и Брунгильды, Ахилла и Пенфезилеи [229]229
Зигфрид и Брунгилвда —герои древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах»: Зигфрид, напоенный зельем, забыл обет вечной любви, связывавший его с Брунгильдой. Ахилл и Пенфезилея– герои древнегреческих мифов: Ахилл во время Троянской войны вступил в бой с царицей амазонок Пенфезилеей, но, сняв шлем с убитой им амазонки, был поражен ее красотой и почувствовал, что им овладела любовь к ней. См. в очерке Цветаевой «Наталья Гончарова»: «Есть пары… разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды, Пенфезилея, не узнавшая Ахилла, где рок в недоразумении, хотя бы роковом. Пары – всё же». – Прим. ред.
[Закрыть]), силой вещей обреченных друг на друга и на совместное, спиной к спине, стояние против мира «на глыбе слова „мы“» [230]230
«Стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования» – из манифеста футуристов «Пощечина общественному вкусу» (1912). – Прим. ред.
[Закрыть]. В частной мифологии Цветаевой, где источник поэзии безличен и надличен, все поэты (от нее самой и до Орфея [231]231
Орфей– в греческой мифологии прославленный фракийский певец, который изобрел музыку и стихосложение. – Прим. ред.
[Закрыть]) составляют что-то вроде касты переводчиков-перевозчиков с ангельского языка на данный при рождении. Говоря словами Рильке [232]232
Рильке,Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт. – Прим. ред.
[Закрыть], которые она могла бы счесть своими, «поэт один.И тот, кто несего, встречается с несущимвременами» [233]233
Посылая Цветаевой книгу стихов «Дуинезские элегии» (1923), Рильке сделал на ней надпись: «Марине Ивановне Цветаевой. Касаемся друг друга. Чем? Крылами. / Издалека ведем свое родство. / Поэт один.И тот, кто несего, / встречается с несущимвременами». – Прим. ред.
[Закрыть]. Встреча со своимстановилась в ее сознании событием, способным оправдать целую жизнь и объяснить все прежние неудачи и разочарования несовпадением пород – общечеловечьей с ее собственной, особой. Больше того: только встреча и равенство такого, высшего порядка могла бы перешибить заданный часовой ход ее судьбы, обезвредить действующий миф о вечной связи-связанности с Эфроном.
Появление и наличие в цветаевских «днях» Пастернака («в полной чистоте сердца, мой первый поэт за жизнь» [234]234
23 Из письма Б. Л. Пастернаку. 10 февраля 1923 г.
[Закрыть]), признанное обоими чувство «родства по всему фронту» [235]235
«С Борисом у нас… тайный уговор: дожить друг до друга. (…) Знаю, что будь я в Москве – или будь он за границей – что встреться он хоть раз – никакой З(инаиды) Н(иколаевны) бы не было и быть не могло бы, по громадному закону родства по всему фронту» (из письма Р. Н. Ломоносовой 3 февраля 1931 г.). – Прим. ред.
[Закрыть]– дара, человеческого масштаба и той самой иной породы, само собой вызывало к жизни контекст любовности, мечту о полном совпадении-союзе. При свете этого союза, то подгоняя, то откладывая будущую встречу, оба они жили до начала 1930-х годов, когда новый брак Пастернака обессмыслил для Цветаевой мечту об их посвященности друг другу («Тогда уж я свою органическую рифму на этом свете искать откажусь. А на том – все рифмует!», – писала она ему). Его выбор-поворот к массам(не замечаемый Цветаевой до его «ты полюбишь колхозы», обращенного к ней в 1935 году, в Париже, при их долгожданной и так разочаровавшей ее встрече [236]236
«От Б(ориса) у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня – право, для него – его, Борисин, порок, болезнь. (…) – Ты – полюбишь Колхозы!..В ответ на слезы мне – „Колхозы“, / В ответ на чувства мне – „Челюскин“!» (из письма Н. С. Тихонову 6 июля 1935 г.). – Прим. ред.
[Закрыть]) был еще худшим отказом: уже не только от нее, но и от своего прямого предназначения. «Ничего ты не понимаешь, Борис (о лиана, забывшая Африку!) – ты Орфей, пожираемый зверями: пожрут они тебя» [237]237
24 Из последнего письма Цветаевой Пастернаку, которое было откликом на его выступление в феврале 1936 года на Пленуме прав– ления Союза писателей СССР (текст выступления был опубликован в «Литературной газете» под заглавием «О скромности и смелости») – и стало свидетельством их окончательного разминовения.
[Закрыть]. Африка-лирика, «забытая» Пастернаком во имя безликого множества и красавицы —представительницы этого множества, оставалась ей в полное владение – никому не нужным наследством, которое не с кем разделить.
Лирика Цветаевой к середине 1930-х стала уже в полной мере лишней и для читательской среды. Если за 1921–1925 годы ей удалось выпустить десять поэтических книг – следующий сборник стихов был с трудом издан только в 1928-м, и это последняя книга, напечатанная Цветаевой при жизни. Дальше публиковаться становилось только сложнее; большая, если не большая часть написанного Цветаевой в эмиграции осталась непрочитанной. После публикации статьи «Поэт о критике», [238]238
Статья, посвященная вопросам художественного творчества, главным образом сущности поэтического мастерства и отношениям между литератором и критиком, опубликована в журнале «Благонамеренный» (Брюссель. 1926. № 2. Март – апрель). – Прим. ред.
[Закрыть]резко выбивавшейся из тогдашних представлений о литературном этикете, симпатии литературного сообщества оказались не на стороне Цветаевой; по ходу времени изданий, готовых сотрудничать с ней, становилось все меньше, а рамки этого сотрудничества оказывались все более тесными. Просили не новых стихов, а «понятных читателю», то есть безнадежно для автора устаревших. Прозу (написанную «для заработка: чтения вслух,то есть усиленно-членораздельного и пояснительного (…) для годовалых детей» [239]239
25 Из письма Б. Л. Пастернаку. Конец октября 1935 г.
[Закрыть]) печатали, но неохотно, с купюрами, безнадежно искажавшими авторский замысел. В некоторых случаях Цветаевой по разным причинам приходилось отказываться от публикации, что значило для нее не только невозможность быть услышанной, но и беду вполне бытового характера: потерю средств к существованию. При крайней нужде, в которой жила семья Эфронов, эта невозможность притереться к жизни приобретала трагический характер: к работе другого рода Цветаева была непригодна; попросту – ничего другого не могла (тем больше, что в своей,словесной вотчине могла – все и прекрасно об этом знала). «Я не паразит, потому что я работаю и ничего другого не хочу кроме как работать: но – своюработу, не чужую. Заставлять меня работать чужую работу бессмысленно, ибо ни на какую кроме своей и черной (таскать тяжести, прочее) неспособна. Ибо буду делать ее так,что меня выгонят», – пишет она в записной книжке 1932 года. На этом фоне ее близким, а иногда и ей самой казалось, что местом, соразмерным ей, средой, где она могла бы прозвучать во всю мочь (мощь) должна бы стать Советская Россия с ее многомиллионной популяцией новыхчитателей.
Для Сергея Эфрона к середине 1930-х этот выбор был уже сделан. Тема возможного возвращения в Россию тучей («живу под тучей – отъезда») стоит над цветаевской перепиской последних лет. Все, казалось бы, выталкивает, подталкивает ее: растущая советскостьмужа и дочери, тесно связанных с парижским «Союзом возвращения» – организацией, управлявшейся и финансировавшейся ГПУ – НКВД [240]240
«Союзы возвращения на родину» —организации, возникшие в среде русских эмигрантов (в США, Франции, Болгарии) после издания декретов ВЦИК от 3.11.1921 г., ВЦИК и СНК от 9.6.1924 г. об амнистии участников «белого движения» и поддерживаемые советской агентурой. – Прим. ред.
[Закрыть]; ощущение, «что сила – там», как написала она в письме-приветствии Маяковскому; безвоздушность собственной жизни, быстро становящаяся вакуумом.
И тем не менее Цветаева опять оказывается в ситуации противостояния, на этот раз – не только логике жизни, но и собственной семье: мужу, дочери, на глазах подрастающему сыну. «Ужас от веселого самодовольного советского недетскогоМура – с полным ртом программных общих мест» [241]241
26 Из письма А. А. Тесковой. 29 марта 1936 г.
[Закрыть], – только тень ее неизбывного ужаса перед навязываемым ей в любовь царством победившего большинства: невозможность быть там единицей она с предельной трезвостью осознает. «Мне интересно все, что было интересно Паскалю, и неинтересно все, что было ему неинтересно. Я не виновата, что я так правдива, ничего бы не стоило навопрос: – Вы интересуетесь будущим народа? ответить: – О, да. А я ответила: нет, п(отому) ч(то) искренно не интересуюсь никаким и ничьим будущим, к(отор)ое для меня пустое (и угрожающее!) место» [242]242
27 Из черновых тетрадей.
[Закрыть].
Сперва она решает в это пустое место(страну победившего будущего) не ехать («главное– из-за Мура», пишет она Пастернаку в 1933-м); потом, «механически, пассивно, волей вещей», начинает подвигаться все ближе к краю. После отъезда дочери и внезапного, тайного бегства мужа, замешанного в политическом убийстве, осуществленном НКВД за границей, – под ногами у Цветаевой не остается почвы. Она доживает в Париже под присмотром, а возможно – и на деньги НКВД лихорадочно разбирая архив, пытаясь приткнуть по знакомым рукописи, заведомо непроходимые для советской цензуры («половину —нельзя везти!») – фактически занимаясь своим послесмертием,внешним трудом архивиста и комментатора. Вынужденный обстоятельствами отъезд лишен и тени личной воли: она уезжает «как собака», не противясь – и только. 16 июня 1939 года Цветаева садится в Гавре на пароход «Мария Ульянова», увозящий их с сыном в Ленинград. «Шею себе сверну – глядя назад: на Вас, на Ваш мир, на наш мир…», – пишет она Анне Тесковой 7 июня, за несколько дней до последнего, прощального письма.
Этот, уже финальный, оборот на тот мири себя в нем, решительное подведение итогов, становятся последней задачей Цветаевой задолго до того, как угроза отъезда стала реальной. Тетради и письма 1930-х годов раз за разом анализируют загадку, не перестававшую мучить ее до самого конца: повторяющуюся неудачу ее земной/женской жизни. Часть записей сделана на французском: языке разговора с собой, не подразумевающем иного читателя и собеседника. Перечисляя все, что ей было дано (имя, внешность, дар), Цветаева пытается и не может решить не дающееся ей уравнение: «Приближаются, пугаются, скрываются. (…) Исчезновение внезапное и окончательное. Он – пропадает без вести. Я – остаюсь одна.
И это всегда одна и та же история.
Меня оставляют. Без слова, без „до свиданья“. Приходили – больше не приходят. Писали – больше не пишут.
И вот я в великой тишине, к которой никогда не привыкну, смертельно раненная (или – задетая за живое – что то же самое) – никогда ничего не способная понять – ни за что, ни почему» [243]243
28 Из записной книжки 1932–1933 гг.
[Закрыть].
Великая тишина оставленности, оторопь виноватости здесь те же, что в короткой записи 1920 года: «Почему меня никто не любит? Не во мне ли – вина?». Многолетнее, в юности начавшееся, прощание с перспективой —теми сослагательными возможностями, которые сулит человеку молодость, – становится окончательным, унизительным в своей вынужденности. Прямая перспектива оказывается невозможной, настает время обратной.
Единственным домом, оставшимся Цветаевой, не признающей таковым то, что предлагало ей настоящее и с оправданным подозрением относившейся к любому будущему, стало неизменяемое и не изменяющее время вечной статики, в которое она и опрокинулась, словно домой вернулась. Тоска по прошлому, сопутствовавшая ей всю жизнь, в последние годы стала использоваться ею как убежище. Прошлое стало не только синонимом «уединения в груди» [244]244
29 Из стихотворения «Уединение: уйди…» (1934): «В уединении груди – / Справляй и погребай победу / Уединения в груди».
[Закрыть], но и образцом лучшего мира,сама принадлежность которому свидетельствует о доброкачественности человека или явления. Ушедшее воспринималось ею как заповедник, последнее место, где еще можно найти вещи и качества, оттудаею воспринятые и несвойственные новой эпохе: и «круговую поруку добра» [245]245
30 Из статьи «Искусство при свете совести»: «А вот стихи монашенки Ново-Девичьего монастыря… Сообщаю его, как доброе дело. (…) „Все же вы не слабейте душою, / Как придет испытаний пора—/ Человечество живо одною / Круговою порукой добра!“ (…) Этой безвестной монашенкой безвозвратного монастыря дано самое полное определение добра, которое когда-либо существовало: добра, как круговой поруки».
[Закрыть], и «презрение к платью плоти – временному» [246]246
31 Из стихотворения «Отцам» (1935).
[Закрыть]. Оборачиваясь на свое и чужое вчера,она искала и находила в нем живую опору: «…и только малыш Марсель уменьшает мои страдания от недостатка чуткости в окружающем мире принадлежностью к тому поколению, где каждыйуступал место женщине, красива она или нет, где никто не оставался сидеть, когда женщина стояла, и – о, особенно это! – где никто не разговаривал с вами, положив ноги на стул» [247]247
32 Из записной книжки 1932–1933 гг.
[Закрыть].
Упоминание Пруста здесь не случайно: его способ текстуальноговоскрешения прошлого оказался ключом к новому письму для нескольких русских авторов, оставленных наступившей эпохой без места (помимо Цветаевой, здесь можно вспомнить и Кузмина, в 1934 году выстраивавшего «по Прусту» свой последний, экспериментальный дневник). Цветаевский корпус ретроспективной прозы (назвать ее мемуарной было бы очень большой натяжкой), написанный в последние годы, похоже, был призван совершить чисто магическое действие: воскресить (или хотя бы сохранить, поместить в несгораемый шкаф книжной вечности) все и всех, кого она любила, продлить их бытие – и встать рядом с ними: тами так,как хотелось бы ей самой. «Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни – к вам, в вас – умираю. Чем больше вы – здесь, тем больше я – там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве – и в их обратном. Моя смерть – плата за вашу жизнь» [248]248
33 Из «Повести о Сонечке» (1937).
[Закрыть].
Ко времени отъезда эта плата была готова. «Сколько строк, миновавших! Ничего не записываю. С этим – кончено» [249]249
34 Из письма Е. Я. Эфрон. Конец сентября – начало октября 1939 г.
[Закрыть].
* * *
Вместо того чтобы описывать все, что случилось с Мариной Цветаевой дальше, – ее встречу с родными, жизнь взаперти на казенной энкавэдэшной даче, арест дочери, арест мужа, мытарства по тюремным очередям и писательским организациям, первые дни войны, катастрофу эвакуации, предельное одиночество и одинокое самоубийство, я – буква за буквой – перепишу сюда хотя бы часть открытого письма, написанного ею зимой 1937–1938 годов для детского журнала и оставшегося тогда ненапечатанным. Это тот самый прощальный голос здравого смысла,который можно назвать и небесной правдой:правдой высшей учтивости и настоящей (не пытающейся быть таковой) – поэзии; я думаю, он – такой.
Милые дети!
Я никогда о вас отделено не думаю: я всегда думаю, что вы – люди или нелюди, – как мы.
Но говорят: что вы есть, что вы – особая порода, еще поддающаяся воздействию.
Потому:
– Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия ее погибает в пустыне человек.
– Но оттого что я не пролью этой воды, ведь он ее не получит!
– Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше.
Потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице, под ногами, поднимите и положите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет его взять так, чем с земли.
Никогда не бойтесь смешного, и если видите человека в смешном положении: 1) постарайтесь его из него извлечь, если же невозможно – 2) прыгайте в него к человеку как в воду, вдвоем глупое положение делится пополам: по половинке на каждого – или же на худой конец – не видьте смешного в смешном!
Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются!(…) У «всех» есть второе имя – никто, и совсем нет лица – пробел. Ну а если вам скажут: «Так никто не делает» (не одевается, не думает и т. д.) – отвечайте: «А я – кто!»
Не ссылайтесь на «немодно», а только на: «неблагородно».
Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами и вы будете ими.
Кроме того, для вас они – родители, для самих себя – я. Не исчерпывайте их – их родительством.
Не осуждайте своих родителей на смерть раньше (своих) сорока лет. А тогда – рука не поднимется!..








