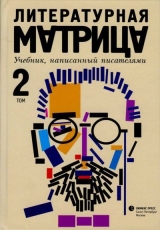
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Автор книги: Андрей Рубанов
Соавторы: Людмила Петрушевская,Дмитрий Быков,Роман Сенчин,Максим Кантор,Александр Кабаков,Павел Крусанов,Ольга Славникова,Александр Етоев,Герман Садулаев,Мария Степанова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Будет ли смешное смешным, если время не успело залечить рану от произошедшей трагедии? Не кощунством ли будет смех, вытекающий из стилистики изложения?
Не знаю. Честное слово. Это я не в упрек Зощенко. Он-то тут ни при чем. Писатель пишет так, как считает нужным. Но ведь и читатель волен воспринимать написанное своими глазами. И глаза у каждого читателя разные.
Литература – это увеличительное стекло. Комедия обыкновенного человека при детальном, пристальном рассмотрении превращается в обыкновенную драму. А из множества этих невзрачных и примитивных драм, вызывающих смех и колики в животе у неприхотливых и близоруких зрителей, составляется великое трагедийное полотно под названием «Наша жизнь». В этом суть писателя Зощенко. И власти это понимали прекрасно.
Германия, 1933 год. В соответствии с «черным списком» книг, подлежащих сожжению, уничтожаются книги Зощенко.
Россия, 1940-е – середина 1950-х. Зощенко как писателя практически изымают из литературы.
«Разве этот дурак, балаганный рассказчик, писака Зощенко может воспитывать?..» – скажет о писателе Сталин. И спустит на Зощенко свору «тонкошеих вождей» [374]374
Из стихотворения О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны…»: «А где хватит на полразговорца, / Там припомнят кремлевского горца. (…) А вокруг него сброд тонкошеих вождей, / Он играет услугами полулюдей». – Прим. ред.
[Закрыть]во главе с погромщиком Ждановым, тогдашним главным ленинградским партийным боссом.
Долго еще потом всякая литературная шавка, которых в те печальные годы расплодилось, как мух в навозе, старалась его облаять.
Евгений Шварц писал про таких в своих записных книжках: «История есть история. И некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось им взгромоздиться».
Беглым взглядом пройдясь по вехам жизни писателя военных и первых послевоенных лет, удивляешься всякий раз: умели все-таки наши партайгеноссе играть в игры с творческими людьми, ох, умели!
1943 год, август. Журнал «Октябрь» начинает печатать повесть «Перед восходом солнца».
1943 год, ноябрь. Публикация останавливается.
1943 год, декабрь. Повесть Зощенко объявлена «политически вредным и антихудожественным произведением», сочинением, «чуждым интересам народа». Выходят специальные постановления ЦК ВКП(б), связанные с публикацией повести.
1944–1945. Шельмование в прессе и редкие публикации (два рассказа в журналах «Звезда» и «Пограничник», один в газете «Смена»). Полунищенское существование (семья Зощенко живет продажей вещей).
Конец 1945 года. Предложения печататься из журнала «Ленинград», газет «Известия», «Комсомольскач правда» и др.
1946, апрель. Зощенко награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (до этого, в 1939 году, награжден орденом Трудового Красного Знамени).
1946, июнь. Введен в состав редколлегии журнала «Звезда».
1946, 14 августа. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».
1946, 15 и 16 августа. Доклады Жданова на собраниях ленинградского партактива и писателей.
1946, 20 и 21 августа. Публикация постановления в газетах «Правда» и «Культура и жизнь».
1946, осень – зима. Зощенко исключен из Союза писателей. Лишен продуктовой карточки. Издательства расторгают с ним все договоры и требуют возвращения авансов.
1947, весна. Возвращение продуктовой карточки.
1947, июнь. Зощенко вызывают в Москву для заключения договора на публикацию цикла «партизанских рассказов» (личное указание Сталина).
Кнут – пряник, кнут – пряник, дали в морду – наградили медалью, пнули – разрешили публиковаться. Словом, повседневная жизнь русской литературы того периода.
Интересны опубликованные в недавние годы так называемые «спецдонесения» о писательских настроениях и разговорах военных лет. Их авторы – специально завербованные госбезопасностью люди, часто из ближайшего окружения человека, к которому их приставили. Иначе говоря – стукачи.
Вот отрывок из информации, доставленной Жданову в октябре 1944 года наркомом госбезопасности В. Меркуловым.
Запись разговоров писателя Константина Федина по поводу разгрома в «Правде» его книги «Горький среди нас»: «Не нужно заблуждаться, – говорил он в своем кругу, – современные писатели превратились в патефоны. Пластинки, изготовленные на потребу дня, крутятся на этих патефонах, и все они хрипят совершенно одинаково».
Запись разговоров Корнея Чуковского: «В литературе хотят навести порядок. (…) Нас, писателей, хотят заставить нести службу, как и всех остальных людей».
Само собой, не обойден был стукачами и Зощенко.
Непосредственным поводом для удара из августовских партийных пушек 1946 года стал рассказ Зощенко «Приключения обезьяны», впервые напечатанный в декабре 1945-го в журнале «Мурзилка» и переизданный летом 1946 года на страницах ленинградского журнала «Звезда».
В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором находились один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна или, попросту говоря, мартышка. И, конечно, разная мелочь – птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная чепуха из жизни животных…
Так начинается «крамольное» сочинение Зощенко.
Дальше, по ходу рассказа, обезьянка убегает из клетки, потому что фашистская бомба упала прямо в зоологический сад и клетку опрокинуло воздушной волной. Потом обезьянка попадает в соседний город, ворует в магазине морковку – она же обезьяна, она же не понимает, что за морковку надо платить. За ней гонятся, и обезьянка, спасаясь от погони, попадает к мальчику Алеше Попову, который очень любил обезьян и всю жизнь мечтал за ними ухаживать. Мальчик приносит обезьянку домой, поит чаем и собирается воспитать ее как человека. А с Алешей жила его бабушка, которая сильно невзлюбила обезьянку за то, что та съела ее надкушенную конфету. И когда на другой день Алеша ушел в школу, она не стала за обезьянкой присматривать и нарочно заснула в кресле. Обезьянка вылезла через открытую форточку и стала прогуливаться по улице, по солнечной ее стороне. А в это время по той же улице и тоже по солнечной стороне проходил инвалид Гаврилыч. Он направлялся в баню. Увидев обезьянку, инвалид сперва не поверил – подумал, что ему померещилось, потому что перед этим он выпил кружку пива. Но потом до инвалида дошло, что обезьяна-то настоящая, и решил он ее словить. Словить, снести на рынок, продать ее там за сто рублей и выпить на эти деньги десять кружек пива подряд. Но перед этим помыть обезьянку в бане, чтобы она стала чистенькая, опрятненькая и ее легче было продать. В бане в глаза мартышке попало мыло, и она укусила инвалида за палец и убежала снова. И опять за ней погналась вся улица – мальчишки, взрослые, за ними милиционер со свистком, за милиционером престарелый Гаврилыч с укушенным пальцем и сапогами в руках. А мальчик Алеша Попов, который к тому времени уже обнаружил пропажу и сильно из-за этого опечалился, решил пойти прогуляться, развеять свою печаль. Вышел он со двора и видит – шум, крики, толпа. А навстречу ему – его обезьянка. Алеша схватил обезьянку на руки и прижал к груди. Тут из толпы вышел престарелый Гаврилыч, сказал, что обезьянка его, что он завтра хочет ее продать, и в доказательство предъявил народу свой укушенный палец. Нет, сказал на это Алеша, обезьянка его, Алешина, иначе с какой бы стати она прыгнула к нему на руки. Но тут из толпы вышел шофер, тот самый, который привез обезьянку в город, и сказал, что обезьянка принадлежит ему, но он, так и быть, подарит ее тому, кто так бережно и с любовью держит ее на руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно продать ради выпивки.
Прошу прощения за утомительный пересказ, самого Зощенко читать веселее.
Теперь заглянем в партийные документы.
Из доклада А. Жданова «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“»: «Если вы повнимательнее вчитаетесь и вдумаетесь в рассказ „Приключение обезьяны“, то вы увидите, что Зощенко наделяет обезьяну ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которой дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяне гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей. (…) Только подонки литературы могут создавать подобные „произведения“…»
Сталин (выступая на заседании Оргбюро ЦК по вопросу о ленинградских журналах): «Зощенко пишет что-то похожее на рвотный порошок».
Фраза о «балаганном писаке Зощенко», сказанная тогда же, была процитирована выше.
Сам Зощенко откровенно не понимал, почему ему роют яму. Он наивно считал, что причина кроется в личной обиде на него Сталина, якобы углядевшего в одном из рассказов цикла «Рассказы о Ленине» («Ленин и часовой») себя в образе грубого человека с усами, который набросился в Смольном на часового Лобанова за то, что тот заставил Ленина предъявить пропуск.
На самом деле причина была не в этом. Власти нужен был козел отпущения – для того, чтобы показать художественной интеллигенции, распустившейся за годы войны и порою даже осмеливавшейся прилюдно говорить правду, кто на этом свете хозяин. Первоначально в претендентах на эту роль (козла отпущения) числились поэты Илья Сельвинский и Борис Пастернак. Но их известность ни в коей мере не шла в сравнение с всенародной славой писателя Михаила Зощенко. Тем более еще не улеглась муть после печально знаменитой публикации книги «Перед восходом солнца» и устроенного по этому случаю публичного бичевания автора.
Вот Зощенко и приговорили к высшей мере литературного наказания – вычеркнули из литературы, чтобы другим неповадно было. А вычеркнуть человека из литературы, лишить его литературного заработка, для писателя значит примерно то же, что быть вычеркнутым из жизни.
Последняя точка в писательской судьбе Михаила Зощенко была поставлена в мае 1954 года. Зощенко, выступая в ленинградском Доме писателя перед английскими студентами (те настаивали, чтобы писатель Зощенко на этой встрече присутствовал непременно), публично заявил о своем несогласии с августовским постановлением 1946 года. «Я русский офицер. Как я могу согласиться с тем, что я подонок?» – примерно таков был ответ Зощенко на вопрос, заданный по этому поводу.
И снова пошло-поехало.
Писатель, поперший против авторитета партии, предан анафеме. Зощенко пытается оправдаться, но это все равно что бросать слова в лицо медному истукану.
«Постаревший, исхудавший, с обострившимся носом, бледный до ужаса, словно и потерявший человеческие измерения – один профиль, – и цвет лица живого человека, он говорил, и мучению этому не было конца. Не предвиделось конца».
Это из записей Евгения Шварца после общего собрания писателей 15 июня 1954 года.
Сам Зощенко на этом собрании высказался так: «Я могу сказать – моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я уничтожен, как последний сукин сын… У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего… Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею». И сошел в зал.
Писатель Константин Симонов, представитель партии и Москвы, тут же отпустил реплику: «Товарищ Зощенко бьет на жалость».
Лидия Чуковская, посетившая писателя в это время, пишет: «У него нет возраста, он – тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь».
Вот такой рукотворный памятник воздвигло советское государство одному из самых читаемых и любимых в народе авторов.
Умер Зощенко 22 июля 1958 года. Похоронен в городе Сестрорецке – хоронить писателя на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде власти не разрешили.
Заключить рассказ о писателе хочется фразой Осипа Мандельштама, под которой я готов подписаться, не задумываясь ни на секунду: «Если бы я поехал в Эривань (…) я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зощенки и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей…»
Всё.
Не всё. Сейчас Зощенко издается и переиздается. Собирается по крупицам его многочисленное писательское наследие – рассказы, очерки, фельетоны, которые писатель щедрой рукой разбрасывал по страницам довоенных газет и журналов. Выходят собрания сочинений Зощенко. Это правильно. Жизнь расставила все по своим местам. Справедливость, как говорится, восторжествовала, хотя и поздно.
Но история такая непутевая дама, что, бывает, чуть она зазевается, как опять угрюмость и скука одерживают над смешливостью верх. И снова смех пытаются запереть на ключ в какой-нибудь чулан с тараканами.
Так вот, чтобы этого не случилось, надо чаще перечитывать писателя Михаила Зощенко. Он великий учитель смеха и ничему плохому, кроме хорошего, не научит.
Теперь всё.
Владимир Шаров
НАРОД АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
Андрей Платонович Платонов (1899–1951)
Мне в руки Платонов впервые попал, кажется, в 1967 году. Отцу на день рождения подарили слепую копию «Котлована» – я, пятнадцатилетний, прочитал ее и до сих пор помню свое тогдашнее ощущение от этой вещи, тем более что впоследствии оно изменилось совсем не сильно. К тому времени через мои руки прошло уже немало всякого рода самиздата, советскую власть я давно на дух не принимал, и все равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию приговором, которые власть сама так любила. Я, как и другие, не мог простить советской власти разные и совсем разновеликие вещи, среди которых и миллионы расстрелянных и погибших в лагерях, в том числе две трети моей собственной семьи, и вездесущую фальшь, бездарность. Ко всему прочему эта власть была мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней любопытно. Она казалась мне удивительно холодной, без свойств, без признаков, без эмоций. Некий груз, который давит тебя и давит.
И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так, для которого все в этой власти было тепло, все задевало и трогало, заставляло страдать и вызывало восторг от самой малой удачи. Который – это было ясно – очень долго ей верил, еще дольше пытался верить и был готов работать для нее денно и нощно. То есть он во всех отношениях был мне не пара, для него эта власть была своей (или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала), и вот он выносил ей приговор, причем такой, с каким я еще не сталкивался, потому что более страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось.
Здесь я попытаюсь свести в некую систему впечатления от прозы Платонова, хотя лично мне хватает и того, что на всю первую половину русского XX века я давно уже смотрю через Платонова и понимаю ее в первую очередь благодаря ему.
Вообще, мне кажется, что на революцию с самого начала было два легко различимых взгляда, и суть не в том, что кто-то смотрел на нее с полным сочувствием, а другой – с ненавистью. Просто один взгляд был внешний, чужой, сторонний. У хороших писателей он был очень точным, очень жестким и резким: со стороны многое вообще замечательно ясно видно и замечательно понятно. Но в стороннем взгляде всегда – доминанта силы, яркости; глаз со стороны мгновенно ловит и выделяет все контрасты. Этот взгляд полон романтики, и в первую очередь он видел в революции время начала одного и конца другого. Вся та сложнейшая паутина цивилизации, все правила, условности, этикет разом рухнули, и мир вдруг в одно мгновение стал принадлежать первобытным героям, снова вернулся в состояние дикости, варварства и удали.
Тех, кто смотрел со стороны, было очень много, потому что большинство пишущих выросли в старой культуре, любили ее и ценили. Теперь, когда она была разрушена, они честно пытались понять, что идет ей на смену, но им это было очень тяжело. Платонов же мне представляется писателем, может быть, единственным или, во всяком случае, одним из немногих, кто и видел, и знал, и понимал революцию изнутри. Изнутри же все было другим.
Мне кажется, что для Платонова очевидной была связь революции в понимании мира с изначально общехристианской, но давно уже собственно русской эсхатологической [375]375
Эсхатологический (греч.cschatos – «последний» – принадлежащий религиозному учению о «последних вещах», то есть о смерти, о конечной судьбе мира и человека, о воскресении мертвых и Страшном суде. – Прим. ред.
[Закрыть]традицией, с самыми разными сектами, которых во второй половине XIX – начале XX века, как известно, было в стране великое множество. Члены этих сект тоже со дня на день ожидали конца старого мира, верили в него и его торопили, как могли его приближали.
Они ждали прихода Христа и начала мира нового. И это начало нового мира было связано для них не просто с отказом от прошлой жизни, но с отказом от тела, от плоти – главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку исправиться и начать жить праведно, в соответствии с Божьими заветами.
Сектанты в зависимости от того учения, которое они исповедовали, как могли, умерщвляли свою плоть, чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а плоти – этих вериг, которые тянут человека в грех, на дно, в ад, – было меньше. И вот герои Платонова, будь то в «Джане», «Чевенгуре» или «Котловане», как и вся Россия времени революции и Гражданской войны, идут по этому пути. Пока сильные бесстрашные герои – белые – сражаются с сильными бесстрашными героями – красными, не жалея ни своей, ни чужой жизни, в остальной России с каждым днем становится неизмеримо больше духа; он виден сквозь совсем разреженную плоть людей, которые едва-едва не умирают от голода, от тифа, от холеры.
Эти люди, если говорить об их плотском, бесконечно слабы, они все время колеблются, томятся и никак не могут решить – жить им или умереть. Их манят два совсем похожих (и от этого так труден выбор) светлых царства: одно привычное – рай, другое – обещанное здесь, на земле, – коммунизм. И люди колеблются; в общем, им все равно, их даже не очень волнует, воскреснут ли они только в духе или во плоти тоже, потому что большую часть пути в отказе от плоти, от своего тела они уже прошли, и о том времени, когда именно тело правило ими, вспоминают безо всякой нежности.
Мне кажется, что для большой части России это очищение через страдания, через многолетний жесточайший голод, вынужденный пост могло казаться и казалось тем, о чем люди веками молились, понимая, что без этого спасение невозможно. Платонов так своих героев и пишет. Когда я его читаю, у меня все время есть чисто физическое ощущение, что он боится их брать, трогать по той же самой причине: плоть их настолько тонка, ветха, и они так слабы, что ненароком, беря, можно их повредить, поранить.
И другое ощущение: какой-то невозможной стеснительности и стыдливости, потому что та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем плоти, здесь почти обнажена, и ты стесняешься на это смотреть, стесняешься это видеть. Ты никак не можешь понять, имеешь ли ты вообще право это видеть, потому что ты привык, что это видит, знает, судит только Высшая сила, и то – когда человек уже умер и его душа отлетела к Богу, предстала перед Его судом.
Во всем этом есть нарушение естественного хода жизни, ее правил, законов, всего порядка. Для человека, пришедшего из прошлой жизни, все навыки, которые он оттуда принес, здесь абсолютно непригодны. Это явно страна людей, которые уже изготовились к смерти, которые ее совсем не боятся и совсем не ценят жизнь. И их долго, очень долго надо будет уговаривать жить, не умирать. Хотя бы попробовать жить.
Про жизнь они знают, что она есть страдание и мука. Смерть же, наоборот, – отдых и избавление. Они голодны, но мало вспоминают еду, потому что успели привыкнуть к тому, что ее или вообще нет, или есть какие-то неимоверные крохи. Еду в том, что писал Платонов, заменяет тепло. Все-таки тепло они ценят. Это и понятно: плоть редка и прозрачна, и люди все время мерзнут. Но и это тепло чаще не от еды, а от умирающих, сгорающих рядом в тифозной горячке.
Те «пророки», которые агитируют, убеждают эту изготовившуюся к смерти страну жить, полны веры, и за ними в конце концов пойдут. Мы же, родившиеся позже, в свою очередь знаем, что страна будет ими обманута.
Здесь, мне кажется, уместно небольшое замечание исторического характера. Очень многие у нас в стране до сих пор настаивают, что победа большевиков в 1917 году абсолютно ни из чего не вытекала, что это заговор или безумная случайность, наваждение, мистика, – то есть вещь, никакими здравыми суждениями не объяснимая. Я так не думаю. По-моему, революция страстно ожидалась огромным числом самых разных людей, партий, религиозных групп. Эти силы часто ничего друг о друге не знали и друг другом не интересовались, но в самых важных вещах они были близки, и их совместные усилия в феврале 1917 года довольно легко свалили монархию. Всем им тот режим, да и вообще жизнь, которой они жили, представлялась бесконечным злом, царством антихриста, которое должно быть свергнуто, невзирая ни на какие жертвы.
Кто же они были и откуда начались, пошли все эти идеи, настроения, почему страна так легко и резко свернула с прежней дороги? Начнем с нескольких общих и, в сущности, боковых соображений о людях, которые и составили то, что по справедливости следует назвать «народом Андрея Платонова».
Есть такая замечательная дисциплина «топонимика» – наука о географических названиях. И вот из нее следует, что сплошь и рядом имена городов и рек, гор и даже стран живут многие сотни, даже тысячи лет, а от людей, которые дали эти имена, которые пахали и защищали эту землю, возводили на ней дома и прокладывали дороги, главное – которые в ней любили и рожали детей, думали о мироздании и молились Богу, – от них не остается ничего. Лишь археологи, перелопатив тонны и тонны грунта, находят скудные доказательства того, что люди эти не были ни фантомом, ни миражом, а в самом деле здесь некогда обитали. На сей счет есть две очень мрачные сентенции. Первая: «поле боя после битвы принадлежит мародерам» – и вторая: «палачи наследуют своим жертвам».
Литературоведение – наука об общем у писателей, и от этого никуда не деться. Как в анатомическом театре, едва врач вскроет труп человека, сразу делается видно, что по своему внутреннему устройству все мы разительно друг на друга похожи, так и в учебниках у каждого из нас – наборы одних и тех же жанров, приемов, методов и стилей. На самом деле каждый, конечно, понимает: единственное, что в писателе интересно и стоит изучать, – это непохожесть мира, который он пишет, на миры его собратьев; соответственно, и читать надо книги, а не учебники. Книги – вещь живая, именно жизнь со всем, что в ней есть, делает нас отличными друг от друга. Настоящий писатель, конечно, штучный товар, и никаким другим писателем он не может быть заменен. Если его изъять из литературы – как было с Андреем Платоновым – не издавать его рукописей, тем паче посадить в тюрьму или просто убить, место, которое должны были занять его книги (стихи, проза), так и останется пустым.
Все это я веду к тому, что, как показала история, даже люди, по внешности очень крепко стоящие на ногах, удивительно непрочны. Они легко уходят, покидают землю, на которой выросли, еще легче гибнут, умирают, а в их домах поселяются другие: в самом известном романе Андрея Платонова, «Чевенгур», – «прочие», которые о тех, кто жил здесь до них, ничего не знают и не хотят знать. В итоге ни в чьей памяти не остается ни единого следа. Хороший прозаик спасает от забвения целое племя, Платонов в повести «Джан» – целый народ, десятки, а то и сотни не типов, не персонажей, не каких-то условных и не очень понятных фигур, олицетворений того-то и того-то, а живых душ. Рассказ, повесть, роман – это всегда некий «Синодик опальных» [376]376
«Синодик опальных»(«Синодик опальных царя Иоанна Грозного») – составленный по указанию Ивана Грозного список имен тех, кто был казнен в годы его правления, для поминовения их во время богослужения. – Прим, ред.
[Закрыть]: каждый писатель поминает тех, кого он любил, знал, а следом за ним – их поминают его читатели, благодаря чему эти люди так и останутся живыми, не сгинут и не растворятся в небытии.
В своих повестях и романах Платонов иногда пишет чужих, «прочих», пришлых – тех, кто, как кочевники древности, неведомо откуда пришли и скоро неведомо куда уйдут (в его прозе много бродяг, странников), но куда чаще его герои сплошь здешние. Тут они родились, в этой земле у них все корни, более того – ничего другого они никогда не видели и не знали. И вот однажды что-то происходит в их головах, в их душах, и они начинают видеть мир совсем не так, как прежде. Последнего вполне достаточно, чтобы мир и в самом деле разом стал иным, чтобы в нем всё и в одночасье переменилось. Нередко так радикально, что добро вдруг начинает казаться злом и наоборот.
Соответственно эти люди и ведут себя на страницах платоновской прозы. Но суть меньше всего в том, сочувствует им автор или нет, неважно и то, сколько в них силы, веры в свою правоту, – Платонов выбирает единственно тех, на чьих лицах есть то, что врачи называют «маской смерти». Писатель будто знает, что их понимание мира и они сами скоро погибнут, в лучшем случае без остатка растворятся в остальном народе, и Платонов плачет – оплакивает и их, и тех, кого они убили во имя своей правды. Он плачет обо всем том горе, которое они принесли и сами претерпели, об их надеждах, их упованиях и заблуждениях.
Разговор о происхождении, родословии платоновского народа, наверное, стоит начать со следующей вставки. В любой истории, но в русской особенно, велик контраст между жизнью светской и жизнью в Боге. Хотя между ними нет непроходимой стены (скорее, та и та – сообщающиеся сосуды), в них живут два совсем разных народа. В каждом, конечно, много колеблющихся, и страшные бедствия – катастрофы, голод, вражеские нашествия – с невероятной силой гонят людей из их обычной жизни (она на глазах со всей своей культурой, со всеми своими правилами и обычаями разрушается) в тот народ, что обращен к концу, к последним временам и Страшному суду. В народ, который испокон века живет так, чтобы всегда быть готовым предстать перед Господом. С другой стороны, периоды долгого и прочного успокоения почти всех возвращают обратно в жизнь, которую принято считать нормальной. К 1917 году страна была разорена Первой мировой войной, и этот переход из одного народа в другой обеспечил большевикам победу. В общем, для народа, который можно условно назвать «народом веры» (а он и интересует Платонова), реальность – маленький суетливый поплавок, пляшущий на поверхности воды, в то время когда любому ясно, что суть – в рыбе, которая вот сейчас подошла к наживке и то ли уже клюнула, заглотнула крючок, то ли еще только примеривается.
Просто для примера: в привычной нам истории Петр I – главный герой платоновской повести «Епифанские шлюзы» – это сухопутные и морские победы, реформа госаппарата, Ништадтский мирный договор; и в этой череде громких событий брадобритие – мелкий эпизод борьбы с традиционной русской косностью. Для «народа веры» же все наоборот: в его мире указ Петра означает, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, теперь окончательно порывает со Всевышним и делает все, чтобы походить на сатану. То же и русско-японская война, с которой начался катастрофический для нас XX век. Для «народа веры» не слишком важно, кто такие японцы, где и как они живут. Он почти ничего не знает о крейсере «Варяг» и о сдаче Порт-Артура, но совершенно ясно и точно понимает, что раз православное царство терпит поражение, значит, Господь отвернулся от своего избранного народа и антихрист уже вот, на пороге. То есть для людей, о которых пишет Платонов, важны совершенно другие события и другие детали, и это так, что бы он ни писал – трагедию или абсурд.
В сентябре 2004 года я принял участие в конференции, посвященной Андрею Платонову, по преимуществу – роману «Чевенгур». Услышанное на ней, плюс прочитанное в томе нового собрания сочинений (в него вошла публицистика 1920-х годов, очень подробно и качественно откомментированная) и в очередном сборнике «Страна философов» неожиданно легко соединилось с представлениями о русской истории, которые бродили во мне лет двадцать назад, когда я еще профессионально занимался этими темами. Многое было дополнено до целого, так что стало казаться, что можно связно объяснить и собственную судьбу Андрея Платонова, и судьбу его народа.
Корень платоновского народа весьма и весьма древен. Известно, что христианство, каким оно появилось на свет Божий, было религией «конца». Первые поколения христиан, видя, что чаша человеческих грехов давно переполнена, верили, что второй раз Христос ступит на землю уже при их жизни, уже при них придет время Страшного суда и торжества праведных. Потом, за столетия, большинство хотя шаг за шагом и смирится, привыкнет к тому, что знать час Его нового явления не дано никому – пути Господни неисповедимы, – эта загнанная в подполье начальная вера то и дело, в том числе и в России, будет вырываться на поверхность.
На XV век падает сразу несколько важных для нашей истории событий, главные из которых – отказ Москвы утвердить унию католической и православной церквей, подписанную на Ферраро-Флорентииском соборе главой русской церкви митрополитом Исидором, захват турками столицы православия Константинополя и освобождение Москвы от татаро-монгольского ига. Под их влиянием Русь пересматривает весь комплекс отношений между собой и миром. В произошедших событиях церковные литераторы XV века увидели ясное, не допускающее сомнений свидетельство того, что Христос и вправду повернулся лицом к тонущим в грехах и страданиях потомкам Адама. Все более и более настойчиво они стали убеждать московских князей, что именно им суждено возглавить поход сил добра, сыграть главную роль в спасении и распространении истинной веры.
Это был взгляд, с одной стороны, очевидно обращенный к концу, а с другой – неслыханно, к самому престолу Господню возносивший и Русскую землю – новую Святую землю, и русский народ – единственный независимый народ, сохранивший истинную веру, новый народ Божий, а также русских царей – Его наместников на земле.
Страна это приняла легко и сразу – возможно, потому, что, затерянная среди лесов и болот огромной восточно-европейской равнины, почти отрезанная при татарах от остального мира, и сама чувствовала себя словно монах в скиту. Доктрина «Москва – Третий Рим», настаивающая, что дальше не будет уже ничего, что этот Рим последний, на нем и кончится земная жизнь – именно от заброшенности и одиночества, от ненужности никаких компромиссов с окружающим миром. От убеждения, что другого мира, во всяком случае, правильного, угодного Богу, нет и быть не может.








